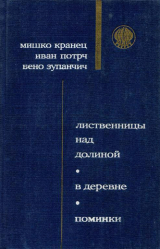
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– Ну что же, позвони ему разок-другой. Большего он не заслужил, не пожелал причаститься, грешник был, коммунист.
– «Всекрестьянская коллективизация» уходит от нашей «церковной кафедры и исповедальни», – сказал Яка, когда священник направился к дому. Тот поднял глаза: на верхних ступенях лестницы торговка Катра прощалась с его кухаркой и сестрой Метой. Насупившись, Яка сказал:
– Эта баба выложила Мете собранные по белу свету сплетни. Могу поручиться, достанутся нам
НА ЗАВТРАК ВМЕСТО ВОДКИ КОЕ-КАКИЕ НОВОСТИ,
причем весьма важные, и будет в них упоминаться мое вконец обесславленное имя. Конечно, не избежать нам при этом и бесценных нравоучений.
При виде их Мета мигом испарилась. Теплые лучи утреннего солнца заливали лестницу, по которой спорщики поднялись в дом. В открытую дверь и сквозь окно с разноцветными стеклами снопы солнечных лучей ворвались в сени.
Алеш Луканц стоял у окна в комнате священника – в его канцелярии – и оттуда поглядывал на Петера и Яку, пока те спорили за церковью. Он решил сегодня же отправиться дальше – его тянуло в Подлесу, хотелось поскорей встретиться и поговорить с Минкой – ему и присниться не могло, что в действительности творилось с его избранницей.
– Этот уж, во всяком случае, сладко спал и выспался, – кольнул художник активиста, когда они со священником шумно вошли в комнату. Сняв пелерину, священник положил ее прямо на письменный стол, туда же швырнул и свой черный четырехугольный головной убор – принадлежность сана.
– Если уж можно кому позавидовать, – ответил Алеш Луканц столь же язвительно, – так это тебе: с утра пораньше, натощак ты забавляешься с невинными ангелочками в святилище красоты. И если вдобавок священник Петер отпустил тебе грехи, тебе следовало бы тут же пожелать смерти: твои ангелочки сразу бы слетелись к тебе.
– Ангелочки! – воскликнул священник Петер. – Как бы не так. Вместо ангелочков он рисует фабричных девчонок. Но ради бога – хватит препирательств. Не люблю я эту старую словенскую привычку. Небеса достаточно просторны для всех, кто пожелает туда попасть и, конечно, того заслужит. И тебе, Алеш, эта милость не заказана.
– Охо! – воскликнул Алеш и сложил руки, словно собираясь молиться, – каким же это образом, дружище? Там, на небе, слишком хорошо осведомлены о тех, кто всей душой предан партии. Надеюсь, ты не помышляешь о моем отступничестве? Или, может, в небесах открыли резервацию для коммунистов, какие в Америке существуют для индейцев?
– Бог теперь смотрит на вещи широко, без предрассудков, – вмешался Яка.
– Он терпелив и беспредельно милостив, – сказал священник Петер убежденно.
Яка подмигнул Алешу, тихонько посмеиваясь, а вслух сказал:
– Если папе римскому станут известны твои речи, он тебе покажет! Сдается мне, ты и твой словенский бог во время бессонницы и на эту тему дискутировали!
Священник наморщил лоб и сурово сдвинул седые косматые брови. Но, подавив в себе раздражение, по-детски прямодушно ответил:
– Что поделаешь, раз он, как и я, не может уснуть. Не знаю, есть ли в Ватикане какой другой бог или нет. Только уж, во всяком случае, он не такой, каким ты его намалевал у лиственниц над долиной. Хотя, скажу я тебе, и святой Франциск, и святой Августин, и святой Фома, и святая Терезия – все по-своему видели бога.
– Вот-вот! – Яка обеими руками ухватился за предложенное объяснение, словно за нитку разматывающегося клубка. – Ведь каждый ребенок знает, что посещающий тебя бог – это самый обыкновенный краинский горьянский бог и что жители каждой словенской области, будь то хоть Приморье, Штирия, Доленьская, Рибница или Прекмурье, имеют своего бога, еще более крестьянского, чем этот твой, у которого индустрия отнимает людей – он потерял бы их куда больше, если бы наши земляки не были такими упрямыми. Поэтому здешний бог отличается широтой взглядов. Он не клерикал.
Дверь комнаты с грохотом распахнулась. Мета на огромном жестяном подносе принесла завтрак: кринку с молоком, чашки, ложки, нож, каравай хлеба и горный мед с собственной пасеки Петера.
– Что, не можешь с места подняться и закрыть за мной дверь? Не чувствуешь, что ли, какой сквозняк? – набросилась она на художника, которому до сих пор не могла простить, что он в юности обманул высокочтимого бога, а заодно и ее брата, который дал парню образование. Она обращалась с ним как с работником. Смутившись, Яка оглянулся на священника и Алеша, но тут же рассмеялся и весело сказал:
– Двери хотят, чтобы следом за тобой в комнату вошла частица весны, а может, еще и бутылочка. Ты вместо этого приносишь одну слякоть.
Мета ничего не ответила, хотя никогда перед ним в долгу не оставалась. На этот раз она обратилась к Алешу, который по-прежнему стоял у окна:
– А ты все еще тут околачиваешься? Что, снова пришел обещать нам рай на земле? Теперь, когда мы уже десять лет живем как в аду…
– Колючая ты, Метка, – воскликнул Алеш, едва переводя дух. – Сама виновата, – добавил он с улыбкой, – слишком меня избаловала, когда во время войны за мной, раненым, ухаживала.
– Если бы мне, несчастной, тогда голову не заморочили! – громко воскликнула Мета.
– А ты не жалей, – сказал Яка. – Поступок самаритянина искупает грехи нескольких тысяч дней, а может, и всей жизни! А что касается рая – Алеш, ведь ты и вправду обещал нам его, и вот Мета, так сказать, в соответствии с твоими обещаниями приносит нам чистейшего, ну просто пастеризованного молока, годного для новорожденных, не хватает только соски! – Он обернулся к священнику и добавил: – А о водке, похоже, хозяйка забыла. Если бы она не захватила только стаканчиков, это еще можно было бы простить, но я что-то и бутылки не вижу. Придется тебе прибегнуть к утаенному запасу, дружище!
Услышав последние слова, священник покраснел и сказал сестре, вконец расстроенный:
– Ну как ты могла, дорогая сестрица!
Алеш словно стал вспоминать:
– Такого, Метка, не случалось, когда мы приходили к вам в титовках[3] с красными звездами. А домов священнослужителей, где нас так хорошо встречали, было очень, очень мало!
– Звезды мне всегда были не по душе! – проворчала Мета.
– Кроме вифлеемской, – заметил Яка.
Тем временем Мета расставила на столе посуду и выбежала из комнаты, чтобы окаянные парни ее не поддразнивали. Потому что, как бы она ни злилась, в действительности ей было приятно, что Алеш не забыл их с братом и что этот непутевый художник Яка, заблудшая душа, гостит у них в доме.
Но сегодня она чувствовала себя больной и несчастной. А Петер и не подозревал об этом. Приоткрыв двери, он крикнул ей вдогонку:
– Мета, сестрица, принеси нам все-таки водочки, старой, покрепче. Уж сегодня-то ее Яка заслужил.
Довольный, он обернулся к гостям в твердом убеждении, что сестра выполнит его просьбу, и весело сказал Алешу, взглядом указывая на Яку:
– А у него получилось. Когда я на него поглядывал, мне даже казалось, будто это прежний старательный мальчонка, живущий в наших горах, которого бог и я прочили богу в наместники на земле, мне в наследники. Я прямо расчувствовался. Лишь конфитеор он слишком сократил, пришлось мне одному молиться. И в сердце его нет настоящего смирения. Да оно и вообще сейчас встречается редко.
Яка широко улыбнулся и сказал:
– Старательный, хороший мальчонка, живущий в горах, наместник бога на земле! – Настроение его улучшилось. – Если ты, Петер, умеешь обманывать женщин, поищи лучше водки. Из Меты сегодня ничего не выжмешь. Она не даст мне ни глотка, хоть умри.
Когда Петер вышел в свою спальню за припрятанной бутылкой, Яка сказал Алешу:
– Мне ужасно неприятно, что сестра устроит ему из-за нас взбучку. Но без водочки сейчас не обойтись. Ну никак.
Священник вернулся с блаженной улыбкой, держа бутылку бережно, как грудного младенца.
– Обойдемся без стаканчиков, по крестьянскому обычаю, – сказал он, радуясь, что обманул сестру. Передавая бутылку Алешу, он прошептал, как заговорщик: – Отхлебни побольше, сразу прок будет, – и, вздохнув, попытался оправдать Мету: – Что поделаешь – она мне сестра. Не выгонишь ее. Тем более сейчас! Тридцать лет она мне прислуживает! Стар становлюсь, нужна мне она. Да и ей без меня не прожить.
Художник вздохнул и покачал головой.
– Как бы она сама не выгнала тебя из дому! И кто стал бы тебе без нее по утрам или еще накануне вечером подсказывать, о каких грехах нужно читать воскресную проповедь? А так они с Катрой снабжают тебя материалом, обсудив все грехи в твоем приходе.
Хотя Петер нахмурился, услышав, как непочтительно говорит о нем его прежний любимец, он сдержался и сказал довольно добродушно:
– Эх, иногда я жалуюсь на нее даже высокочтимому богу. Не повезло ему, когда он создавал женщину. Правда, сестра – все же меньшее зло, чем жена. По крайней мере на ночь запрешься от нее в своей комнате и имеешь покой.
Дверь с шумом отворилась. Яка едва успел спрятать за спину бутылку, как в комнату ворвалась Мета. Она остановилась в дверях, словно опасаясь, как бы кто из них не сбежал.
– Не обо мне ли вы сейчас судачили, негодники?
– Что ты, что ты! – воскликнул Яка великодушно, руководствуясь самыми добрыми побуждениями. – Или, если по правде сказать, дорогая Мета, я хотел было начать, и только из-за водки, которую ты для нас пожалела. Когда дело касается церковного или твоего собственного добра, ты становишься воплощением скупости. Ну что ж, водка у тебя останется, а брату твоему будет стыдно.
Глаза Меты грозно сверкнули, и она обрушила на брата целое словоизвержение:
– Я уже говорила тебе – вышвырни за дверь этого поганого художника! – И далее убогая сельская кухарка продолжала с таким пафосом, будто всю жизнь занималась декламацией: – Художник! Обманщик он, враль и развратник! Целую неделю грешил с этой беспутной Яковчихой – ночей ему было мало, так он среди бела дня с ней валялся. Вся Подлеса ходила смотреть на него, на распутника! Истрепанный и голодный прибрел он сюда, чтобы здесь отожраться. А ты его, грязного борова, допустил к службе господней, взял себе в помощники! Может, ты его и причастить успел, чего доброго?
Впечатление было такое, будто она неожиданно окатила всех троих ледяной водой. Они то бледнели, то краснели как малые дети. Священник Петер только отмахивался руками – сестра повергла его в полное отчаяние, так нещадно оскорбляя его гостей и чуть ли не выпроваживая их. Алеш вдруг почувствовал себя таким одиноким и потерянным, будто ребенок, оказавшийся в темном лесу, где ничего не видно, кроме клочка подернутого тучами неба над головой. Какую радость ощущал он во время этой поездки! Как празднично было у него на сердце! Ему и в голову не приходило, что Минка его отвергнет. И вообще у него и в мыслях не было, чтобы она могла вести такой образ жизни, как это получалось по словам Меты. Все его прекрасные мечты о «Яковчихе» в единый миг были облиты самой отвратительной грязью. Особенно его задело, что «Яковчиха» оказалась той беспутной женщиной, с которой греховодничал именно этот пижон-художник.
У священника Петера на скулах расцвели пунцовые розы. Нет, он не мог и подумать, чтобы сестра посмела так жестоко оскорблять его гостей, каждый из которых был ему по-своему дорог. «Все мы грешники, – мелькнуло у него в голове, – с каждым из нас может порой что-то случиться,
В ЖИЗНИ НУЖНО МНОГОЕ ВЫНЕСТИ,
человека нельзя так, сгоряча, осуждать». Петер хотел было резко оборвать сестру. Но его опередил Яка, который уже немного пришел в себя и неожиданно принялся громко смеяться, что «церковную кафедру и исповедальню» разозлило еще пуще. Однако художник не дал ей сказать ни слова, бросив язвительно:
– Похоже, «всекрестьянской коллективизации» обидно, что я не снял у нее квартиры? Здешний бог, приятель Петера, наверняка отпустит мне любой из грехов, но этого, с Катрой, он не отпустил бы мне никогда! Ему было бы за меня даже стыдно!
Мета прекрасно знала, кто такая «всекрестьянская коллективизация», а кто «церковная кафедра и исповедальня».
– Было бы неудивительно, – возразила она, – если бы ты попросился к ней на квартиру с харчами. Куда тебя только не заносило! Что ж, у Катры хватило бы ума тебе отказать будь она и помоложе! А ты, – обратилась она столь же зло к Луканцу, у которого от щемящей тоски все еще голова шла кругом и душа горько оплакивала мечты, неожиданно развеянные в прах, – ты приехал к нам посмотреть, как десять лет спустя мы живем здесь при твоем обещанном социализме? Люди, парень, и нынче тут плохо живут – и те, что таскают корзину за спиной, и те, что работают на фабрике. Такого-то счастья у нас и раньше хватало.
Священник Петер опять поднял руки, словно благословляя в церкви своих прихожан, и, сморщившись как от ожога, наконец перебил сестру:
– Побойся бога, Мета! Не смей обижать моих друзей! Чего доброго, еще выгонишь их. – Этого бедняга Петер больше всего боялся, потому что, кроме посещавшего его по ночам бога, у него не было никого, с кем бы он мог по душам поговорить. Но Мета настолько рассвирепела, что теперь принялась и за брата, жестоко бросив ему в лицо:
– Ишь какой шикарный праздник вы здесь устроили – жрете да лясы точите, а твой племянник Виктор осрамил тебя на всю округу.
Опешив, Петер уставился на нее, а она безжалостно продолжала:
– Он отправился с этой проклятой Яковчихой в город. Норовит промотать все, что можно. В городе каждый, кто захочет, пьет за его счет. Музыканты играют ему, люди ждут его в трактирах или толпами бегают за ним. Все судачат о нем и, конечно, о тебе, о дядюшке, тоже, о нас обоих – его родственниках.
Крепко, словно от боли, Мета зажмурилась, чтобы не видеть никого; отдышавшись, она выдавила из себя – твердо, непререкаемо:
– Сейчас же ты пойдешь за ним и приведешь домой, чтобы он вконец не осрамил себя и свой дом, а особенно нас – как-никак мы ему ближняя родня. Не забывай – ты ведь все-таки священник! Что скажут люди? Надо же, чтобы с нами такое случилось!
Мета не могла не заметить, что брата бросило в дрожь. Она не хотела волновать его с утра пораньше, но эти проклятые парни ее довели. Ничуть не лучше чувствовали себя художник Яка и активист Алеш, каждый из них был убежден, что увезет с собой Минку. Алеш только щурился – слишком многое сразу на него обрушилось: сначала Яка, а теперь, оказывается, еще история с Виктором в городе. Яка тоже был потрясен: ему казалось, они с Минкой обо всем договорились: о встрече, о будущей совместной жизни, – а теперь, выходит, она путается с другим! Обернувшись к Алешу, он неожиданно для самого себя воскликнул с разудалой веселостью, хотя сердце его было преисполнено отчаянием:
– Хотел я тебя пригласить на свадьбу, да, похоже, ничего не выйдет – не видать тебе пирушки!
Он был поражен, заметив, что Алеш бледнее священника и его тоже бьет дрожь. Яка спросил:
– А с тобой-то что? Побледнел как полотно – так ведь, кажется, говорят… Неужели и ты собирался жениться? – Пристально вглядевшись в Алеша, прошептал: – На Минке? Яковчихе?
– Давайте завтракать, – неожиданно сказал священник Петер, – и выпьем. – Он перевел взгляд с одного на другого. – Я должен идти в долину, вернуть домой несчастного.
– Да, я должен выпить, – вспомнил вдруг Яка и вытащил из-за спины бутылку, не обращая внимания на Мету. – Не жажда меня мучает – хочется напиться.
Он снова страдальчески, через силу, рассмеялся. Пил он долго, словно хотел мигом захмелеть, затем сунул бутылку Алешу.
– Хлебни и ты, жених-неудачник! – И он продолжал смеяться, словно никак не мог оборвать свой сумасшедший хохот. – Я тоже пойду в долину.
– И я с вами, – прошептал Алеш, все еще бледный и растерянный. Он с жадностью схватился за бутылку. Пил он от безграничного отчаяния и разочарования. Рухнули все его надежды.
Превозмогая волнение, священник взглянул на художника и сказал с негодованием и презрением:
– Теперь видишь, какая она, твоя Яковчиха! Мадонна среди цветущих черешен, наша словенская, из округи Урбана, – современная мадонна!
Случилось то, чего художник никак не ожидал от Петера Заврха – тот трижды брезгливо сплюнул, словно перед ним стояла молодая Яковчиха, которую следовало предать публичному позору. Яка, пораженный, смотрел на него во все глаза, лицо его дрогнуло. Алеш вскочил на ноги и, остановившись перед Петером, прошептал, опять заметно бледнея:
– Так нельзя, Петер! Речь идет о человеке!
– О каком человеке? – замигал красный от гнева священник. – О человеке, который разоряет почтенные крестьянские усадьбы, пускает с молотка землю, ниспровергает все святое и губит людей?
– Неправда! – ответил Алеш резко. – Ни одной усадьбы она до сих пор не разорила и никого не убила. Наоборот, я знаю, еще ребенком она спасала людей и спасла многих, в том числе и меня, да и тебя, Петер, тоже.
В гневе Алеш отвернулся от священника и пошел за своим рюкзаком, который еще утром принес с чердака и положил у окна, собираясь сегодня же идти дальше. Он закинул рюкзак за спину. Петер Заврх был смущен и в то же время зол на активиста, посмевшего сказать ему такое прямо в лицо. Но его отвлекла сестра, она вошла в комнату с узелком в руках.
– Вот тебе на дорогу. И чтобы ты привел его домой, иначе он еще пуще нас осрамит. – Она вытерла передником слезы, вызванные семейным несчастьем и позором. – А потаскуху, если увидишь, прокляни.
Яка и Алеш вздрогнули и готовы были наброситься на «церковную кафедру и исповедальню», но им помешал священник.
– Будут меня спрашивать, скажи, что не знаешь, когда я вернусь. Папа римский или епископ ко мне сейчас все равно не приедут. Добрина и старую Яковчиху я могу причастить и по пути, на случай, если они не доживут до моего возвращения. Конечно, ежели они вообще не откажутся от причастия. Хоронить их будут в долине, это уж я знаю. Так или иначе, – пожал он плечами и тряхнул головой, – до бога отовсюду одинаково далеко. – Поясняя свою мысль, он добавил: – Пока живы, они еще остаются в горах, а умрут – хотят лежать в долине. – Он мысленно перебрал всех своих прихожан. – Пусть высокочтимый бог присмотрит за ними, чтобы с кем из них не случилось чего плохого. – И уже за порогом дома обратился к своим спутникам: – Зайдем в церковь, мне нужно взять с собой святые дары.
Он подал было свою палку и стянутую веревкой кожаную сумку художнику, но все это подхватил Алеш, стоявший к нему ближе. Священник словно только теперь его разглядел и сказал серьезно:
– Ты бы лучше тут остался. Ну, зачем тебе идти с нами? Его я еще понимаю, – кивнул он в сторону Яки. – Он как-никак к Яковчихе сватался.
Художник за его спиной расхохотался, так что священник взглянул на него в недоумении. Указывая на Алеша, Яка вытирал глаза, на которых выступили слезы то ли от душевной боли, то ли от бесшабашного смеха.
– Он тоже, он тоже, дорогой Петер! Ты не сердись – но один из нас непременно отобьет ее у Виктора. Вот уж тогда будет веселая свадьба! – Яка громко смеялся, а священник стоял оторопев, не в силах прийти в себя от изумления.
А над ними плыл колокольный звон – звонили все три колокола, – монотонные, слегка приплясывающие звуки вразнобой врывались в сверкающее утро, в шум горных рек огромной котловины, и уносились куда-то вдаль. Когда уже совсем собрались в дорогу, с колокольни спустился церковный сторож и направился к ним; он снял шляпу и помялся, не зная, с чего начать, чтобы не рассердить священника. Ему казалось необходимым немножко посмеяться над тем, что он сейчас делал. Он не заметил, что священник заходил в церковь за святыми дарами, и был убежден, что шутка его понравится:
– Ну вот,
ПОЛЯНЧЕВА ХОРОНИТ СВОЕГО МУЖА,
несчастная, что она теперь будет делать? Если сразу не найдет другого такого же инвалида!..
Священник промолчал, а звонарь вытащил из жилетного кармана старинные никелированные часы, круглые, наподобие яблока или репы, подержал их, будто оценивая, перед собой на ладони, пошевелил губами, словно собираясь причмокнуть, и сказал:
– На моих половина восьмого. Не по радио.
Он снова взглянул на священника, но вместо него колюче ответил Алеш:
– Такие часы, сделанные в прошлом столетии или, может, даже в средние века, – самые лучшие, они никогда не спешат. Для них времена не меняются и, верно, поэтому, для их хозяев тоже. – И Алеш отвернулся. Он не забыл, что в годы войны этому звонарю не мог довериться даже священник. Звонарь все понял, сердито повернулся и пошел прочь.
Старые партизаны вынесли из домишка, что одиноко стоял на горе чуть повыше Подлесы, тело своего боевого товарища Тоне Лебана. Поставив гроб на телегу, они заколотили его поперек досками, собираясь отвезти в долину. Жена покойного, Малка Полянчева, повалилась на гроб с отчаянным криком:
– Тоне, Тоне, ты уходишь… а меня оставляешь одну! Что мне теперь делать, как жить!
Она имела все основания так убиваться. Несколько лет назад, после смерти матери, бедняга осталась без какой-либо подмоги. В один прекрасный день ей стало плохо в поле, она упала и пришла в себя не сразу. Тогда она отправилась в город к старому доктору Прелцу, помогавшему людям, даже когда у них не было денег, только в таких случаях он был грубее и в своих заключениях беспощаднее. Что поделать – никто не обязан задарма быть вежливым. Доктор Прелц осмотрел ее, ощупал, приложил к груди и спине резиновый кружок на длинных трубочках, воткнутых в уши, и сказал коротко и твердо, но против обыкновения довольно ласково:
– Тебя зовут Малкой?
– Малкой, – кивнула та, удивившись, что он знает ее имя, – Полянчева я, господин доктор.
– Так вот, значит, Малка, тебе ничем не помочь.
Она покраснела – краска залила не только ее лицо, но и шею до самой груди.
– Сердце? – спросила она, словно сама себя тоже осмотрела. Она стояла перед ним голая, сверкая обольстительно прекрасным телом, которому жаль было предрекать смерть.
– Сердце, – кивнул доктор, – никуда оно у тебя не годится. Если тебе трудно расставаться с Урбаном, – добавил он, – места здесь и вправду очень красивые – ты совсем не должна работать, иначе будет приступ на пашне, на крутой тропинке – где угодно.
Малка была бедной девушкой, жила она в маленьком домишке и с детства носила корзину за спиной, сейчас у нее была крохотная полоска земли, две лужайки, корова, корм для которой нужно было перетаскать корзиной, две курицы и кошка. И сама она была уже в таком возрасте, когда человек еще не стар, но уже и не совсем молод. А хочешь жить, нужно вовсю работать – либо в селе у богатых крестьян, либо на фабрике.
– Ни на фабрике, ни в поле, – предупредил ее врач, – если еще хочешь жить.
– Еще бы не хотеть! – воскликнула она, с виду такая молодая и цветущая. – Только вот не знаю, на что жить: работать мне нельзя, а сбереженных денег у меня нет.
Спокойный старческий взгляд врача задержался на ее гибком, все еще соблазнительном теле, на крестьянском прыщеватом лице, на синих, отражавших душу глазах, которые смотрели на него с детской доверчивостью. Помолчав, Прелц сказал:
– Я только врач. Тебе следует обратиться в отдел социального обеспечения при районном правлении или в само правление.
– Вы бы уж посылали меня прямо к черту на рога, – воскликнула она, а он рассмеялся. Она пожала пышными плечами и пошла одеваться, так как Прелц уже трижды повторил, что пора бы уж ей одеться – он и осмотрел ее и успел достаточно налюбоваться. А насчет правления он добавил:
– Бывает, кому-нибудь помогут. По крайней мере посоветуют, что делать.
– Была бы я молодая да красивая – тогда бы еще можно было как-то прожить, – вздохнула она и оделась.
То же самое Малка повторила и в отделе социального обеспечения, где ей очень вежливо объяснили, что ей ничего не полагается, за исключением разве небольшого единовременного пособия в случае крайней необходимости. О том, что можно было бы неплохо прожить, будь она молодая и красивая, Малка сказала и в правлении.
– А старая кому я приглянусь! – воскликнула она не то в отчаянии, не то с бесшабашной веселостью, будто ей все нипочем.
– Ничего! – вежливо и остроумно ответил ей служащий; похоже, самому ему жилось неплохо, а другим он ничем в беде помочь не мог, – ничего, Малка, был бы короб, как говорят у нас, а спина найдется!
Малка с облегчением рассмеялась, словно он указал ей золотые райские врата спасения. Однако служащему собственный ответ показался грубым и жестоким, особенно после того, как он вынужден был убедиться, сколь беспокойно бьется Малкино сердце, приложив по ее настоянию руку к ее пышной груди, где его пальцы задержались чуть дольше, чем это было необходимо. Поэтому он попытался исправить сказанное:
– А ты, Малка, случайно, не работала на фабрике в то время, когда мы так нуждались в людях?
– Работу бы я и сейчас нашла – ее хватает и на фабрике, и в деревне, – ответила она, – только вот работать мне нельзя. Да, по правде сказать, на фабричный заработок так же нелегко прожить, как и у нас в селе, таская за спиной корзину.
– И все же люди живут, – возразил служащий и прибавил: – Вероятно, и вправду потому, что работают. Ты должна сама придумать, как дальше тебе жить, – сказал он ей на прощание. – Мы не имеем никакой законной основы тебе что-нибудь выплачивать.
– Жизнь добрее канцелярий, – ответила она, – и потом вы ведь сказали: был бы короб, а спина найдется.
– Найдется, Малка, найдется, и дай бог тебе удачи!
Выходя из правления, она приободрила сама себя: «Никому я такая не нужна. Добра у меня слишком мало, бог меня все никак не приберет, хотя доктор и посулил это. Значит, жить нужно, ведь сама я не сумею отправиться на тот свет…» И ей опять вспомнилась поговорка о коробе и спине.
Неделю спустя она разыскала инвалида Тоне Лебана, а когда они встретились и зашли в трактир, Малка сказала:
– Ты живешь один, не можешь сам справиться, и позаботиться о тебе некому. Я не могу работать ни на фабрике, ни в поле. Если хочешь – я буду за тобой присматривать и все тебе делать.
Вежливо навязавшись ему, Малка прожила у него двое суток. На третий день к вечеру они уложили вещи Тоне и отправились в горы, в ее домик.
И вот после трех лет счастливой совместной жизни у Малки Полянчевой умер муж, стопроцентный инвалид Тоне Лебан. Пришли бывшие партизаны, отругали ее за то, что она велела звонить в колокола и собиралась хоронить его по церковным обрядам.
– Как-никак он человеком был, – сказала она удивленно, хотя удивление это было несколько наигранным.
– Он партизаном был, бойцом, – ответил один из его старых товарищей.
Но что они могли поделать – в церкви на Урбане раздавался колокольный звон. Партизаны перенесли Лебана на телегу, забили гроб дощечками, кто-то из них запер дом, и похоронная процессия двинулась в долину к кладбищу при церкви святой Едрты. Народу в этой процессии было немного. К ней присоединились две женщины, шедшие по своим делам в город, а затем батрак Рок из Раковицы, который отправился
В ДОЛИНУ ИСКАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
именно в это утро, когда дома было особенно неблагополучно. Но батрачка Марта уговорила его пойти как раз сегодня.
Десять лет Рок мечтал, что и для него наступит новое время и станет он тоже равноправным человеком, как и другие люди. Но усадьба Раковица цепко держала его – Рок чувствовал себя хозяином в доме, где подраставший Виктор ничем его не притеснял и ни в чем особо не перечил. Путь в город, в правление, казался Року таким страшным, что он долго не мог на это решиться. Если он и бывал в городе, то лишь в дни ярмарки и не чаще, чем раз в два года; он разглядывал прилавки, витрины, людей, а потом заходил в трактир и обязательно напивался. Затем с пьяной песней возвращался домой и по пути буянил в трактире у Фабиянки. В Раковицу он являлся в таком состоянии, что, как говорится, лыка не вязал. Единственный человек, к которому он мог бы обратиться в правлении, был Алеш Луканц, но тот, говорят, уже здесь не работал. Рок слышал, так, мимоходом, со всех сторон, хотя и весьма неопределенно, будто теперь все люди, находящиеся на службе, имеют право на пенсию. Так говорили рабочие и работницы с фабрики, которых ему приходилось встречать в горах. Рок обращался по этому поводу к общественникам, появлявшимся иногда в здешних краях, они обещали все уладить, но не уладили. Дело где-то застряло, а где именно и почему, Рок не знал. В течение последних двух лет он не раз заговаривал об этом и со своим хозяином Виктором, а однажды и с его дядюшкой, священником Петером. Сначала Виктор не возражал против внесения за своего работника положенной страховки. Но когда в городе сказали, что нужно выплатить страховку за несколько прошлых лет и вдобавок еще штраф, он заявил Року напрямик:
– Хочешь, оставайся у меня на прежних условиях, а если заставишь меня все это платить – ступай куда глаза глядят. Ты, Рок, ведь уже и старый, пенсии твоей тебе и на десять дней не хватит. Как потом будешь жить?
Рок не думал об остальных двадцати днях месяца – только бы получать деньги. Ему казалось, получи он пенсию, – все будет решено. И он женился бы наконец. Возраст его ничуть не смущал, женщин в горах было предостаточно. Он смог бы выбрать даже такую, у которой был бы домишко и что-нибудь в придачу. Он стал бы подрабатывать у богатых крестьян, как-нибудь они бы прожили. В конце концов он мог бы жениться на Марте, которая ему очень нравилась, тем более что не поддавалась ни на какие его ухаживания, – он заподозрил даже, нет ли у нее чего с хозяином.
Именно Марта и спровадила его этим утром в долину. Хозяина несколько дней не было дома, он куда-то запропастился, скорее всего, ушел в город. Рок в его отсутствие был смелее.
– Сейчас тебе самое время уйти из дома, – сказала ему Марта вечером за ужином, – разузнать насчет пенсии. Если у тебя что выгорит, и я бы сходила.
Рок долго все обдумывал. Потом вместо ответа спросил ее:
– Почему ты меня к себе не подпускаешь?
И тупо уставился на нее маленькими глазками. Марта продолжала ужинать, ничего ему не ответив. Тогда он сказал:
– Последнее время – вот уже месяца два – я все на тебя гляжу, и, сдается мне, с тобой что-то неладно.
Марта по-прежнему спокойно ела, но на этот раз должна была что-то ответить. И она сказала:
– Что же это, по-твоему, со мной неладно?
– Сдается мне, у тебя кто-то есть.
Не отрываясь от еды, она спросила:
– Почему ты так думаешь?
– Ты пополнела. Ни с того ни с сего ты не стала бы полнеть. Едим мы как обычно.
– Вот умник-то, – сказала Марта, поднимаясь, чтобы убрать со стола.
Рок не спускал с нее глаз, но она оставалась спокойной. И все же он не утерпел, чтобы не повторить:
– Нет, Марта, вижу я, кто-то у тебя есть.
Она остановилась перед ним с посудой в руках, взглянула на него холодно, не мигая, и вдруг сказала:
– Видно, придется тебе, Рок, нянчить моего ребенка.








