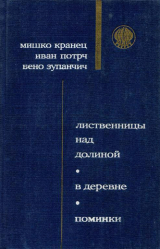
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Хозяина Петера Заврха охватил священный гнев, когда он увидел батрака, а тот остановился, чтобы рассмотреть шедших за ним следом людей.
– Эге, – воскликнул батрак, – смотри-ка, это идут мои господа и сколько их… – Рок снял шляпу и замахал ею, словно кого-то отгоняя или предостерегая. – А теперь поговорим, парни, дальше так дело не пойдет. Дорогой Петер, священник, подожди-ка, дай мне руку и пойдем вместе, потолкуем, знаешь, и я тоже стал человеком!
– Apage![14] – возмутился Петер Заврх, который не смог совладать с собой. События последних дней потрясли его, перепутав все его мысли. – Я тебя не звал.
Виктор подошел к Року и сказал как мог спокойно:
– Если ты не совсем сошел с ума, Рок, иди в Раковицу, а завтра потолкуем.
Поскольку к ним подошли художник и Алеш, Рок уцепился за них:
– Видишь, Алеш, верно ты говорил: теперь у всех есть права. Я ходил в комитет, там мы обо всем поговорили, целых полдня писали и подписывали, и скажу я тебе, парень, Виктора теперь прижмут, кровавыми слезами будет плакать. Зато Рок получит свое: каждый месяц первого числа почтальон будет приносить ему готовенькие денежки, четыре тысячи с мелочью. Виктор! – Рок явно поддразнивал хозяина Раковицы и священника, – теперь мы можем поговорить о том, сколько ты мне будешь платить за работу. Знаешь, Виктор, – Рок словно показывал свою уступчивость и даже положил на плечо хозяину руку, которую тот сразу стряхнул, – тебе придется заплатить штраф, но я верну тебе часть того, что мне выплатят за прошлые годы, а потом…
Тут в разговор вмешался Петер Заврх; не глядя на батрака, он спросил:
– А насчет рабочего времени вы не договорились? – Рок хотел ему ответить, но священник остановился, строго посмотрел на него и изрек словно оскорбленное божество: – Сегодня же забирай свои вещи. В Раковице тебе больше делать нечего. Пусть тебя устраивает твой отдел социального обеспечения! – И Петер, схватив племянника за руку, потянул его за собой, на ходу кинув Року: – Можешь не торопиться, сегодня там выходной.
Рок заморгал глазами и начал трезветь, однако, продолжая упорствовать, возразил:
– А чего это ты командуешь в Раковице? Я говорю с Виктором. Ведь не о твоем приходе речь. – И повернулся к хозяину: – Да подожди ты, Вики. Разве я сказал, что ухожу из Раковицы? Если хочешь, я женюсь на Марте, ты дашь нам немного земли, мы поставим там домишко. А не хочешь, она тоже пойдет в комитет насчет пенсии. Работа для нас сыщется. Не перевелись еще в округе богатые хозяева.
Виктор остановился, он не хотел говорить с Роком. Только сейчас, в конце пути, Виктор начинал приходить в себя и осознавать, что для него все потеряно. Порой ему хотелось обвинить во всем Минку, навсегда отказаться от нее, но именно в эти мгновения она казалась ему еще красивее, еще лучше, еще достойнее любви: одним словом, он был готов ждать ее. Привыкший к одиночеству, он во время этого пути чувствовал себя куда более одиноким, чем прошедшей ночью и утром; он не мог посоветоваться ни с дядюшкой, ни с Алешем, и уж тем более – с художником. Несчастный Рок выбрал самое неудачное время для беседы, тем более что и разглагольствовал-то он хвастливо и самонадеянно. Поэтому Виктор коротко сказал батраку:
– Рок, дядя говорит верно. Иди домой, сложи свои пожитки и… Из Раковицы ведут две дороги, выбирай любую. Штраф я заплачу и дам тебе за три месяца вперед, чтобы нам с тобой больше не встречаться. – И Виктор зашагал дальше.
Рок уставился ему в спину, потом кинулся вдогонку с криком:
– Виктор, Вики, да погоди ты, поговорим по-человечески. Нельзя же так. Я же тебя ребенком из дерьма вытащил. Да на что я свою жизнь угробил, как не на Раковицу?! – И снова набросился на подоспевших Алеша и Яку: – Яка, Алеш, скажи ему, Алеш, ведь это ты мне посоветовал идти в комитет, а теперь… Разве это справедливость? Я всегда работал, буду и дальше работать, а вот батраком не хочу быть. Пенсию хочу иметь. Попробуй стать человеком, коли за душой ни гроша. А если у тебя пенсия…
Раскричавшегося Рока прервал художник:
– Все это прекрасно, Рок, и ты абсолютно прав. Но точно так же правы священник и Виктор, и потому вам лучше всего распрощаться. Поверь мне, Рок, ты выбрал не самый умный путь. Мне кажется, четырех тысяч слишком мало на месяц, в котором, как тебе известно, целых четыре недели. А водка и в горах не такая уж дешевая. По правде говоря, Рок, мне будет очень неприятно, если я, придя сюда, в горы, в один прекрасный день увижу тебя в канаве. Знаешь, Рок, в наше время люди вообще боятся пенсии. А у батраков и батрачек она не самая большая. И дай тебе бог счастья, коли ты сам себе не умеешь помочь. Но Алешу ты можешь сказать спасибо за то, что он посоветовал тебе сходить в комитет. – Однако художник не оставил Алеша на растерзание Року и, хотя Алеш упирался, потащил его дальше. Року не оставалось ничего другого, как кричать вслед: «Алеш, Алеш!» А Яка в это время выговаривал активисту: – Какой же ты все-таки простак, Алеш. Ведь знаешь, на хозяйской плите до сих пор готовят вкусные вещи, и уж по крайней мере – в достатке. И Рок еще пожалеет об этой плите и о хозяйских обедах… Не сердись на меня, – неожиданно попросил художник, – я действительно слишком много болтаю, но только для того, чтобы не созерцать усопшие надежды души своей. Старинные кладбища – интересное, поучительное зрелище, а вот те, которые у нас в душе – мучительная вещь, поверь мне! – И художник, как всегда, громко рассмеялся.
Трезвеющий с каждой минутой, Рок спешил за ними и безнадежно взывал:
– Подождите, господа, Рок пойдет с вами, он ведь тоже человек, как и все. Мы поговорим…
А Яка обращался к Алешу:
– Оставь хотя бы некоторые из трудных вопросов времени другим: райкому, комитетам, советам – тебе одному всех не решить. А станешь рассматривать, всегда смотри с обеих сторон, как монетку, – ведь на каждой стороне у нее свое изображение. – Он почти силком тащил Алеша, ему хотелось догнать священника и скрыться от надоевшего Рока.
Однако на вершине несчастных ожидал сюрприз: на скамейке возле распятия сидели… Малка Полянчева и Франце Чемажарьев. Положив палку на скамью, слепой курил, а Малка облокотилась на оглоблю взятой взаймы ручной тележки.
У священника Петера Заврха, которого испытания последних дней швыряли из стороны в сторону так, как осенний ветер швыряет по земле опавшие листья, сердце сжалось, и ему захотелось расплакаться прямо тут, на дороге. Выведенный из равновесия, он уже ни о чем не мог разумно рассуждать. Говорило лишь смятенное чувство прежнего священника и хозяина, который во всем считал себя правым. До этой минуты он злился на раковицкого батрака, а теперь, остановившись как вкопанный, недоуменно уставился на женщину, потом перевел взгляд на слепого и наконец вымолвил скорее удивленно, чем сердито:
– Похоже, это ты, Полянчева?
– Вы не ошиблись, господин священник, – ответила покрасневшая Малка, отнюдь не обрадовавшись этой встрече. – Может, вас смущает, что вы видите рядом со мной другого мужчину? Это Чемажарьев, он ослеп во время войны, господин священник. Что поделаешь,
СЛЕПЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ
да и мне она тоже не помешает. Можете себе представить, что значат двадцать процентов в доме, где и все сто лишними не будут. В придачу, – тараторила Малка, спешившая обелить себя, – с Хлебшем мы переругались в первый же вечер. Он во что бы то ни стало хотел погасить лампадку, дескать, иначе он не заснет. И еще валял дурака, мол, божья матерь любит спать в темноте, а не при свете.
– А ведь он не ошибся, Малка, – воскликнул художник, у которого изумление уже сменилось иронией, – увидела бы тебя матерь божья ночью и рассердилась бы за то, что ты так быстро перестала оплакивать покойного.
Алеша сразила эта злобная насмешка – ведь никто иной, как он, Якоб, натравил Малку на несчастного Чемажарьева. Да и Малкина наивность тоже потрясла его. А Малка пыталась оправдаться перед разъяренным священником:
– Нет, от веры я не откажусь. К тому же сейчас, при электричестве, лампадка такая дешевая вещь, купил лампочку – и все.
А священник кинулся к скамейке, к слепому.
– Я не знаю, приятель, кто ты, – обратился он к нему. – И все же скажу: вернись в долину, пока не поздно. Этой несчастной женщине нужны твои проценты, а не ты. Ведь она отказалась от человека, которого вела в горы два дня назад. Тебе будет плохо, если она точно так же заменит тебя другим. И не только плохо, но и стыдно. А она тебя заменит, поверь мне!
Полянчева покраснела до корней волос. На глазах у нее выступили слезы. Чемажарьев намеревался ответить священнику, но она опередила его:
– А зачем мне его менять? С Хлебшем мы поругались из-за лампадки и поняли, что не подходим друг другу. – И сердито бросила священнику: – Что же мне было, лампадку погасить? – Обиженно и упрямо она продолжала: – Вы-то за счет таких лампадок и живете, а я не могу. И все-таки я не позволила ее погасить. Вы лучше пощупайте, какое у меня сердце! – И собираясь продемонстрировать священнику свое бедное, осужденное на недолгую жизнь сердце, встала со скамейки и направилась к нему.
– Apage! – закричал он и поднял палку, как будто собирался ударить женщину. – Apage, нечистая! Ты ничуть не лучше животного… – Покрасневший от злости священник с отвращением отвернулся от нее.
Но тут подскочил художник и великодушно заявил:
– Давай, Малка, я пощупаю за всех, если надо!
Алеш ужаснулся, увидев, что художник и впрямь хочет пощупать ее сердце. Он перехватил его руку и, побледневший, рассерженно упрекнул Яку:
– Тебе что, мало несчастий? Все имеет свои границы, Якоб!
Тот посмотрел на него, захохотал, но дурачиться не перестал.
– Дорогой Алеш, мы потеряли все, больше нам нечего терять, кроме своего здоровья, по крайней мере мы считаем, что оно у нас есть. А ты посмотри на это беспокойное, наверно, и впрямь очень больное сердце, посмотри, сколько в нем храбрости. Посмотри на Чемажарьева – он ничего не видит и Малки тоже. И все-таки – скажу я тебе – ему лучше, чем нам. Ему не помешает лампадка, которая помешала Хлебшу, если она ему действительно помешала. А пахнет Малка весьма аппетитно! Это мы с тобой мучаемся, стремимся к чему-то недостижимому. Поверь мне, слепцы скорее мы, чем Чемажарьев.
Тут в разговор вмешался Чемажарьев:
– Я тебя не знаю, никого из вас не знаю. И не знаю, зачем вам нужно задевать меня, если я никого не тронул?! Терять мне нечего. Малку? Если она будет обо мне заботиться, ей будет неплохо. Ну а если я ей придусь не по нраву, не стану ее неволить. Вернусь в долину.
– Что ты, зачем мне искать другого! – воскликнула Малка. – Я буду тебя любить, буду заботиться о тебе; правда, у меня нет ничего, кроме крыши над головой да коровенки…
Алеш Луканц перебил ее:
– Никто над тобой не издевается, Чемажарьев. Не обижайся на нас, это нас тоска загрызла. Может, Малка и заслужила, чтобы ей дали по голой заднице… Да ведь что поделаешь, и Малке нужно жить, это она справедливо сказала. Ну, будьте счастливы и не обижайтесь!
– Чего тут обижаться! – великодушно воскликнула Малка. – Все мы люди, каждый может обмишуриться.
А Яка не преминул дать Чемажарьеву совет:
– Это не беда, что ты не видишь, Франце. Если что будет не так, палка у тебя есть, возьми да и ударь наугад, авось попадешь, куда надо.
– Ну нет, – Малка покраснела, поняв смысл его слов, – такое не понадобится. Я умею любить, Яка, поверь мне. Только ведь и нищим жить надо, ничего не поделаешь.
– Дай бог тебе счастья, Малка. А что касается твоего сердца, можешь время от времени приглашать меня, я пощупаю, хуже ему или лучше. – И Яка добавил: – Да и нарисовать я его не откажусь, твое сердце, Малка, вместе со всей упаковкой! – И он поспешил за Алешем, который уже шагал дальше, за Раковчевыми.
– Действительно, – болтал художник, – в ней есть нечто непостижимое, она так и кипит жизнью – цветущее лицо, здоровое тело, а сердце – никуда не годится, и при этом такая неистребимая жажда жизни!
– Мне кажется, – заворчал разочарованный Алеш, – ты самый обыкновенный убийца. Убиваешь людей, и это им даже нравится, потому что ты убиваешь их так мило, что они этого не замечают. – Неожиданно он обернулся к нему и окинул внимательным взглядом. – А теперь скажи мне, только совсем откровенно скажи, ты бы и правда взял Минку с собой как жену, а не как игрушку, если бы она была свободна и если бы она этого захотела?
Удивленный вопросом Алеша, художник замедлил шаги, сверкнул глазами в его сторону, потом засмотрелся на далекие горы.
– Глупости ты спрашиваешь, Алеш! Если б захотела, она сегодня была бы далеко отсюда. – И продолжал с болью и теплотой: – Веришь, она нужна мне. Мужчины женятся не только из-за любви, а для того, чтобы женщины рожали им детей, вели хозяйство, стирали белье. А я искал Минку, чтобы успокоить свое сердце. Понимаешь, Минка умеет вдохновить человека, с ней даже бесталанный может открыть в себе талант… Однако поспешим: нерешенный социальный вопрос – милейший батрак Рок – уже наступает нам на пятки!
Рок в самом деле догонял их, но на пути он неминуемо должен был натолкнуться на Малку и ее слепого.
– Малка, Полянчева! – воскликнул он. Потом онемел, заморгал глазами, трезвея еще стремительней, чем в тот момент, когда Петер Заврх отказал ему от службы. – Что я вижу? С тобой мужчина? Надеюсь, не жених, Полянчева?
– А почему бы и нет? – ответила Малка и снова покраснела. – Жених, Рок. Что поделаешь, при моей нужде такой случай упускать нельзя. – Не переставая мигать, Рок разглядывал жениха. К своему удивлению, он заметил, что тот слеп, и заморгал еще сильнее.
– Малка, – он кивнул в сторону слепого. Она поняла, о чем он, даже не оборачиваясь на Чемажарьева. Хотела ответить Року, но тот опередил ее; говорил он с насмешкой: – А ты мне велела к тебе заглянуть. Я получу пенсию, Малка, небольшую, понятно, но посмотри на мои руки… Я ведь могу работать. И говорю тебе, парень, заработать сумею. А работа найдется, парень. Или ты думаешь, мои руки ничего не стоят?!
– Конечно, стоят, – ответила Малка. – И пусть тебе получше живется, Рок. Даст бог, и я как-нибудь перебьюсь.
Это еще больше взволновало Рока.
– Значит ты так повернула, Полянчева, – возмутился он. – Зачем же ты мне обещала?!
– Что я тебе обещала, Рок? – спокойно переспросила она.
– Выйти за меня замуж!
– Господи боже! – удивленно воскликнула она. – Да ведь я тогда хоронила мужа и даже думать об этом не могла.
– А это кто? – Рок указал на инвалида: – Не муж?
– Что ему надо? – спросил Чемажарьев. – Он что, собирается приказывать, что и как…
– Уходи, Рок, – попросила Малка, – и будь счастлив! Ты же сам говоришь, что получишь пенсию, руки у тебя хорошие… Торопись, а то отстанешь от своих!
А Рок все не мог прийти в себя от ее коварства.
– Малка! – окликнул он ее.
– Чего тебе? – спросила она с беспокойством.
– А вот что, – Рок трижды плюнул ей под ноги, повернулся и пошел прочь.
– Рок! – обиженно закричала она. – Рок! Совести у тебя нету, Рок! Хотел на мне жениться, а теперь плюешь на меня. А сам не подумал о том, что Малке надо жить, как и всем другим. Ты здоров, в Раковице у тебя есть угол, вот и в социальном отделе тебе помогли… – И она что-то шептала, обиженная и рассерженная, в то время как Рок поспешно шагал по дороге, громко ругая весь свет, начиная со священника и художника и кончая Малкой Полянчевой.
А та со слезами на глазах взяла Чемажарьева за руку и, перейдя дорогу, остановилась с ним возле лиственниц.
– Тебя обидели, – сказал Франце. – И зачем это нужно – обижать человека. Чтоб им…
– Ничего, ничего, – ответила она, тряхнув головой. – Пройдет. Может, я и впрямь заслужила… – призналась она и добавила: – Да ладно, хватит об этом. Я так боялась встретить именно этих людей. И видишь, они-то и появились. Ну, ничего, – она уже успокаивалась, – как-нибудь проживем. Я буду о тебе заботиться, тебе будет хорошо… Видишь, вон там мой дом! – она показала в сторону гор, за Подлесу. – Он небольшой. Почти лачуга. А внутри хорошо! – Она заговорила увлеченно. – У меня побелено, ни грязи, ни паутины не найдешь, не то что у некоторых. Нигде ни пылинки, и окна всегда чисто вымыты. А перед домом у меня цветы, и на окнах тоже цветы; я развожу гвоздики, у меня их несколько сортов, такие высокие и цветут как, – загляденье! Вон тот участок – мой, я там сажаю картошку, фасоль, огурчики, а рядом пшеничку. Всего понемножку, – усмехнулась она, перечислив свое скудное богатство. – А внизу луг, оттуда я каждый день приношу траву для коровушки. Вообще-то с сеном у нас туговато, особенно если засуха. Наверху лес, не больно густой, но без дров не останешься. За лето заготавливаю несколько вязанок хвороста, на растопку. На дрова приходится срубить бук-другой. Осенью нагребу листьев, на целый год хватает. А тут, внизу, в котловине, Подлеса. А вокруг горы, зажали ее со всех сторон… Знаешь, сердце радуется, когда идешь из долины и остановишься здесь, возле лиственниц, отсюда открывается такой вид на деревню. А всего красивее, веришь, она весной, вот как сейчас, все словно цветущий куст, а сквозь него проглядывают серые крыши домов. И голуби летают над деревней, всегда летают. По воскресеньям здесь на удивление спокойно – ничто не шевельнется, никто не кричит, никто не работает. Только наверху, на дороге, видишь людей; одни приходят, другие уходят. Уходят, – усмехнулась она, – и не возвращаются. Я все думаю, сейчас в Подлесе люди совсем другие, чем в мои детские годы. Тех осталось очень уж немного. Раньше народу было полным-полно, особенно по воскресеньям. Потом стали уходить, из каждого дома по одному, а то и по три, четыре. В долину, на фабрики. Девушки, парни обзаводятся там семьей. А если и не обзаводятся, все равно остаются в долине. Ниже деревни – поля. Повсюду регеля, а на лугах еще и сеновалы. А в той стороне одни только склоны и долины. Там текут ручейки, совсем маленькие, зато уж как они журчат! Внизу глубокие ущелья, такие обрывистые, что лучше обходить их стороной. А там леса, видишь эти лиственницы? – воскликнула она и восторженно сжала его руку.
– Вижу, – тихо ответил он.
– Красивые, да? – спросила она.
– Красивые, – откликнулся он.
И вдруг она взглянула на него, ей показалось, что он ее не слушает. Но прежде чем посмотреть в его стеклянные глаза, которые ему сделали в больнице, она вспомнила: да ведь он слепой. У Малки изменился голос. Чемажарьев почувствовал эту перемену. Сказал тихо:
– Теперь ты по-другому говоришь, Малчи. Почему ты перестала так рассказывать?
– Да ведь я рассказываю, – ответила она и правда попыталась продолжать. – Видишь, там, справа, Урбан. Церковь видна плохо, она тут, на распутье… – Она замолчала, потом сказала медленно, с трудом, потому что у нее сдавило горло. – Не могу больше, не могу, не сердись на меня.
– Почему не можешь? – спросил он все также тихо.
– Да ведь ты не видишь, ничего не видишь, – с болью ответила она.
Он секунду помолчал, сжав губы. Потом ответил со скрытой печалью, но бодро:
– Вижу, все вижу. – И неожиданно у него вырвалось: – Там внизу долина, вон там поля, луга, леса, все такое красивое, пестрое! Среди садов – деревни, регеля, а за ними широкие дороги, бегут себе на все четыре стороны. По дорогам идут люди, я вижу их, маленькие, спешат то туда то сюда, вижу автомобили, вижу крестьянские телеги, вижу небо над равниной, вижу солнце, вижу месяц и звезды, вижу белые и темные облака, которые плывут по небу, вижу, как ветер раскачивает деревья и поднимает пыль на дорогах, вижу, как высоко в небе сияет солнце, – все вижу, очень хорошо вижу. Но лучше всего я вижу человеческое сердце: стоит только человеку промолвить слово, и оно открывает его сердце, точно ключ – двери. Когда ты будешь уходить из дому, Малчи, я буду стоять на пороге и смотреть тебе вслед, а потом увижу, как ты возвращаешься. Ну, улыбнись, Малчи, улыбнись. Смотри, я вижу, ты пытаешься улыбнуться, но у тебя не выходит. А ты улыбнись, мне хорошо, когда человек улыбается, и плохо, если он хмурится. Не смотри мне в глаза так растерянно: они стеклянные и ты к ним еще не привыкла, очень уж они чистые, слишком чистые, я это знаю, и чересчур неподвижные, ресницы не движутся, а зрачок так пристально глядит да людей… Но ведь у человека есть и другие глаза, Малчи, и если они у него настоящие, он видит ими еще лучше и дальше, он может рассмотреть душу человека до самого дна, до каждого пятнышка, до мельчайшей соринки.
Она вздрогнула и посмотрела на него, в его стеклянные глаза, которые могут увидеть любую соринку и в ее сердце. И сказала смущенно, словно сожалея, что поменяла Хлебша на этого слепца, который будет постоянно следить за ней своими стеклянными глазами:
– Пойдем, нам пора.
– Пойдем, – кивнул он. Повернулся и, как бы в подтверждение своих слов, подошел к скамейке, на которой оставил свою палку, наклонился и – даже не пошарив – взял ее, а другую руку протянул к оглобле тележки. Малку охватил ужас, и она невольно подумала: «Он все будет видеть, как бог, даже мои мысли». Перепуганная и растерянная, она подошла к тележке и взялась за оглобли.
– Пошли, – шепнула она.
– Повезем вместе, – сказал он, не выпуская оглобли; в правой руке он держал палку, казалось, совсем ненужную ему; он только иногда взмахивал ей перед собою, как будто хотел смести все препятствия, возникающие на пути к их маленькому счастью. Не доходя до Подлесы, они свернули на узкую, почти не наезженную дорогу, ведущую к ее дому. Они уходили все дальше и становились все меньше, пока не превратились в две маленькие фигурки, везущие на тележке свое убогое счастье, которое уже никому не станет помехой. Они уходили все дальше и дальше, и теперь путники, направлявшиеся в Раковицу, если бы захотели, могли увидеть их в последний раз; но они не хотели их видеть, один лишь художник улыбнулся про себя, в ответ на ту щемящую печаль, которую вызвал в нем вид этого счастья.
Марта заслонила глаза ладонью, но словно не для того, чтобы лучше видеть, а чтобы успокоить свою тревогу. По тропинке, от лиственниц прямо к дому, один за другим спускались пятеро мужчин, и это напомнило Марте войну: тогда солдаты так же подходили к дому и от них нельзя было скрыться, разве что сжаться в комок, замереть и ждать. Так и сейчас что-то укололо ее в сердце и она замерла, потрясенная сознанием того, что
ГРЯДЕТ СТРАШНЫЙ СУД,
от которого ей не спрятаться. Ее руки устало опустились вдоль тела, безжизненные глаза уставились на приближавшуюся процессию, на котловину, на всю Раковицу, купающуюся в лучах заходящего солнца, в прозрачном вечернем воздухе. Птичье пение казалось сейчас слишком громким. Тишины не нарушало тявканье собаки на кошку, обычно сопровождавшую Марту во время работы, ни хрюканье поросят в хлеву, ни кудахтанье стайки кур, которые хотели ужинать, прежде чем отправиться на ночлег. Это безмятежное затишье нарушит приход пятерых мужчин. Когда Марта на миг прикрыла глаза, ей показалось, что к Раковице приближается армия, которая станет жечь и убивать, и уже не укрыться от этого страшного суда. Поэтому она почувствовала себя бесконечно счастливой, когда ей наконец удалось сбросить оцепенение и юркнуть к гумну, в надежде, что ее никто не заметил. Заперев за собой тяжелую дверь сарая, она стала сквозь щель наблюдать – теперь ей некуда было торопиться, а здесь никто не сможет достать ее.
Художник Яка, окинув взглядом привычную картину, как будто искал мотив для своего полотна, заметил тень, мелькнувшую возле гумна. Невольно произнес:
– Это Марта, несчастная мать еще более несчастного дитя. Наверно, она нас боится. Надо бы ее отыскать.
Мужчины остановились перед домом. В Раковице оказалось одновременно два хозяина, потому что в этот момент Петер Заврх все еще чувствовал себя владельцем усадьбы, а к Виктору уже вернулось сознание собственника, не желающего поступиться своими правами. Долговязый батрак Рок стоял особняком, теперь он полностью протрезвел, и его мучила жажда, хотелось водки, справедливости и еще бог знает чего. Он чувствовал, что у него украли этот дом, хотя до сих пор он принадлежал и ему!
– Слава богу, – забормотал за спиной у Алеша художник Яка, – вот мы и добрались до конца наших заблуждений и несчастий. И если нам удастся в должной мере нелепо разделаться и с последним из них, мы можем спокойно отправиться спать как люди, ни к чему не способные, абсолютные духовные ничтожества. Не бойся, Алеш, сегодня тебе не придется быть повитухой, к счастью, женщины рожают не больше одного раза в год. Надеюсь, нам не придется сыграть и роль отца в этой современной сказке. Такое может случиться разве что с несчастным батраком Роком, и то если раковицкие господа сжалятся над ним. Их кулацкое достоинство не допустит, чтобы отцом ребенка стал Виктор. Разумеется, если маленький лягушонок еще жив, – при упоминании о ребенке голос Яки потеплел. – Мне бы хотелось благословить его, прежде чем я уйду отсюда. Меня преследует мысль, что в жизни его не ждет ничего хорошего: если он станет сыном батрака Рока, из него получится либо батрак, либо непутевый художник, либо мечтатель-активист. Пойду-ка я посмотреть на него. Знаешь, Алеш, меня страшно интересует все человеческое. Иногда меня охватывает желание баюкать все человечество или взять его за руку и повести на прогулку – по целому миру, минуя все несчастья. Не люблю я их, несчастья! А то хочется пропеть человечеству ласковую колыбельную песенку. Собственно говоря, мне кажется, что искусство, поскольку оно отказалось от своей революционной роли, должно стать такой колыбельной песенкой. Разочарованные и хмурые люди вроде Алеша Луканца пусть изредка обращались бы к нему, чтобы рассеяться и снова обрести веру.
Ключ торчал с наружной стороны двери. Виктор открыл.
– Заходите! – по-хозяйски пригласил он. – Марта, судя по всему, дома, она нам что-нибудь приготовит. Надо ее позвать. – И он закричал, стоя на пороге: – Марта-а! Марта-а! – Его крик разнесся по котловине и долетел до самых лиственниц.
– Мне кажется, я ее видел, – сказал Яка, – схожу поищу… – И вместо того, чтобы направиться за остальными в дом, пошел к гумну.
Марта все еще стояла возле дверей, она побледнела, увидев сквозь щель, что художник направляется прямо к гумну. В ней все оборвалось, и она метнулась в угол.
Яка широко распахнул двери, и свет хлынул на разбросанные по полу вещи.
Священник Петер Заврх только чуть повернул голову, почувствовав, что в комнату вошел батрак. Он снял пелерину, отложил в сторону сумку и палку. Беспощадно через плечо сказал:
– А ты собирай свои вещи. Можешь уйти еще сегодня, в комитет. Устраивайся там или при Алеше.
– У меня нет ни усадьбы, ни канцелярии, – едко ответил Алеш. Потом добавил более резко: – Яка прав, ты что-то слишком охотно наказываешь людей. А как же те сорок – или сколько там – лет, когда он носил в Раковице корзину? Человек начинается не с усадьбы, не с церковного прихода. Он начинается с другого, Петер!
– Этого мы обсуждать не будем! – твердо ответил Петер Заврх.
– Ладно, – согласился Алеш, – и все-таки нехорошо это с твоей стороны, урбанский священник, взваливать на социализм заботу о человеке, который отдал свою жизнь вашей усадьбе, и уж тем более негоже отсылать его к коммунисту Алешу.
Рок подошел к окну, взял с подоконника бутылку водки и основательно хлебнул. Потом протянул бутылку Алешу.
– Пей, не препирайся с Раковчевыми. А ты здесь не командуй, – обратился он к священнику. – Твоя усадьба возле Урбана. А здесь хозяйствуем мы с Виктором. Как-нибудь мы с ним договоримся, не перегрыземся. Мы друг друга знаем и один другому нужны.
У Петера Заврха перехватило дыхание, он побледнел:
– Собирай свои вещи и сегодня же уходи!
– Чтобы ты меня выгонял?! – Рок угрожающе сжал кулаки. Вошедший в комнату Виктор встал перед батраком, весь красный, ибо понял, о чем идет речь, и решительно сказал:
– Рок, до сих пор мы с тобой не пререкались и сейчас не будем. Собирай вещи. Зайдешь ко мне, я заплачу тебе за три месяца вперед.
Рок повернулся и неожиданно кинулся на хозяина Раковицы.
– Рок! – закричал Алеш, подскочил и оторвал его от Виктора. – Это ни к чему; я же сказал, что Раковчевы вышвырнут тебя за порог, если ты будешь требовать пенсию. Придется тебе примириться с этим.
– И это все? – прохрипел Рок.
– Я тебе говорил: или усадьба, где ты до смерти будешь батраком, или социальное обеспечение. Ты сам выбрал.
Рок помотал головой, не говоря ни слова, он повернулся и вышел из комнаты.
Яка нерешительно стоял посреди просторного сарая. Вдоль стен громоздились сельскохозяйственные машины вперемежку с домашней утварью: телеги, плуги, соломорезка, бочки, молотилка – все это тонуло во мраке.
– Марта! – по-дружески закричал Яка, словно пришел к ней в гости. – Марта, отзовись же наконец! – И добавил шутливо: – Мы пришли – хозяева, батраки, художники, политики, – предстань перед судом, мы вынесем приговор за твои тяжкие грехи. Марта! – весело звал он. – Я буду твоим защитником, первый и последний раз в жизни. Поверь, мы победим, а потом ты покажешь мне маленького разбойника. Мне так хочется увидеть что-нибудь неиспорченное, человеческое, Марта-а-а!
Он ощупью бродил по длинному гумну, озирался, оглядывался по сторонам, понимая, что женщина прячется от него. На мгновение он остановился – ему показалось, будто из самого дальнего угла донесся вроде бы стон, а потом что-то упало. Он кинулся туда и остолбенел. Не мог поверить своим глазам. И все же сунул руку в карман, а секунду спустя уже резал веревку. Ему казалось, что нож совсем тупой и что не столько режет, сколько пилит. На лбу, по всему телу выступил пот.
– Проклятье! – выругался художник; наконец веревка оборвалась. Что-то тяжелое, похожее на мешок, рухнуло на пол. У него тряслись руки, когда он приподнял этот мешок и начал его трясти, потому что ничего другого, более умного, ему в голову не пришло. Он даже послушал сердце и бесконечно обрадовался, уловив его биение и увидев, что женщина пошевелила головой. Она открыла глаза и устремила на него изумленный взгляд.
– Проклятье! – повторил Яка, опустив ее на пол; его все еще трясло, и он не в состоянии был даже вытереть пот со лба. – Я же знал, что вся эта история, начавшаяся с божественной службы, кончится чем-то подобным… Что меня ждет драматическая кульминация, как будто это великое художественное откровение, черт побери! – бормотал он. Что-то сдавило ему горло. Он почувствовал невыносимую усталость, и ему захотелось к чему-нибудь прислониться. Но это продолжалось всего секунду, потом он очнулся, едва переставляя ноги, подошел к Марте, которая поднималась с пола. Он взял ее за руку, пристально посмотрел в лицо, освещенное слабым светом, и сказал теплым, изменившимся голосом: – Зачем ты это сделала? – Она не ответила, да он и не ждал ответа. – Глупо, – бормотал он. – Жизнь, видишь ли, – широкая дорога, при желании для каждого человека найдется тропинка. Не люблю людей, которые впадают в отчаяние… – Он вел ее за собой. – Пойдем, нас ждут.








