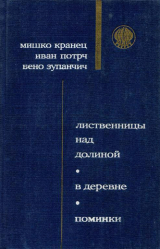
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
– Смотри, чтобы все было, как мы условились. Если захочешь что сделать иначе, обязательно приди посоветоваться.
Перед уходом он спрашивал всегда одно и то же:
– Ну как – с работой справляетесь? Прости господи, ведь тебе приходится работать с придурками! Взял бы ты кого умного в дом.
– Для работы и такие годятся, – отвечал Виктор.
– Что правда, то правда, – соглашался дядюшка. – Да и такая рабочая сила дешевле. Умный потребует, чтобы за него платили страховку, и работать будет восемь часов в день, словно на фабрике. Ну а как Рок? Все еще требует, чтобы за него внесли страховку?
Виктор кивнул, и Петер со злостью процедил в ответ:
– Вышвырни ты прочь этого подонка!
– Нельзя, – спокойно возразил Виктор. – Если я его выгоню, мне обязательно придется все выплатить. Да и кто станет у меня работать?
– Неужели ты собираешься платить?
– Не знаю, – пожал плечами Виктор.
– Ни динара! – воскликнул дядюшка, словно дело касалось его собственного имущества. Помолчав, спросил: – А как баба? Тоже требует?
– Пока нет, – ответил племянник.
– Что значит «пока»? – Дядюшка почти кричал.
– Придется, верно, и за нее платить. – И Виктор снова передернул плечами.
Зажмурив глаза, священник пошевелил губами и лишь потом ответил:
– Вот твари! Я бы их… Им тут живется, лучше не придумаешь, а и они туда же – в этот поганый социализм!
Виктор не смутился, слыша эти ругательства и глядя, как Петер брызжет слюной и то и дело сердито сплевывает. После обхода усадьбы и всяческих пререканий, советов, решений дядюшка снова, уже вторично завел разговор о важном деле:
– Сдается мне, ты подумываешь о женитьбе! Да и незачем тянуть, как это водится у нас под Урбаном. Знаешь ведь: своя хозяйка – это не наймичка. Совсем другое дело! К тому же она не станет скулить насчет этого проклятого социального страхования.
– Я еще не думал, – коротко ответил племянник.
Дядюшка усомнился в этом и сказал:
– А я уверен, тебе уже кто-то приглянулся.
– Нет, никто, – ответил Виктор решительно. Его холодный, спокойный взгляд был устремлен куда-то мимо дядюшки.
– Врешь! – прикрикнул дядюшка грубо, совсем как на провинившегося ребенка.
Виктор не смутился, не покраснел. Ему не хотелось пускаться в пререкания, и он ответил почти равнодушно:
– Мне нравится молодая Яковчиха.
На какой-то миг Петер Заврх потерял дар речи, затем прошептал:
– Выходит, Минка?
– Выходит, Минка.
– Беспутная фабричная девка! – воскликнул дядюшка испуганно и гневно. Казалось, он готов наброситься на парня с кулаками.
– Минка, – повторил Виктор, словно перечеркивая последние дядюшкины слова. Он поморщился, видимо, потому, что у него зачесалось за ухом. А дядюшка с величественным видом оскорбленного божества поднял палец и, насупив косматые брови, произнес:
– Нет, только не Яковчиха, для нашей усадьбы она не подходит. Не годится она, – добавил он дрожащим голосом, – ни для крестьянской работы, ни для супружества, так и знай!
Молодой владелец Раковицы со скучающим видом ковырял в носу. Виктор отлично понимал, что хозяин усадьбы – он. Поэтому сказал прямо:
– Мы всегда любили друг друга, еще со школьной скамьи.
Побледнев, Петер Заврх подскочил к племяннику с поднятым кулаком:
– Что ты, парень! Первую шлюху – в нашу усадьбу? Знаешь, что такое усадьба, земля, дом? А с ней, как говорят в городе, в долине всякий может переспать, стоит захотеть…
Виктор теперь спокойно почесывал нос и так же спокойно ответил разъяренному дядюшке:
– Когда она переберется в Раковицу, она будет любить только меня, наш дом, землю, скотину, и никого больше.
В этот миг Петер Заврх впервые почувствовал, что у него отнимают родную Раковицу. Племянник проводил его до межи, где кончалась его земля – до верха котловины. Там разобиженный дядюшка коротко сказал:
– Прощай. – Но, сделав несколько шагов, повернул голову и крикнул: – Возьми любую – бедную или богатую, красивую или уродливую, – любая окажется лучше Яковчихи. А ее забудь. Поверь мне, и не пожалеешь! Думай об усадьбе, – и поспешил пояснить: – Наша ведь она, – и еще прибавил: – Я тут родился.
До этого самого утра Петер Заврх не слыхал о своем племяннике ничего плохого. Яковчиха затерялась в долине. И как «церковная кафедра и исповедальня» Мета ни старалась расспрашивать «всекрестьянскую коллективизацию» Катру о жизни в Раковице, так ничего и не выведала. О том, что Виктор отправился вслед за Яковчихой, Катра узнала лишь накануне.
Вся эта история куда больше задела Петера Заврха – зажиточного крестьянина, чем Петера Заврха – священника. И священник вынужден был бросить свой церковный приход, и отправиться спасать Раковицу, «свою усадьбу». Так и случилось: человек, спешащий сейчас по тропинке к Раковице, был уже не урбанский священник, любимый своими прихожанами, добрый и человечный, а могущественный властелин Раковицы, владелец котловины, богатой, красивой усадьбы, цветущих черешен, лиственниц, шумящих ручьев, растущих по их берегам купальниц, неба над котловиной – всего, всего!
Спутники и не подозревали, какая буря бушует в обычно спокойной душе Петера Заврха, который еще минувшей ночью вел разумные разговоры с богом. Перед ними в окружении черешен, яблонь и груш самых различных сортов виднелась богатая усадьба – двухэтажный каменный дом с множеством окон, просторный двор, где стояли хлев, свинарник, курятник, винный погреб, дровяной сарай; и все это, вместе взятое, походило на деревеньку, расположенную в безлюдном, но живописном месте. А чтобы картина выглядела еще привлекательней, по крутому горному склону сбегала речушка, в которую стекалось несколько ручейков. В ее излучине около самого дома был вырыт водоем, где поили скотину и где Марта стирала белье. У реки трава росла особенно буйно, и сквозь нее проглядывали крупные ядовито-желтые купальницы. Цвел уже и одуванчик, и другие полевые цветы. У священника сердце затрепетало от радости при виде родной усадьбы, и в то же время его переполняла тревога и боль при мысли, что племянник с беспутной Яковчихой беспечно разоряет эту усадьбу. Художника поразила цельность открывшегося пейзажа, и ему захотелось сейчас же запечатлеть его на полотне. Хотя Алеш Луканц до сих пор не мог преодолеть чувства глубокого разочарования, вызванного Минкиным поведением, он тоже залюбовался красивым видом, и сразу на него нахлынули воспоминания о боях, которые их партизанская часть вела тут, со всех сторон теснимая фашистами. Заросли фруктовых деревьев по мере отдаления от дома становились реже, четче были заметны ряды. Между ними на открытых солнечных местах были сделаны гряды, где росли овощи и цветы. Цвели только желтоватые нарциссы. У ограды зеленел и кудрявился самшит. По краям котловины вытянулись длинные шеренги лиственниц, одетых в легкий светло-зеленый наряд.
– Лиственницы, наши лиственницы, – набожно прошептал Петер Заврх. – Нигде под Урбаном больше таких не сыщешь.
– Эх, нет у меня ни холста, ни красок, даже карандаша и этюдника не захватил! – воскликнул Яка, откровенно сожалея об этом.
– Вон там стояли немцы и били из пулеметов, – Алеш указал рукой на окружающие котловину возвышения. – Через речушку перебегал Яковчев, успел ее перескочить… и упал мертвым… Мы с боем отошли по ущелью, там не было немцев. А Матко Яковчева вынести не смогли…
Петер Заврх поморщился, услышав о Яковчеве.
Вокруг дома разгуливало множество кур самых разнообразных расцветок, некоторые из них, сунув голову под крыло, перебирали клювом перья. На ступеньках крыльца лежала кошка, греясь на солнце, которое ярко освещало фасад дома. Перед хозяйскими постройками стояла собачья конура, привязанный к ней волкодав заходился злым, неистовым лаем.
– Она не годилась бы здесь даже в батрачки, – сказал словно про себя Петер Заврх, опять вспомнив о Минке и о шалопае-племяннике. И постарался приветливо окликнуть собаку: – Ну, перестань, мы ведь порядочные люди, не какие-нибудь цыгане! – Несмотря на постигшее его несчастье, он подходил к «своей усадьбе» с самодовольным видом.
Яка и Алеш остановились на дворе, а Петер поднялся по четырем каменным, порядком истертым и выщербленным ступеням крыльца и нажал на большую железную дверную скобу. «Конечно, – снова разозлился священник, почувствовав, что дверь не поддается, – этот прощелыга ушел, баба бог весть где шляется, а батрак, наверное, запил». Он потряс двери еще сильнее. Слово «прощелыга» было лишь проявлением его сильной, оскорбленной любви к племяннику.
– Я видел в окне женщину, – сказал Алеш священнику, и тот разозлился еще пуще.
– Значит, эта баба дома – и не открывает! Я ей покажу! – И он принялся барабанить в дверь что есть мочи.
В сенях послышались нетвердые шаги и затихли, будто человек за дверью остановился в раздумье. Потом загрохотал засов, и в дверях показалась
ФИГУРКА ДЕВУШКИ С ВЕСНУШЧАТЫМ ЛИЦОМ
и удивительно большими совиными глазами – совиными не только по форме, но и по своему цвету, блеску и выражению. Она стояла неподвижно. Только коротко и сухо сказала:
– Виктора нет дома.
– Все равно, – грубо ответил хозяин Петер и толкнул вместе с дверью «бабу». – Хоть бы в сторону отошла, – проворчал он. – И чего ты на меня уставилась – не узнала, что ли?
Распухшие, сухие, растрескавшиеся губы чуть шевельнулись:
– Узнала.
Оттесненная вместе с дверью, она стояла в оцепенении, опустив бессильно руки. Высокомерный хозяин-священник не удостоил ее взглядом, только сказал:
– Слава богу, что ты меня узнала. Ступай в погреб, отрежь кусок копченого окорока, принеси водки и молодого вина, а также хлеба, ну и, конечно, вилки, ножи, тарелки, не будем же мы тут просто так лясы точить!
Теперь он бросил на нее беглый взгляд, и фигура ее показалась ему почему-то непропорциональной. Но он не удосужился, да и не счел нужным об этом задуматься.
Широким шагом прошел он в просторную крестьянскую горницу, даже не затворив за собой двери.
Алеш и Яка посмотрели на «бабу», все еще стоявшую как изваяние, и, дружески улыбнувшись, приветливо и просто сказали:
– Добрый день.
Губы ее и на этот раз едва шевельнулись.
– Добрый день.
Указав Алешу взглядом на Петера Заврха, Яка воскликнул:
– Видишь этого горьянского мироеда, как называют подобных людей в литературе? Кажется, он вступил в могущественную твердыню собственного королевства, которого социализм еще и не коснулся. Уже в сенях начал давать приказания батрачке, чтобы мы убедились, кто тут хозяин! Жаль, – вздохнул художник, – что он пожелал стать священнослужителем. Церковь лишила усадьбу настоящего хозяина, этакого кулака, да и сама не достигла нужной цели – политикой Ватикана он все равно не интересуется. – Яка рассмеялся. – Сейчас услышишь: будет ругаться и шуметь, как истый крестьянин – никто другой в окрестностях Урбана с ним не сравнится!
Яка остановился посреди огромной комнаты.
– Алеш, – сказал он насмешливо, – тебе не кажется, что мы попали в зал заседаний, где можно провезти массовый митинг?
Луканц невольно обвел взглядом просторную крестьянскую горницу, в которой бывал и раньше, но сейчас она показалась ему намного больше, чем в партизанские годы: деревенская печь, окрашенная зеленой краской, большой кленовый стол, старый шкаф – все это теперь терялось по углам. В комнате – в передней и левой стене – было семь окон, а стены были чуть не в метр толщиной. Радио, три комнатных цветка на окнах, полдюжины изображений святых на стене, жерди, подвешенные под потолком у печи, – все это не заполняло пустоты помещения, где свободно мог бы жить добрый десяток людей и все они преспокойно помещались бы за большим столом.
Расхаживая по комнате, Яка подошел к стене, где не было окон, а только дверь, ведущая в каморку. Посреди стены островком висели картинки, иллюстрирующие священное писание. Художник усмехнулся.
– Посмотри-ка, Алеш! – воскликнул он, указывая на стену.
Алеш припомнил подобные картинки в других крестьянских домах: на них изображалась человеческая жизнь и вечное бдение над ней всемогущего бога. Бог собственной персоной сидит в верхней части картины на облаках, одетый в мантию, с усами и бородой, старообразный, утомленный. С левой стороны под ним нарисовано красивое юношеское ухо – не старческое, морщинистое и волосатое, какое больше соответствовало бы возрасту бога; с другой стороны картины изображен обольстительный голубой глаз, какие и у женщин встречаются не часто. Внизу прекрасная девичья рука с продолговатыми нежными пальцами секретарши – только ногти без лака – записывает гусиным пером в огромную книгу все, что происходит во вселенной, каждую нашу мимолетную, тайную мысль, каждый грех. Под этим недреманным оком, всеслышащим ухом и десницей проходит человеческая жизнь, которая в одном случае завершается на небесах, а в другом – в аду. На соседней картине несколько чертей и ангелов дерутся, отнимая друг у друга несчастного человека, чуть ли не рвут его на части.
– Нет, – сказал Алешу художник, – это не наш словенский бог из окрестностей Урбана, что заходит к Петеру Заврху потолковать о социализме. Немецкие надписи под картиной говорят о том, как усердно работает на небесах полицейская служба: все видит, все слышит и все тщательно регистрирует. Думаю, это совершеннейшая полицейская служба на этом и на том свете – надзираемый ею человек не может избежать ада, как ни крутись! А если принять во внимание, что этот всемогущий бог, скорее всего, пруссак, человеку остается только вздохнуть: «Горе мне, грешному!» – Он улыбнулся Алешу. – Вы строите социализм ради будущего, а я хотел создать словенскому народу своего, словенского бога для нынешнего, переходного периода, пока бог этот не умер и в часы бессонницы приходит к Петеру перекинуться словечком. И к другим он еще заходит. Как-то я подумал – он должен быть в старом камзоле, в касторовой шляпе и штанах из выворотной кожи, с красным зонтиком под мышкой или с корзиной за спиною. И Мария тоже должна быть девушкой наших гор. Время меня обгоняет, я спорю с ним, но оно сильнее меня. Я изобразил бога с лицом Петера, священника, а следовало бы нарисовать вот этакое его кулацкое обличье! Только взгляни на него! – И Яка головой указал на сидящего за столом Заврха. – Это самоуверенность горьянского богатея, у которого амбары полны зерна, в погребе под потолком висят четыре копченые расчетвертованные свиные туши, в хлеву тесно коровам, да еще есть пара волов в придачу. Есть у него и две лошади, большой крепкий дом из шести-семи комнат, правда, почти пустых, вместительные сараи, припасено десяток бочек молодого вина, а если груши хорошо уродились, то и больше десяти тысяч литров грушевой водки. Дорогой мой активист, чудовищную самоуверенность человеку придает богатство, а вовсе не политические убеждения, которые остаются при тебе. Может, с такой самоуверенностью станет держаться в будущем и рабочий, когда у него в кармане окажется ключ от заводской кассы. А сейчас вам все время нужно подливать масла – словно в огонь, чтобы не погас, – совсем как в лампадку, зажженную в крестьянской горнице. Нынче ходят с независимым видом только такие крестьяне-богатеи, которые вашему социализму еще не по зубам. Крестьян победнее вы прибрали к рукам, а этот вот расселся, как властелин, за столом и сейчас скажет Алешу Луканцу: «Садись и пей, если хочешь выпить, закусывай, если проголодался!»
– Алеш, – и вправду окликнул Луканца сельский богатей Петер Заврх, словно только сейчас вспомнил о своих спутниках, – присаживайся, баба сейчас принесет нам закусить да выпить. И ты, художник, тоже садись, раз уж твоя мадонна оставила тебя с носом. – И он поджал губы, удовлетворенный тем, что дал выход своей досаде.
Якоб подмигнул Алешу:
– Ты слышал? Он уже зазнался как настоящий хозяин! Таких посылать бы на курсы перевоспитания, раз уж вы оставили им пока их владения. Его бы таким, каков он сейчас, поставить на место святого Петра, и он организовал бы величайший крестовый поход против всех религий. А в церкви на Урбане он такой кроткий, будто, кроме веры, для него ничего не существует. Здесь же, в Раковице, у себя на родине, он самый настоящий кулак, нам обоим будет стыдно, если он начнет при нас распекать эту женщину! – Яка склонился к Алешу, все еще стоявшему у стола, и прошептал насмешливо, с известной долей злорадства по отношению к Петеру: – А знаешь, женщина-то беременна. Скоро у Петера Заврха появится родственник, которому он наверняка не обрадуется. Что поделать: одиночество и пустынная местность – благодатная почва для греха и в этом вряд ли можно кого винить. С ней это случилось или в минуту слабости, или просто от скуки. Да и сельские богатеи считают батрачек и батраков своей собственностью, своими вещами – даже едят вместе с ними!
Алеш был восхищен художником, его способностью мигом все примечать. И хотя ему подчас надоедала его разговорчивость, порой переходящая в болтливость, он не мог не отметить, что художник всегда умудрялся сказать что-то занимательное.
– Так садитесь же наконец! – приказал Петер Заврх, сердито сдвинув брови. Он открыл маленькую дверцу в стене, вытащил из шкафчика бутылку и, понюхав, поставил ее на стол со словами:
– Я вам сказал – садитесь. Вот черешневая наливка, прошлогодняя. У нас в Раковице она хорошо получалась. Надеюсь, Яка, она тебе не повредит?
– У меня, слава богу, нет язвы двенадцатиперстной кишки, – ответил художник, усаживаясь.
– Если у тебя и есть язва, – ответил свысока крестьянин-богатей Заврх, – то только в душе. А в таком случае пить не запрещено. Да и тебе, Алеш, тоже вреда не будет – ты слишком долго партизанил, чтобы не привыкнуть к спиртному. – Он налил в стаканы, сам попробовал первым, причмокнул и сказал, поморщившись: – Ничего, сойдет, давайте выпьем!
Вошла «баба». Перед собой она несла большой деревянный поднос домашней работы, на нем – копченое мясо, несколько тарелок, ножей и вилок, бутылку молодого вина и бутылку водки. Все это она расставила на столе перед гостями. Священник едва взглянул на нее и нахмурился, словно ее присутствие было ему очень неприятно. Когда она с подносом в руках замешкалась, он сказал властно и грубо:
– Можешь идти. Думаю, в доме есть кой-какая работа? Наш мужской разговор тебе незачем слушать.
– Такие речи мне нравятся! – воскликнул Яка насмешливо. – Они пришлись бы весьма кстати, будь они обращены к нашей «церковной кафедре и исповедальне».
Он взглянул на женщину, на которую поднял глаза и Алеш. На сердце было мучительно тяжело. Невольно, словно извиняясь, Алеш улыбнулся женщине. У нее было чуть продолговатое, самое обыкновенное лицо – сплошной темный загар, а поверх него большие зеленовато-коричневые пятна, уродовавшие и без того не слишком привлекательную внешность женщины. Огромные совиные глаза тревожили своим спокойствием, неподвижностью. Она была маленькая, сутуловатая, большие свисающие груди чуть не разрывали блузку.
Она пошевелила сухими губами, хотела смочить их языком, но язык тоже был сухим и горячим, и нёбо над ним совсем пересохло. Взгляды Алеша и Яки ее смутили. Она не знала, следует ли ей сразу уйти или вопреки приказанию священника задержаться. А тот уже грубо набросился на нее:
– Ну, чего стоишь? Чего тебе нужно? – и лишь затем спросил: – А где батрак – как его зовут-то?
– Рок.
– Рок, скотина, где он?
– Пошел в правление.
– В правление? Зачем это?
– Насчет пенсии, – шевельнула она губами. Петер метнул взгляд из-под косматых бровей на Алеша, но спросил женщину:
– А Виктор об этом знает? Они разве не договорились?
– Кажется, нет. Рок подаст жалобу. Ему в городе кто-то помогает. Он наверняка получит.
Священник вновь перевел взгляд на Алеша. В эту минуту Яка сказал:
– Нагнись, Алеш! Сейчас грянет гром, а потом посыплет град! Все перебьет.
Улыбнувшись, Алеш обратился к Яке, хотя на самом деле отвечал хозяину:
– Сдается мне, это я настропалил Рока насчет пенсии. Я его встретил вчера. Сказал, что буду сегодня или завтра в городе. – Затем он обернулся к Петеру Заврху. – Святость твоя, Петер Заврх, священник из церкви на Урбане и владелец Раковицы, ломаного медяка не стоит. Разочаровал ты меня. Раньше, Петер, ты не был таким!
Священник помотал головой, потом, ухмыльнувшись, ответил:
– Ну а что мне сказать о твоей народной власти? – Затем грубо спросил батрачку: – Вам чего-нибудь не хватает в Раковице – тебе и работнику?
– Нет, – прошептала женщина.
И Петер Заврх заявил решительно:
– В Раковице и батрак и батрачка всегда сыты, всегда одеты, и не нужно им тревожиться, как бы на старости лет не пойти по миру и не околеть где-нибудь в канаве или под стогом сена. А как у вас обстоят дела, ты, Алеш, сам знаешь лучше меня! Ну, получит Рок четыре тысячи динаров – на таких харчах и бродячая собака сдохнет! В Раковице мы не считаем каждый пустяк: нужно тебе что – бери! – Затем он обернулся к женщине: – Ну иди, работай! Что ты на меня таращишься? Не видала никогда, что ли?
«Баба» снова шевельнула губами, собираясь повернуться. Но было поздно. Поднос выпал у нее из рук, она уцепилась за стол, но продолжала медленно оседать. Подскочил Алеш, который был ближе всех, тут же оказался и Яка. Они подхватили женщину под мышки и помогли встать на ноги.
– На скамейку, к печке, – сказал Алеш.
– В светелку, – прошептала она умоляюще, – наверх.
– Наверх в светелку, – повторил за ней Алеш.
– Капельку водки, – И Яка заставил ее сделать глоток.
Они подняли женщину на руки и понесли к дверям.
– Я сама, – попросила она. – По лестнице вам меня не пронести. – Опираясь на Алеша, она поднималась наверх. Словно в поисках спасения, Яка по пути схватил со стола бутылку и стакан, не понимая, о чем его спрашивает Петер Заврх.
– Туда, – «баба» указала головой на первую дверь.
Когда они вошли и Алеш окинул взглядом комнату, он сразу понял, что женщина уже все приготовила: постель была открыта, вода нагрета.
Она словно почувствовала облегчение, оттого что попала наконец в свою светелку. Ей следовало лечь еще утром, она это ощущала. Но как назло – именно сегодня она осталась одна, и хозяйство призывало ее: мычали коровы, ржали лошади, визжали свиньи, кудахтали куры, а в ней самой все сильнее слышался голос новой жизни – правда, беззвучный. В ту минуту, когда она хотела подняться в светелку, явился дядюшка Петер с Якобом и Алешем. Все они были ей знакомы. Увидев гостей, она испугалась. В ее планы вмешивалось что-то роковое. Тупо, холодно подумала она о предстоящем
РОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА,
заранее зная, что с ним должно случиться. Все порядки в этом доме установились словно сами собой по какому-то стародавнему обычаю, который здесь существовал до сих пор: его невозможно было поколебать и сопротивляться ему не имело смысла.
Она чувствовала себя бессильной. Ничего нельзя было изменить. Сам бог – тот, с картинки, что все видит, все слышит, все записывает, – вторгался в ее жизнь. Когда художник Яка снова предложил ей водки, ей показалось, будто он хочет все еще больше запутать.
– Уйдите, – попросила она Алеша после того, как тот помог ей улечься, – мужчины не должны это видеть.
Петер Заврх сидел за столом. Хотя он не до конца осознал происходящее, в нем шла отчаянная борьба между крестьянином-богатеем и урбанским священником, которого знали и любили люди. И вдруг их обоих объединила одна и та же забота: богатый крестьянин не хотел, чтобы в его доме случилось что-то неприглядное, священник тоже стремился оградить свой приход от скандала. Он бросился наверх и отворил дверь в светелку. Взгляд его впился в женщину на постели, в ее изуродованное пятнами лицо, совиные глаза, натруженные руки, судорожно вцепившиеся в одеяло на груди.
– Что здесь происходит? – выкрикнул он, стоя с надменно поднятой головой. Алеш был не в состоянии понять, каким образом этот умный честный человек, обладавший достаточным социальным чутьем, мог превратиться в такое грубое чудовище. Яка с отчаянием уставился на Алеша, но потом вдруг чему-то усмехнулся и сказал:
– Пусть минет сия чаша хозяина усадьбы и духовного пастыря. Ты, Алеш, останься здесь, помоги женщине, а я пойду нянчиться с этим человеком – баюкать его в колыбели неведения зла! – Он подскочил к Петеру Заврху и взял его под руку. – Пошли отсюда, это не для нас. Акушерские ножницы мы позабыли дома, Алешу придется орудовать обычными, словно он доморощенная портниха. Эх, что поделаешь! – вздохнул он. – Человек никогда не знает, что ждет его в дороге. Ты взял с собой бутылку черешневой наливки, посох и святые дары. Если бы ты поскользнулся и разбился насмерть, то смог бы причаститься и беззаботно отправиться на тот свет. А я забыл у тебя на Урбане даже холст и краски! – И он снова обернулся к Алешу. – Останься с женщиной, чтобы на этом проклятом пути по цветущим рощам черешни, кроме всех неприятностей, нас не мучила еще и совесть. – И он вывел Петера Заврха, словно ребенка, из комнаты, а потом и из дома.
Женщина корчилась в судорогах и все-таки попросила:
– Иди, я хочу остаться одна.
– Не очень-то я смыслю в этом деле, но отсюда не уйду, – Алеш был растерян. Он схватился за бутылку с черешневой наливкой. – Глотни-ка еще. В партизанские годы мы, наверно, выпили половину всей заготовленной в Крайне водки, а половину вылили на раны. И помогало. – Он усмехнулся от смущения и отчаяния.
– Нет, не хочу, иди, – попросила она снова.
Но вместо того чтобы уйти, он сказал:
– Ты скажи, может, тебе что нужно? Я ведь не знаю, не понимаю ничего в таких вещах. Мне приходилось иметь дело с тяжело раненными, с умирающими – они лежали у меня на руках, а вот при родах мне не случалось быть. – И он снова улыбнулся.
– Я все приготовила, – ответила она.
– Почему же ты не позвала повитуху? Виктор мог бы тебя отвезти и в родильный дом. Знаешь, – сказал он не без гордости, – сейчас это бесплатно, не то что прежде! Все женщины идут в родильный дом.
– Я сама управлюсь, – ответила она решительно. – Иди, Алеш! – Она неожиданно назвала его по имени. Тогда и он вспомнил ее имя.
– Ты ведь Марта, – сказал он и повеселел. – Когда мы, партизаны, стучались в окно, ты всегда слышала и сразу же открывала двери.
Она впервые улыбнулась – чуть приметно, пересиливая боль.
– А сейчас иди, – попросила она, разжав запекшиеся губы. – Подожди за дверью, если будет что нужно, я тебя позову.
Он почувствовал облегчение, что мог выйти отсюда.
– Обязательно позови, – сказал Алеш.
В коридоре он остановился у выходившего во двор окна, на котором одиноко стоял цветок в горшке, осыпанный мелкими красноватыми цветочками. Алеш закурил сигарету и содрогнулся, услыхав долетевшие из комнаты отчаянные стоны. Во дворе Яка Эрбежник вел под руку урбанского священника, опиравшегося и на палку. Яка что-то оживленно рассказывал Петеру, потому что свободной рукой выразительно жестикулировал перед его носом. Алешу показалось, будто он чего-то никак не может понять.
Яка затащил Петера Заврха в хлев. И тот, вновь превратившись в рачительного хозяина, с наслаждением оглядывал рыжеватых коров, которые, повернув головы, смотрели на него – одни из них лежали, другие стояли, пережевывая жвачку. Поднялся вол – крупное, тяжелое животное – и задрал хвост. Петер схватил вилы и подцепил свежую навозную лепешку, то же он проделал и в других стойлах. Художнику Яке пришло в голову, что и это не мешало бы нарисовать, если уж человек возвращается в родные края, к запахам родной земли. Может, нужно начать именно с этого – с вереска, морозника, цветущих черешен, с крестьянских усадеб – и закончить людьми, здешними людьми, теми, что носят корзины за спиной или каждое утро проделывают двухчасовой путь пешком – на фабрику.
Алеш бросился к дверям светелки, там раздался душераздирающий крик.
– Я войду, Марта, – сказал он, хватаясь за дверную ручку.
– Нет, нет, нельзя! – попросила изнутри Марта. Обеспокоенный, он вернулся к окну и устремил неподвижный взгляд на двор, где бродили куры и солнце высвечивало большие яркие пятна. Опять по двору прошли хозяин Петер Заврх и художник Яка. Священник опирался на палку, он то и дело останавливался, видимо возражая художнику, который, покуривая сигарету, махал руками, правда, уже не столь возбужденно. Они направились к свинарнику, вероятно, намеревались обойти всю усадьбу. Алеш разволновался. Он был глубоко разочарован в священнике. «Удивительно, – сказал он себе, – Петер превратился в заправского сельского богатея: коровы, волы, лошади, свиньи, земля – это ему куда ближе и дороже, чем человек, ребенок, который вот-вот родится и в котором, очевидно, течет не чужая ему кровь». Алеш уже не сомневался, что отец ребенка – Виктор, значит, это – дитя усадьбы Раковицы. Он прислушался к тому, что делалось в комнате, но криков больше не было слышно, ему даже показалось, будто он различает плеск воды и шарканье веника по полу. Алеш не мог решиться войти, а его громкие вопросы оставались без ответа. Он снова подошел к окну: священник и Яка выходили из свинарника. Они прошли через сад и, перебравшись через речушку, направились к полям и лугам, – к средоточию всех богатств. «Страшно, – подумал Алеш с замирающим от отчаяния сердцем, – как это страшно. Родился человек, который никому не нужен. Кого он осчастливит своим появлением? Кому принесет пользу, доставит радость? Кто хотел, чтобы он родился? Мать? Отец? Раковица? Человечество?»
– Я сейчас войду, что бы ты ни говорила! – сказал Алеш решительно. Стряхнув пепел с сигареты, он взглянул на часы, будто у него заранее было определено время, когда ему можно войти. Из комнаты не доносилось ни звука. Он остановился в дверях и, прищурив глаза, осмотрелся. Пол вымыт. В углу за кроватью ушат с водой. Марта сидела на кровати, видимо, собиралась лечь. Она казалась преображенной – кожа, глаза – все стало совсем другим. Из-под косынки, завязанной узлом на затылке, выбилась прядь рыжеватых волос. Руки, неподвижно лежавшие на коленях, были длинные, пальцы костлявые. Если раньше ему не терпелось сюда войти, то теперь он не знал, что делать. Помолчав, сказал таким тоном, словно сам нуждался в поддержке:
– Так ты родила?! Мальчика? Девочку?
На лице ее не появилось даже тени улыбки, лишь чуть приметно шевельнулись губы:
– Все равно.
Она ответила так тихо, что он едва расслышал. Он содрогнулся от того, как холодно было это сказано. Марта со всем управилась сама и вот сейчас сидит неподвижно на краешке постели.
– Конечно, все равно, мальчик или девочка, – согласился он поспешно, – можно мне взглянуть на малыша?
Он усмехнулся, высказав такое желание, вызванное скорее растерянностью, чем искренним стремлением увидеть крохотное беспомощное существо. И все же он подошел к Марте и протянул руку к стене, где лежал ребенок, прикрытый подушкой и белой тряпкой. Он откинул тряпку и увидел круглую головку не больше кулака величиной, с намеком на глазки, носик, ушки, с темными, редкими волосками без всякого блеска.








