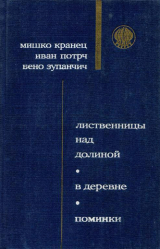
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Ребенок.
Он прошептал это беззвучно, одними губами. Но она услыхала. Быстро обернувшись к маленькому красноватому комочку, она на секунду заглянула Алешу в лицо, встретилась с ним взглядом, но он не успел понять, о чем говорили ее глаза, была ли в них просьба или приказание. Он не знал, что ему делать. Этот ловкач Яка бросил его здесь, а сам улизнул. В полном замешательстве он вдруг придумал:
– Сварю-ка я тебе чаю.
Она не отказалась, но и не выразила согласия.
– Ведь у тебя наверняка есть чай в кухне.
И на этот раз она не ответила. Тогда он вспомнил:
– Художник оставил нам бутылку водки. Ну-ка, дружище, отхлебни. В самом деле, думаю, это тебе полезно.
Он протянул ей бутылку и очень обрадовался, когда Марта взяла ее и поднесла ко рту, хотя и не отхлебнула, а лишь смочила губы. Тогда и он схватил бутылку и сделал несколько больших глотков.
– Сварю-ка я всем нам чаю! – сказал он так, будто новорожденный тоже мог пить с ними чай. Размахивая руками, он побежал в кухню.
Над домом поднялось косматое облачко дыма; струйки его, выползая из широкой крестьянской трубы, растекались по крыше и скатывались по обе ее стороны на землю. Петер Заврх и художник Яка Эрбежник стояли на краю нивы с неровными краями – казалось, кто-то здесь натягивал лоскут полотна, да так и не натянул до конца. Они спорили о том, что выгоднее сеять в здешних местах – пшеницу или ячмень. Заметив дым над крышей дома, Яка указал на него рукой и добродушно усмехнулся:
– Если не ошибаюсь, есть такой обычай: когда кардиналы изберут нового папу римского, над крышей появляется дым – и люди знают, что у них есть новый святой отец. Кажется, так?
– Не знаю, – священник рассердился, ему показалось, будто художник снова его разыгрывает. – Разве не видишь, на мне нет кардинальской шапки? И не бывал я там никогда. А из того, что в школе учил, что-то не припомню такого.
– Над домом показался дым, – продолжал художник спокойно. – Конечно, кардинал в твоем церковном приходе родиться не мог, а тут, в этой распрекрасной Раковице, и подавно. Но когда мы войдем в светелку, тебя приветствует плачем
РОДСТВЕННИК, КОТОРОМУ НЕ ОБРАДУЕШЬСЯ,
и все же ему придется отвести какое-то место между нами, разумными людьми. Что поделаешь! Не успеет перед тобой зайти солнце, как за твоей спиной уже восходит новое – иногда может показаться, будто на небе два солнца. Но не надо сердиться! Святость твоего сана обязывает тебя относиться ко всему снисходительно, с пониманием. Не пора ли тебе снова превратиться в священника, в Петера Заврха из церкви на Урбане, который в часы бессонницы беседует за стаканчиком випавца с богом?
Подхватив священника под руку, Яка тащил его к дому, а тот что есть силы сопротивлялся, морщась и моргая глазами.
– Ты болтаешь такие глупости, что, верно, сам уже не можешь разобраться в своих бреднях. Скажи прямо, чего ты от меня хочешь? Я учился в классической гимназии очень давно, когда еще в почете была старая логика.
– Если не можешь идти в ногу со своим временем, сделай сразу скачок из прошлого в наши дни. Старый почтовый поезд, ходивший между Любляной и Веной, сменился экспрессом. А человеку конца двадцатого столетия и наши самолеты не покажутся такими уж быстрыми. Время все больше и больше спешит. Святость логики отжила свое. Превратись-ка ты снова в обычного урбанского священника – тебе будет легче.
Неожиданно Петер Заврх опомнился:
– Мне нужно в долину, а я тут погряз в твоей болтовне. – И он вдруг ужасно заторопился.
У Алеша Луканца чай был готов. Прежде чем они поднялись на второй этаж, Марта уже вволю напилась чаю.
– Больше не могу. – Она протянула Алешу чашку.
Вероятно, впервые в жизни она посмотрела на кого-то с благодарностью – во всяком случае, так показалось Алешу.
– А теперь ложись, – распорядился он.
Марта кивнула. Он помог ей улечься и накрыл ее по самую грудь одеялом. Закинув руки за голову, она сказала:
– Уж теперь-то ты можешь идти. Все в порядке. И спасибо тебе за все! – Но тут же спросила: – А зачем вы пришли сюда, Алеш? Наверное, дядюшке кто-нибудь наговорил про меня?
Он удивился ее неожиданной многоречивости. Она и в партизанские-то годы никогда не произносила больше двух-трех слов сразу.
– Все дело в Викторе. Дядюшка идет его разыскивать – ведь он сбежал. А ты что на это скажешь? Это правда, что он сбежал?
Лицо ее не дрогнуло, не изменилось; спокойные глаза, не мигая, смотрели на Алеша. Она сказала:
– Он пошел за Яковчихой, хочет привести ее сюда, в Раковицу, молодой хозяйкой.
В эту минуту дверь распахнулась. Петер Заврх, владелец Раковицы и урбанский священник, влетел в комнату, будто его кто подтолкнул. Увидев на постели «бабу», а возле постели Алеша, он удивленно заморгал глазами.
– Что здесь происходит? – спросил он сурово. Вопрос был поставлен очень широко: Петеру Заврху с самого начала казалось, будто в Раковице нечто происходит. Он избегал соприкосновения с этим «нечто», пока художник Яка буквально не впихнул его в комнату и не заставил во всем убедиться воочию.
– Что у вас тут?
По чашке, по котелку с чаем Яка определил, что активист неплохо справился и с кухонными делами. Улыбнувшись, он подошел к постели и весело спросил женщину:
– Можно? – Головой он указал на сверток у стены. Неподвижные глаза Марты были до этой минуты обращены к священнику, теперь она перевела взгляд на художника, однако ничем не выразила ни согласия, ни отказа. Он склонился над постелью, откинул подушку и платок, вгляделся, слегка прищурив глаза, и бодро воскликнул:
– Какой натюрморт! Это же лучшее благословение неба! – Он обернулся к Петеру Заврху. – Пока твой племянник шляется по белу свету, в Раковице появился новый хозяин или хозяйка – это уж как распорядился твой высокочтимый бог, конечно, принимая во внимание интересы Раковицы.
Мир, в котором Петер Заврх до сих пор жил, разбился вдребезги. Заврха бросило в дрожь, но он кое-как совладал с собой. Переступив с ноги на ногу, направился к постели и остановился в двух шагах; женщина смотрела на него неподвижным взглядом, словно в ожидании строжайшего суда и самого жестокого наказания. Священник высоко поднял голову, обвисшая кожа на старческой шее туго натянулась. Он спросил сурово:
– Что это значит?
Художник подхватил под руку активиста Алеша и сказал ему, усмехнувшись:
– Пошли, повитуха. Оставим священника с женщиной, пусть он придет в себя. – Обернувшись к Петеру Заврху, он произнес назидательно, но при этом весело и дружелюбно: – Не забудь, что ты урбанский священник. Если жизнь поневоле наказывает своих детей, вовсе не обязательно, чтобы это делало еще и небо. А если уж небу хочется их покарать, пусть эта кара не будет суровей той, что посылает им жизнь. Надень облачение, подобающее твоему сану, – добавил он, – сбрось крестьянский наряд и выкинь из уха забравшегося туда полевого кузнечика!
Но крестьянин Петер Заврх, владелец Раковицы, был глух ко всем советам. Оставшись один на один с Мартой, он произнес неумолимо, без тени сострадания:
– А теперь, несчастная, ты сознаешься, чей это ребенок! Ты меня поняла?
Лицо ее не дрогнуло, неподвижные глаза не блеснули огнем.
– Чей это ребенок, женщина? Я тебя спрашиваю!
Она ответила коротко:
– Мой.
– Конечно, твой, мать, я и сам вижу. А меня интересует отец.
– Мой, – повторила она без капли волнения. – Отца у него нет.
Петер Заврх напрягся.
– Не Виктора?
– Мой! – повторила Марта упрямо.
– Твой! – согласился Петер. – Значит, не Виктора. А если не его, то все равно чей.
Очевидно, ей этого показалось мало, и она холодно пояснила:
– Мой он, не Виктора! У ребенка есть только мать.
– Вот как! – проворчал Петер Заврх и добавил: – Нет спешки его крестить, можешь и подождать. На обратном пути я зайду сюда, в Раковицу. Надеюсь, и разбойник уже будет дома. Сядем втроем и потолкуем. А до тех пор никто не должен знать о ребенке, даже батрак Рок. И если явится эта – как ее – «всекрестьянская коллективизация», гони ее прочь! Ты меня поняла?
– Вы говорите по-нашему, по-словенски, отчего не понять, – ответила Марта.
Он воздел увядшую, в синих жилах руку с вытянутым вверх указательным пальцем. Сейчас он был воистину подобен прусскому богу на картине и изрекал так сурово, как изрекают только боги:
– Берегись, чтобы тебя не постигла самая страшная кара!
Марта не шелохнулась. Ее уличили и вынесли приговор. Она ни минуты не сомневалась, что ее ждет эта самая страшная кара, ибо сейчас между Петером Заврхом и немецким богом на стене там, внизу, не было ни малейшего различия. Она проводила хозяина взглядом до дверей, а потом уставилась на белый потолок. Из глаз ее текли слезы, хотя она не плакала – не умела. В жизни все было таким же незыблемым и холодным, как потолок над нею.
– Пошли, – распорядился Петер Заврх, спустившись в горницу, и даже не взглянул на Алеша и Якоба.
– Пойдем, повитуха, – сказал Алешу художник, – попрощаемся с только что возникшей словенской семьей. – Он обернулся к Петеру Заврху: – Ты никак уже управился? Надеюсь, тебя растрогал сей натюрморт в твоем доме? А пока мы будем прощаться с этой несчастной в будущем женщиной, займись переоблачением. Если бы у тебя получилось, я порекомендовал бы тебе простейшую человеческую одежонку, поношенную, из дешевой «чертовой кожи» – люди в такой одежде добрее и снисходительнее других. Во всяком случае, пора уж тебе проститься в душе с крестьянином-богатеем Петером Заврхом и поблагодарить его за то, что он дал тебе возможность окунуться в приятный родник землевладения.
Петер Заврх зажмурился: художник застиг его врасплох, угадав нехорошие мысли. Но Яка уже мчался вслед за Алешем по лестнице, и минуту спустя оба стояли перед Мартой. Яка ужаснулся: женщина была в слезах – плакала ее душа, ее сердце. Он вынул из нагрудного кармана шелковый платочек и сказал со всей теплотой, на которую был еще способен:
– Я сейчас вытру твои слезинки. Жизнь вряд ли станет тебе их утирать. А ты лежи тихо. Когда-нибудь ты вспомнишь, что и художник может осушить человеческие слезы.
Он вытирал ей лицо шелковым платком – нежно, легкими движениями, словно наносил кисточкой на полотно тончайшие штрихи; сунув платочек в карман, сказал:
– Я сохраню его на память о том, что было и что будет, на память о жизни, которая до сих пор не изменилась к лучшему.
Затем, словно ничего не случилось, он снял подушку с ребенка, откинул лоскуток с его личика и, наглядевшись, обратился к Алешу:
– Знаешь, если бы жизнь не была такой, какова она есть, мне не пришлось бы произносить прилагательных, глаголов, существительных в самых нелепых сочетаниях, – всего, что так свойственно человеческой речи; ну, а так я должен констатировать: крохотное создание не осчастливило никого – даже родную мать, отца с дядюшкой и подавно, а о тетке и говорить не приходится. Не обрадовалась ему ни церковь, ни наша народная власть, ни современное человечество, ни старый словенский бог Петера Заврха. Будь я в состоянии, я бы увековечил эту страшную идиллию, которую мы видим в несравненной по красоте усадьбе с цветущими черешнями, где хозяином Петер Заврх; как священник он станет терзаться душевной мукой, как владелец Раковицы – сгорать от стыда и гнева. Я нарисовал бы мать, которая не знает, зачем стала матерью и, вероятно, даже того, когда ею стала. Дорогой мой, во всем этом, вместе взятом, есть что-то горькое, нездоровое, впрочем, это свойственно и той части человечества, что переселяется в модные салоны и усваивает правила хорошего тона.
Неожиданно он схватил руку женщины, лежавшую у нее под головой, быстрым легким движением поднес к губам и поцеловал, прежде чем та успела опомниться. Смуглое, усыпанное зеленоватыми пятнами лицо Марты залила багровая краска, глаза ожили, взгляд устремился к Яке, и она тихонько спросила:
– Зачем вы это?
Не дождавшись ответа, она повторила:
– Зачем вы это сделали?
Она держала руку перед грудью, словно показывала ему или сама собиралась получше ее рассмотреть. И тогда Яка склонился почти к самому уху Марты, все еще продолжая смотреть ей в глаза, которые были сейчас совсем близко, и тихонько сказал… Нет, вероятно, он не произнес ни слова, даже не шепнул ничего, может, чуть шевельнул губами, и все же она угадала страшную мысль. А он еще раз взял ее руку и легонько погладил: чтобы было не так тяжело убивать… В приливе нахлынувшей душевной боли он крепко сжал запястье Марты, словно хотел оторвать ее кисть. Потом сказал, будто что-то поясняя:
– И все же, иногда это благословение свыше… – А на прощание прибавил – она понимала, он прощается с нею: – Будь сильной, когда останешься одна. Нет никого на свете, кто побыл бы с тобою рядом в трудную минуту или избавил тебя от самого страшного в жизни. Маленького человека обычно все бросают, когда ему особенно тяжело.
Он выпустил ее руку и отвел глаза. Марта понимала, что вовсе не дядюшка, а этот человек имеет над ней странную власть; он угадал ее мысль и словно пригвоздил к чему-то жестокому, непоколебимому, от чего ей уже не освободиться.
– До свидания, – сказал Алеш, который не все расслышал, а что и услышал, не понял. – И чтобы все хорошо было, чтобы оба вы были здоровы! – и вдруг спросил: – Может, тебе чего нужно?
– Нет, спасибо, ничего, – ответила она грустно, – понадобится что, сама управлюсь.
– Несчастный Петер! – хмыкнул Яка, когда они спускались по лестнице. – Бывает, этакая мелочь, пыль, соринка в глазу так затуманит зрение, что человек ничего не видит. Ну а это, – он указал взглядом наверх, – гусеница на грядах усадьбы. Хозяин Заврх такого не перенесет. А священник Заврх еще переплюнет Заврха-землевладельца.
– Ты говоришь, будто злорадствуешь, – ответил Алеш.
Яка пристально посмотрел на активиста.
– Эх! – Он засмеялся. – Я всегда радуюсь, если неприятность нанесет визит кому другому – меня она слишком часто посещала в самых разных обличьях, и я уже сыт ею по горло. – Он продолжал смеяться. – Я не возражал бы, если бы она и к тебе пожаловала, да к кому угодно на свете!
Петер Заврх уже собрался: в правой руке палка, в левой – сумка с черешневой наливкой, мясом и хлебом.
– Я иду в долину.
– А мы ищем невесту, нам с тобой по пути, – усмехнулся Яка и взглянул на Алеша: – Или, может, ты уже отчаялся?
– У меня отпуск, – ответил Алеш.
Священник обернулся к ним, но лишь вполоборота:
– Давайте молчать. Я имею в виду Раковицу.
– Нам с Алешем это нетрудно, – сказал Яка весело. – А как ты поладишь со своим богом, в конце концов твое личное дело.
– Я посоветуюсь с ним, – произнес Петер Заврх о болью в голосе. – Надеюсь, мне не придется его долго ждать, а он меня поймет.
– Разумеется, дружище! Ему ведь не спится – вот он и придет к тебе в гости! И конечно, поймет тебя! – воскликнул Яка. – Похоже, этот твой бог сам был в свое время крестьянином-богатеем, а может, им и остался. Не беспокойся – он будет на твоей стороне. У батраков и батрачек не было своего бога, способного заступиться за них, вот они и обращались к богу своих хозяев. А социализм у нас этих вопросов тоже еще полностью не разрешил! – И он попытался развить мысль, которую высказал у Марты: – Одним ребенком на свете больше, одним меньше! Экий пустяк!
Петер Заврх всем корпусом повернулся к Яке:
– Я не просил тебя комментировать! – Затем добавил спокойнее, хотя и с чувством глубокой личной заинтересованности: – Речь идет о Раковице, о моей родной усадьбе!
– Да! – воскликнул Яка, прикинувшись растроганным и не обращая внимания на то, что Петер начал сердиться. – Усадьба, земля – краеугольный камень прошлого, колыбель великих дел и ужасных злодеяний! О, Раковица, родина Петера Заврха!.. Этакий пачкун там на постели – обуза для богатой усадьбы, ненужный мусор, отбросы, а для художника – всего лишь натюрморт.
– Прошу тебя, перестань! – прикрикнул на него Петер.
– Душа – удивительно противная штука, если она заговорит в человеке.
Петер Заврх вдруг успокоился, словно принял важное решение. Помолчав, сказал сердито и вызывающе:
– Что ж, пойди и раструби всему свету!..
– Люблю поболтать, – признался Яка, склонив голову с деланным смирением. – Но больше не буду. Пройдем мимо этого ребенка. Кучка земли, нарытая кротом… – Он взял Алеша под руку и сказал с улыбкой: – Ты, наверно, был очень храбрым партизаном – ведь тогда впереди у тебя маячили великие цели. А теперь тебе понадобятся костыли, чтобы перебраться через эти горы человеческих бед. Я уверую в наш новый строй, низко поклонюсь ему, если он сумеет увидеть все то, чего не смог понять Петер Заврх, владелец Раковицы, и никогда не поймет священник из церкви на Урбане.
Они вышли из дома, и священник сам запер двери, а ключ положил на условленное место: на окно за горшок с розмарином.
– Посмотри! – воскликнул Яка, обращаясь к Алешу. – Вот замок среди цветущего сада, в нем заколдованная королевна с новорожденным принцем или принцессой – кто вызволит их? Вперед, богатыри! Может, это сделаешь ты, Петер Заврх, со своею церковью? Или ты, Алеш Луканц, со своею народной властью?
Алеш обернулся к Яке и спросил полушутя-полусердито:
– Может, ты ее спасешь своим искусством?
Яка Эрбежник рассмеялся:
– Были времена, когда голос искусства мог прозвучать так громко, что его слышали через многие столетия. Теперь мы малюем вьющуюся фасоль для людей, которые не вылезают из модных салонов… Ну да ладно, пойдемте с богом. Петер Заврх как-никак спасает своего племянника и усадьбу; Алеш Луканц, если понадобится, будет спасать деловые бумаги, а Яка Эрбежник так заблудился в жизненном круговороте, что не может найти выход. Хочу ухватиться за Яковчиху, как за спасательный круг, убежать с ней из этих старых-престарых словенских гор, где фабричные девушки, получая по семь тысяч динаров в месяц, распространяют первейшие достижения культуры в виде нейлоновых чулок и внебрачных детей. Пошли! – И Яка опять засмеялся.
– Совсем рехнулся, – заметил Петер Заврх.
Память о Раковице бледнела. Цветущая котловина скрылась за лесом. Дорога вилась между редкими соснами, елями, буками, грабами, лиственницами, полуденный воздух прогрелся, под ногами мелькали рваные лоскутья тени и освещенной солнцем земли.
– Ничего подобного мне сегодня и не снилось, – сказал вдруг художник так тихо, будто прошелестела листва. – А неприятности начались уже с самого утра – я оказался в роли церковного служки, ну и так далее. Эх, дорогой Алеш, – Яка стал подтрунивать сам над собой, – любая власть, духовная ли, светская ли, нуждается в своих церковных служках, в пасхальном колокольном перезвоне или хотя бы в будничном, ежедневном, призывающем к мессе. Боюсь, что сегодняшний день, если расценить как неприятность и рождение этого никому не нужного червячишки, кончится крахом и для меня, и для нашего дорогого священника, который еще не очнулся после сладких ночных грез и божьих визитов. Что будет с тобой, Алеш, меня не касается. И недели не прошло, как мы с Минкой обо всем договорились – это было вроде помолвки, что ли, а теперь… Надеюсь, Алеш, ты не окажешься счастливей меня! – Яка засмеялся и окликнул священника: – Дорогой Петер! Где у нас черешневая наливка? Можно отпраздновать крестины нового обитателя Раковицы и мою женитьбу – прямо тут, в лесу.
Не успел Петер Заврх ответить, как Яка вытащил у Алеша из сумки бутылку, откупорил ее, высоко поднял и, обернувшись к солнцу, произнес бодро и в то же время с болью и горькой усмешкой висельника:
– Прежде всего, за здоровье нас самих, дружно собравшихся тут вместе, как сказал Прешерн[4], потом за счастье в моей несостоявшейся супружеской жизни с Минкой и за удачный печальный конец червячишки в Раковице! – Он наклонил бутылку и принялся пить с такой жадностью, словно утолял жажду водой.
– Он еще не пригубил, а уж болтает совсем как пьяный, – проворчал священник Петер – его все сильнее охватывало беспокойство, конечная цель его пути, казалось, отодвигается от него все дальше и дальше. Но когда Яка протянул ему бутылку, он схватил ее обеими руками и сделал несколько больших глотков. Затем, не глядя на Алеша, сунул тому бутылку.
Полчаса спустя, преодолев небольшой подъем, они вышли к лиственницам у развилки дорог и засмотрелись на открывшийся отсюда вид – озаренную мягким солнечным светом долину с полями, дорогами, деревеньками, лесами, – это было подобно огромному цветному ковру. Оглянувшись назад, они замерли в изумлении:
НА СКАМЕЙКЕ ПЕРЕД РАСПЯТЬЕМ
сидела Малка Полянчева с инвалидом Михой Хлебшем, наполовину железный, наполовину деревянный протез его правой ноги лежал поперек дороги. Здоровая нога, на которую он опирался во время ходьбы, сейчас отдыхала на скамейке. Перед ними стояла с верхом нагруженная тележка, и Малка держалась за ее ручку.
– Здесь каждый прохожий останавливается передохнуть и оглянуться на долину, – сказала Малка, когда они с Михой полчаса назад присели по ее просьбе на скамейку. – А нам отдых во сто раз нужнее, чем другим – тебе из-за ноги, мне из-за сердца. Вот, потрогай, как оно колотится, словно конь бьет копытом по мостовой.
Она схватила Миху за руку и, расстегнув одолженную черную блузку, запихнула его кисть себе под рубашку; пальцы его коснулись Малкиной пышной груди, что привело инвалида в немалое замешательство.
– Правда, колотится? – спросила она, словно гордилась этим.
Он смущенно кивнул.
– Нет, ты послушай еще, – сказала Малка, когда он попытался высвободить руку. – Быстрее и сильнее биться оно не может и более неровно – тоже, – пояснила она, и лицо ее запылало. – А что поделаешь! Бывает, на меня находит страх – вдруг оно возьмет да и остановится. Я выжидаю, потом пробую пошевелиться так, чтобы сразу не умереть. Доктор сказал, мне ничем нельзя помочь, а жить как-то надо.
Ему удалось вытащить руку из-под ее сорочки, на миг они встретились взглядом и умолкли. Потом заговорила Малка, а он в волнении закурил сигарету. Чтобы отыскать в кармане зажигалку, ему пришлось встать на ноги. При этом он засмотрелся на распятого Христа, перед которым они сидели. Миха прочел давным-давно знакомые слова, способные своей наивной простотой вновь и вновь растрогать человека: «Остановись, путник…» – далее говорилось о несчастном случае с Йоштом Яковцем и о его гибели. Взглянув опять на Христа, Миха сказал:
– До чего похож на человека!
– Конечно, – кивнула Малка, – иногда он больше напоминает Йошта Яковца, иногда – священника Петера из церкви на Урбане. Только – все говорят – на бога он ничуть не похож.
– Нисколечко не похож, – согласился Миха Хлебш. – Хотя ведь никто не знает, какой он – бог.
– И вправду, никто не знает, – сказала Малка, – только уж он никак не может быть похожим ни на Яковца, ни на Петера Заврха. А этот такой, будто из наших мест.
– Ну и что ж! – воскликнул Миха, в котором вдруг заговорила прежняя партизанская сознательность. – Надеюсь, мы не будем много толковать о боге? Думаю, покойный Тоне доказал тебе, что бога нет?
– Еще бы! – ответила Малка. – Об этом он болтал без устали. А в конце концов – кто его знает? Одни говорят, бог есть, коммунисты твердят, будто его нет.
– Его нет, и запомни это, – отрезал Миха Хлебш.
Ей не хотелось уже сейчас начинать споры, и она, перейдя через дорогу, подошла к лиственницам и засмотрелась на деревья, которые чуть клонились к долине, выстроившись вдоль откоса.
– А знаешь, – воскликнула Малка, – какого они бывают красивого цвета, когда только зазеленеют! Ну посмотри же!
Она улыбнулась, восхищенно и немного печально. В этот миг она показалась ему живым воплощением доброты.
– На каждом дереве, – принялась она рассказывать о лиственницах, – вырезаны буквы, с которых начинается чье-нибудь имя. Это имена тех, кто живет тут, в горах. Раньше, пока деревья не состарились, кора у них не была такой грубой и шершавой. Да и сейчас парнишки, что бегают в школу, вырезают на ней имена приглянувшихся им девчонок, а рядом и свои собственные. Все это школьная любовь! – усмехнулась она, что-то вспоминая.
– Есть тут и твое имя? – спросил Миха.
– А неужели нет! – воскликнула она гордо и весело. – Ведь и меня любили, да еще как! Трижды вырезано здесь мое имя и еще на многих буках вокруг Подлесы! Имя мое найдешь везде, во всех лесах!
Говорила Малка с воодушевлением, глаза ее оживились. Вдруг в голосе послышалась горькая усмешка:
– Вот и Кржишников столько раз вырезал мое имя на буках вокруг Подлесы, а теперь женится на девушке с Брдо. Он работает механиком в долине, строит там себе дом – отец дает Катке в приданое лес, деньги, да еще кое-что для дома, а у меня ничего нет. Все, все ушли в долину, на фабрики и заводы, и когда кто-нибудь собирается жениться, обо мне и не подумает. Так я и осталась в горах, забытая…
– Все проходит, – согласился с ней Миха, которому тоже припомнилось прошлое. – Забудь ее, свою первую любовь, хотя, наверное, она и вправду самая лучшая.
– Да, самая лучшая! – кивнула Малка.
За лиственницами круто спускался поросший травой откос, кое-где торчали голые скалы.
– Об одну из этих скал Йошт Яковец и разбил себе голову. Хотя не совсем ясно, как это случилось и не было ли здесь чего другого.
– А когда это произошло? – поинтересовался Миха.
– В войну.
– Ну, тогда и мы, партизаны, могли задеть пулей, да и немцы в горах тоже.
– Верно, – согласилась она, – только он работал в долине и его видели с немцами…
Разговаривая с Малкой, Миха перешел через дорогу к лиственницам и прислонился к одной из них. Теперь оба они смотрели вниз, в глубину. Там, где кончалась поросшая травой крутизна, проходила проселочная дорога, за ней по более пологим склонам шли возделанные полоски земли. На трех расположившихся полукругом холмах среди лугов и пашен цвели старые черешни. Дальше тянулись лесистые овраги; леса росли и выше, в горах, и повсюду на деревьях можно было увидеть заглавные буквы Малкиного имени, которые вырезал не он, Миха, и даже не ее покойный муж – это сделали влюбленные мальчишки, только от их детской любви не осталось ничего, кроме воспоминаний.
Миха засмотрелся на широкую долину. Здешние горы были ему незнакомы – он партизанил в других краях. После войны он переехал в город, к сестре, но вскоре поссорился с ней и стал жить отдельно. Он начал пить, и, прежде чем спохватился, его уже дважды уволили с работы. Ожесточившись, он не пытался никуда устроиться и до сегодняшнего дня вел беспорядочную жизнь опустившегося человека.
– А хорошо там, – сказал он, глядя в долину. – Отсюда все кажется таким красивым.
Многоцветная, окутанная прозрачной, пронизанной солнцем дымкой долина лежала глубоко под ними. Все в ней играло переливами света – пашни незаметно переходили в луга, луга – в перелески, одна краска – в другую, земля у горизонта – в небо.
– Красиво, – подтвердила Малка и заговорила о себе. – Я всегда думала, как хорошо жить там, внизу. Все ждала, что кто-нибудь придет за мной и уведет туда. Только мне хотелось оставаться там крестьянкой, а не быть фабричной работницей. Но это не сбылось… Видишь дороги?.. Они прямые, белые, узкие! А как вода сверкает на солнце! Вон полоски пашни – ровные, пестрые, одна за другой, словно ленточки. Отсюда все кажется чудесным, правда?
– Правда! – повторил за ней Миха.
И вдруг Малка сказала:
– Там растет белый хлеб богатых людей. – Она ничего не могла с собой поделать: мысли о белом хлебе преследовали ее неотступно. – Человеку в долине легко живется, – говорила она больше самой себе, чем Михе, – а тут редко где найдешь пахотную землю, участки маленькие, все до единого неровные, и регеля тут ставят поменьше – не такие, как внизу. Там на паре лошадей привезешь себе в поле вдоволь навоза, с поля увезешь картошку, можно даже на тракторе работать… а тут все нужно таскать корзиной и, когда нельзя пахать землю из-за камней, приходится перекапывать мотыгой.
Взгляд ее поднялся из долины в горы, вправо: там, в крутом изломе горного гребня, прилепилась как гнездо маленькая деревенька Подлеса, а сверху лес защищал ее от ветров. Ниже на склонах расстилались поля и луга, на них друг за другом стояли регеля для просушки сена.
– Это наша Подлеса! – воскликнула Малка. – До чего ярко там светит солнце! Мне всегда кажется, будто солнца тут больше, чем где бы то ни было на свете.
– Да, солнца тут много, – сказал Миха, засмотревшись на деревню и на все, что ее окружало, – и вправду похоже, будто тут светит двойное солнце.
Семь домов с амбарами, хлевами, свинарниками, винными погребами и другими хозяйственными постройками сжались в тесную кучку, словно хотели обняться. Над домами кружили серые и белые голуби, две дворовые собаки заливались лаем, кто-то поднимался по дороге в гору; через луг, что был ниже деревни по склону, шла женщина с огромной корзиной за спиною, кто-то пахал у самого леса. И все-таки кругом царил покой воскресного полдня.
– Тут, в горах, – снова заговорила Малка, – все мне кажется родным и близким – такого нигде на свете не сыщешь. Среди гор каждая вещь имеет свой конец – вот один холмик, а вот другой; видно, где кончается ущелье, где вершина горы. И у любой, даже самой пустяковой вещицы есть свое имя, как есть оно у каждого ребенка, пусть их добрых два десятка в доме. А когда я из-под этих лиственниц заглядываю в долину, мне кажется, будто там, внизу, ни одна вещь уже не имеет своего названия, а земля вообще не имеет конца.
– Это и вправду так, – подтвердил с ученым видом Миха, – ведь земля круглая.
– Зато у человеческой жизни есть конец, – напомнила Малка, грустно улыбнувшись. И прибавила: – Жизнь ведь не круглая, так я думаю!
Он согласился:
– Нет, конечно. Она похожа на дерево – вырастет, а потом свалится. Ну, нам пора идти дальше.
– Я тут подолгу сижу, – ласково возразила Малка, – пока сердце совсем не успокоится. – Она взяла его за руку, и они как двое малых детей вернулись на скамейку у распятия. Свободной рукой он в это время нащупал в кармане сигарету.
– Боюсь, – сказала Малка, – тебе наскучит в горах. Ты привык к городу, где всегда шумно, даже ночью.
– Почему это наскучит? – ответил он и заглянул ей в глаза. – Только бы ты была довольна мной и хоть капельку меня любила.
– Отчего бы мне тебя не любить! – воскликнула она. – Вон ты какой пригожий да разумный.
– Ты станешь думать о покойном.
– Он умер, – сказала Малка, – Я его не забуду, ты это понимаешь – ведь он был такой добрый. Но слишком много думать о нем я не стану, не то он будет мне сниться, а это страшно. Знаешь, на меня часто нападает страх. – И тут она высказала свою тревогу: – Надеюсь, он на меня не рассердится за то, что я, едва его похоронив, уже иду с тобой. Не моя в том вина. Конечно, я должна была тебе сказать: подождем месяц – хотя бы ради злых языков, которые нас не оставят в покое. Ведь люди в Подлесе ничуть не лучше, чем в других местах. Да что поделаешь! Как мне жить? Беднягу моего угораздило умереть в самом конце месяца, и почтальон мне первого числа уже ничего не принесет. А сбереженных денег, сам понимаешь, у меня совсем нет.








