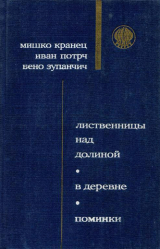
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
– Моя пенсия поменьше, – стал оправдываться Миха и вздохнул. – И вправду жаль: раз уж меня задело, могло бы и покрепче. Двадцать процентов пенсии – ощутимая штука, ну а кусочек тела – ерунда, если у человека и так уже чего-то не хватает.
– И впрямь, могло бы тебя чуть побольше задеть. Да что теперь поделаешь? – вздохнула и Малка; в действительности же ей было приятно, что возвращается она домой не одна и ей не придется ломать себе голову над тем, как дальше жить. – Шла я в последний раз ему за лекарством, – рассказывала Малка, положив одну руку на тележку и все еще не отпуская руки Михи, – остановилась тут перед распятьем, трижды вздохнула и пожаловалась богу на свою долю – на то, что не знаю, как дальше жить, если муж умрет. Прочитала даже молитву «Отче наш», чтобы для меня все хорошо кончилось, если уж ему суждено умереть. Видно, бог и вправду меня услышал. Иначе с чего бы это капеллан из церкви святой Едрты сказал мне утром: «Ступай к Хлебшу и сегодня же забери его с собой в горы!» Знаешь, скажу я тебе открыто, хоть ты и был в партизанах – лампадку перед образом божьей матери у себя дома я зажигать все равно буду. В конце концов еще не доказано, есть бог или нет его. А, матерь божия жила на земле наверняка. И пусть себе лампадка горит на всякий случай – это никогда не помешает.
– Бога нет, – заявил Хлебш решительно. – Для нас с тобой его не будет, так и знай…
– Пусть, только лампадку я зажигать стану, уж это ты мне разрешишь, – сказала она кротко. – Я обещала матери. Ведь у нас в горах лампадки горят в каждом доме, даже у тех, кто работает на фабрике. Они тут горели всегда, так сказывают люди.
Именно в эту минуту перед ними остановились священник Петер Заврх, художник Яка Эрбежник и партийный работник Алеш Луканц – последний был так поражен, что невольно воскликнул:
– Ты ведь Малка Полянчева, или, может, меня обманывают глаза? Утром церковный сторож на Урбане сказал, ты хоронишь своего мужа Тоне. А сейчас ты сидишь тут с Хлебшем, если не ошибаюсь.
Малка и Хлебш оторопели. При этом Малкино бледное лицо залилось яркой краской, словно к нему прилипли лепестки дикого мака.
– Умер мой бедняга, – вздохнула она, и на глаза ее, словно по заказу, навернулись крупные слезы, – похоронила я его как подобает: пришли партизаны, отвезли гроб в долину и даже речь сказали на могиле…
– А ты не зашла ко мне предупредить, – Петер Заврх вдруг вспомнил свои обязанности духовного пастыря, – чтобы я принес ему святые дары. Вот и умер он без причастия – как дикий зверь.
– Уж я так его уговаривала, – запричитала Малка, – а он в ответ меня даже обидел. Сами знаете – кто побывал в лесу, в партизанах, о боге не хочет и слышать. Что же, мне нужно было ссориться с ним, с умирающим, если мы и раньше-то никогда не ссорились? А в долине, – вздохнула она, оправдываясь, – партизаны все хорошо устроили, только в церковь нести его отказались, а мы, слабые женщины, не могли, капеллан и звонарь из церкви святой Едрты тоже не захотели; не мог же он сам, бедняга, войти туда.
– Он и живой никогда в церковь не ходил, – рассердился Петер Заврх.
– Не ходил, – согласилась она покорно. – Капеллан из церкви святой Едрты так и сказал: «Если он живой не ходил, не стану же я его мертвого насильно тащить в церковь!» Окропил его святой водой, прочитал коротенькую молитву за упокой души, так мы его и похоронили – наполовину по-церковному, наполовину по-гражданскому, так что все могут быть довольны – и бог и народная власть.
– Ладно, – сказал Петер Заврх строго и, кивком указав на Миху Хлебша, спросил свысока: – Я вижу рядом с тобой мужчину, он тебе что, родственник?
От этих слов кровь прилила Михе к лицу – ему было неловко перед Малкой и Алешем, которые могли о нем плохо подумать, и он сказал в смущении:
– Никакой я не родственник. Этого еще не хватало! – Он поднял протез, словно показывая его священнику. – Но мы станем родственниками, если что-нибудь этому не помешает. Мы собираемся пожениться, как только у Малки кончится срок траура, понятно, самый короткий.
– Похоже, тебе не терпится перебраться к женщине! – сердито сморщился священник.
Хлебш тоже нахмурил брови и ответил с язвительной усмешкой:
– Вам, я так думаю, не больно захочется стирать себе рубашки. К тому же у меня есть кое-какие права на эту женщину. У Малки плохое сердце, а жить нужно и ей и мне. Выходит, из-за траура мы не можем съехаться? Ни люди, которые так любят смотреть на скорбящих жен, ни правление в долине – никто не позаботится о том, на что ей жить во время траура. Нет, в правлении никто не скажет: «Выдадим Малке пенсию мужа за следующий месяц, пусть она его спокойно оплакивает…» Шиш!
– Потому что траур не продуктивен, – вздохнул художник и пояснил, видя, что его не понимают: – Траур не относится к производству и не дает прибыли.
– Не дает, – поддержал его Миха, – попросту говоря – на траур не проживешь, поэтому так будет лучше для нас обоих, и у Малки появится кое-что на прожитье; а мужа пусть себе оплакивает хоть каждый день – все равно выкроит времечко и постирать мне, и заштопать, и сварить нам обоим какой-нибудь нехитрой еды – из того, что мы, Алеш, едали тут в партизанские годы. – И он поспешил оправдать Малку: – Ей, бедняге, много нельзя работать, у нее совсем никудышное сердце.
– Никуда, совсем никуда не годится мое сердце! – воскликнула Малка, радуясь возможности вставить словечко, тем более что священник поглядывал на нее с явным укором.
– Яка знает, какое оно у меня, правда? А теперь ты, Алеш.
ПОЩУПАЙ МОЕ СЕРДЦЕ,
приложи руку вот сюда и мигом почувствуешь, как оно колотится.
Луканц и опомниться не успел, как она оказалась рядом и схватила его за руку. Ошеломленный, он не сопротивлялся, даже когда Малка стала запихивать его кисть себе под расстегнутую блузку. Лишь в последний момент, красный как рак, он успел отдернуть руку. Тогда на выручку пунцовому Алешу подскочил художник и, насмешливо прищурившись, воскликнул:
– Ладно уж, Малка, давай я пощупаю за всех троих. Конечно, если нашему добродетельному священнику не захочется, так сказать, собственноручно обследовать твое сердце, чтобы понапрасну не обвинять тебя в тяжких грехах. Знаешь, ведь богу не все равно, имеет проступок оправдание или непременно требует возмездия. В этом вопросе он большой педант.
Онемев, священник таращил глаза на художника, пока тот засовывал руку в разрез Малкиной блузки.
– Я прямо так, подружка, – сказал Яка, – сквозь одежду хорошо не расслышать.
– Что же, давай, – ответила Полянчева, – сейчас оно у меня уже немного успокоилось – ведь мы с Хлебшем давно тут сидим.
Запустив к ней за пазуху руку, Яка с чуть приметной усмешкой взглянул на священника и сказал с затаенной издевкой:
– Может, Малка, нашему священнику тоже следует потрогать твое сердце, как ты на это смотришь?
– Потрогайте, преподобный отец, – смиренно попросила его Малка и подошла к нему, приведя в неописуемое изумление Алеша и в еще большее Хлебша, который вообще уже не мог ничего понять; крайне поражен был и Петер Заврх. – Потрогайте, чтобы и вправду не судить меня слишком строго, ведь бог будет ко мне милосерднее, если узнает, что вы потрогали мое сердце. – Она попыталась скромно оправдаться: – Не сама же я положила себе в грудь такое плохое сердце. Каждому его дает бог. Доктор Прелц подробно осмотрел меня почти голую, ну прямо в чем мать родила, и сказал, что мне совсем нельзя работать – иначе будет приступ. Ну, пощупайте, преподобный отец, – попросила она как смущенный ребенок, глядя большими синими детскими глазищами в его водянистые, с воспаленными веками, утомленные глаза. Не успел испуганный и вконец растерявшийся священник прийти в себя, как она уже схватила своей мягкой женской рукой его старческую, увядшую и положила ее себе на грудь. У священника дух занялся – он беззвучно шевелил губами, а ладонь его оставалась на Малкиной груди – пышной, горячей, обольстительной. Но несмотря на смущение и все возрастающий гнев, он чувствовал, как беспокойно и беспорядочно бьется ее сердце: после двух-трех ритмичных ударов оно вдруг беспричинно и вроде бы безудержно начинало спешить, будто в машине сломался какой-то зубчик, затем так же неожиданно и беспричинно останавливалось, медлило, словно на краю пропасти. Думалось, оно уже никогда не воспрянет, но оно вновь оживало и куда-то спешило.
Алеш и Яка заметили, как на бледном, осунувшемся лице священника словно заиграл отблеск вечерней зари.
– Бедный Петер! – вздохнул Яка, обернувшись к Алешу. – А признаюсь тебе, дружище, у этой женщины и вправду красивая, соблазнительная грудь, от нее так и веет грехом, тяжким грехом. Я бы охотно взялся рисовать ее – ну, как обнаженную натурщицу. – Снова взглянув на священника, который был в полнейшем замешательстве, Яка сказал, обращаясь и к нему и к Малке: – Нет, Петер, с таким сердцем и впрямь нельзя работать, тем более целый день таскать корзину за плечами, да еще по горам! Согласись, дорогой священник, ведь это ей не под силу, верно?
Священник Петер только моргал глазами и не мог выговорить ни слова. Поэтому Якоб прибавил:
– А без корзины у нас в горах не проживешь, и это тоже правда!
Алеш в полной растерянности оглянулся на инвалида Хлебша, которого знал раньше. Несмотря на свое огорчение и злость, он понимал – тут ничего не изменить… Несчастный Миха Хлебш со своим протезом, который он положил поперек дороги, казался здесь лишним. Ему чудилось, будто кто-то хочет украсть у него едва обретенную жену. Но он ошибался: как только отчаявшемуся уже священнику удалось наконец высвободить руку, Малка вернулась к нему, Хлебшу, и среди всеобщего замешательства заявила:
– Нет, с таким сердцем работать нельзя, как бы человеку того ни хотелось, – и, обернувшись к священнику, стала оправдываться: – Будто мне нужны мужчины! Я могла бы обойтись и без них. А отдел социального обеспечения не желает обо мне позаботиться, не помогает мне подлечиться. В правлении надо мной только посмеялись, а денег и чего другого у меня нет – и в больницу не ляжешь, и дома жить не на что; вообще повсюду в первую очередь нужны деньги, а тяжелой работы мне делать нельзя, и бог меня не прибирает, хоть я сама еще очень не прочь пожить. Думаю, там, на небесах, не слишком соскучатся, если я пока побуду здесь. – Она улыбнулась священнику доверчиво и в то же время не без кокетства.
– Нет, там не соскучатся, – прошипел священник вне себя от бешенства.
– Разве что небожителям мужского пола разрешили бы каждый день проверять твое сердце, Малка! – воскликнул художник. – Только это, сдается мне, не очень пришлось бы по душе высокочтимому господу богу.
– Чего там в небесах! – вмешался Алеш, у которого невольно вырвался нехороший смешок. – Она тут нашла себе Хлебша!
А Яка сказал примирительно:
– Не обижай их. Ведь если бы тогда, во время войны, тебя покрепче задело, мы сейчас с Петером могли бы встретить тут в обществе Малки тебя. У жизни множество причуд.
Хлебш поддержал его, обрадованно замахав руками:
– Что поделаешь! Государство платит мне пенсию по инвалидности, но сам я не могу вести свое хозяйство. Вы здоровые люди, – обратился он к стоящим перед ним мужчинам, – ты вот, Алеш, был ранен, да поправился. Мне хотели отрезать обе ноги, но я не дался. Тебе нетрудно жениться, за тебя любая пойдет. А за меня? – И Миха закатал штанину выше колена, показал им окованную железом деревяшку, затем засучил рукав и обнажил простреленный локоть. Горько усмехнувшись, он сказал:
– Укладываюсь вечером спать, а ногу ставлю на стул, словно ружье… С Малкой я давно знаком. У Тоне была пенсия стопроцентного инвалида, у меня она поменьше, но Малка – женщина умная и расчетливая. И на это проживем.
– Проживем! – воскликнула Малка. – Разве я о первом муже плохо заботилась?
– Конечно, хорошо, – подтвердил Миха. – Чего ему еще было нужно? Если человек стал инвалидом, не ждать же ему, чтобы государство обеспечило его еще и женой?
– А как вы решили? – спросил надменно священник. – Надеюсь, не просто так? – он показал что-то руками, и Полянчева поняла его.
– Мы поженимся, – воскликнула она. – Правда, Миха?
– Как только пройдет время траура, – ответил Хлебш решительно и для Алеша прибавил: – Конечно, свадьба будет гражданская. Я как-никак был партизаном и некоторое время состоял даже в партии.
Тогда священник прикрикнул сердито:
– Ну, если так, по мне хоть сейчас, за первым же кустом! Алеш будет вам вместо попа, а художник – свидетелем! – Он сплюнул и зашагал в сторону Подлесы.
– Нет у нас с собой книг, в которых делаются подобные записи, – пошутил Яка и, обратившись к будущим молодоженам, примирительно добавил: – Не стоит расстраиваться. Постепенно все утрясется. А к тебе, Малка, я еще зайду – проверить, как ведет себя твое сердце. Конечно, днем, – усмехнулся он, посмотрев на Алеша и Миху. Но вдруг, словно подстрекаемый бесом, спросил Малку с издевкой: – А что, Франце Чемажарьеву ты не приглянулась? Правда, он слепой, зато пенсия у него стопроцентная.
Покраснев, Малка заморгала, взглянула на Миху, потом опять на художника:
– Говоришь, Чемажарьев? А он стопроцентный?
Яка ответил серьезно:
– Он стопроцентный инвалид, потому что слепой. Только ведь и Миха хороший парень. Желаю вам счастливого пути в новую жизнь! – Он пожал им руки и, подхватив под локоть еще более помрачневшего Алеша, потащил его вдогонку за священником. По пути Яка убеждал Алеша: – Не сердись и не смейся над ними! Миха нашел себе жену, а мы с тобой… Бог весть, где сейчас Минка Яковчева! И кто-то приедет с ней в горы, когда под Урбаном поспеют черешни?!
Как только они догнали священника, художник возобновил свою болтовню, обращаясь теперь к обоим спутникам:
– Жизнь – удивительная штука: неудержимая, идущая наперекор всему. Она нарушает все законы, все уставы, кроме разве тарифных, которые в наше время почитаются как святыня. Чем больше размышляешь о жизни, тем меньше понимаешь, что она такое. Осуди ее, отрекись от нее – она все равно пойдет дальше своим путем. Что ты скажешь на это, Алеш, ведь ты занимаешься политикой?
Алеш воскликнул сердито:
– Какое отношение имеет политика к жизни? – но поспешил поправиться: – То есть, конечно, ей следовало бы непосредственно жизнью заниматься. – Он выдернул у Якоба свою руку и со злостью продолжал: – Ты прикидываешься, будто тебе все на свете ясно и просто, а мы, несчастные политики и активисты, бьемся над неразрешимыми вопросами!
Тут священник обернулся к ним и сказал, еле сдерживая раздражение:
– Я зайду со святыми дарами к Яковчихе, потом заверну к Добрину. Конечно, было б лучше, если бы оба они оказались у Фабиянки.
– Я должен поздороваться с нашей партизанской мамой, – Алеш улыбнулся. – Для этого я и пришел сюда. Слышал, она болеет.
Это вызвало у священника новый прилив раздражения, но он заговорил не с Алешем, а с художником:
– А тебе хочется узнать, что с невестой – не правда ли?
Яка горько усмехнулся:
– О невесте я, конечно, спрошу. Но может быть, я и еще на что-нибудь пригожусь —
ЕСЛИ ИСПОВЕДИ НЕ БУДЕТ,
скажу пару веселых слов по поводу своего несчастья. Не верится мне, чтобы мама Яковчиха легко смирилась с твоим визитом и святыми дарами. К ней твой словенский бог не заходит в гости запросто, как к тебе. Думаю, и ты давно бы отчаялся или стал бы все подвергать сомнению, если б по ночам он не способствовал укреплению твоей веры.
– Тебя гложет совесть? – неожиданно спросил священник. Растерянно заморгав, Яка перевел взгляд на Алеша, а священник повторил непререкаемо: – Гложет, не скрывай этого!
– Мы бросили роженицу на произвол судьбы, и я совсем не уверен, что заботливая мамаша пощадит свое детище! – ответил Яка с вызовом. Алеш содрогнулся в душе, словно только сейчас осознал все в полной мере, хотя мысли о Марте всю дорогу не выходили у него из головы. Священник прищурил глаза и, не сказав ни слова, зашагал дальше – еще поспешнее и в еще большей тревоге. Голову он держал высоко, как бы этим отвечая художнику. Алеш вопросительно глянул на Яку.
– К нам идет преподобный Петер Заврх, – сказала трактирщица Фабиянка Яковчихе, сидевшей у нее в кухне за стаканом водки. Фабиянка пришла со двора, откуда она и увидела путников. – А с ним Яка и еще Алеш, партизан. И чего их сюда несет?
Яковчиха залпом осушила свой стакан. На ее высоком лбу, прочерченном ровными продольными морщинами, чуть изогнутыми у переносицы и висков, на миг возникли глубокие складки – это было внешним отражением промелькнувшей мысли. Загорелое лицо обрамляли густые серебристые волосы и резкие линии черного головного платка. Несколько вытянутое, еще не слишком старое лицо было воплощением серьезности и постоянной горестной думы, которая сейчас оставила ее. Ввалившиеся глаза Яковчихи вдруг блеснули. Она посмотрела на Фабиянку, потом в окно, мимо которого вела дорога.
– Вот как! – тихонько воскликнула Яковчиха. – Этот парень из Раковицы вспомнил обо мне! – На ее суровом лице появилось подобие улыбки. – Неужели и вправду, Фабиянка, от меня уже разит тленом?
– Ты что, его звала? – спросила Фабиянка и пристально на нее взглянула.
– Не иначе преподобный несет мне святые дары. – У Яковчихи опустились углы губ. – Несчастный семинарист из Раковицы, наконец-то он про меня вспомнил! – Она сказала это с необычной мягкостью в голосе. – Позови-ка его сюда, скажи, что я здесь. Может, тут мы все и уладим.
Оторопевшей от удивления Фабиянке показалось, будто на лице Яковчихи промелькнуло злорадство. Такой ее трактирщица никогда не видала.
– Ради бога, Франца, не надо! – попросила она. – Чего доброго, он подумает, будто я приглашаю его на выпивку.
– Эх, – вздохнула Яковчиха и с трудом поднялась со стула. – Видно, придется мне идти домой. По крайней мере он не сможет упрекнуть меня в невежливости. Если они задержатся, я пришлю к тебе за вином внука. – Она оперлась об умывальник, и лицо ее скривилось от боли, так что Фабиянка забеспокоилась. Но Яковчиха тут же весело сказала:
– Я дохну на него – от запаха водки он взбеленится, это я знаю! Долго он у меня не задержится!
Она прошла через двор, мимо кур и гревшейся на солнце собаки, и окликнула трех внуков – детей своих дочерей – внуки играли с соседскими ребятишками. Издали она смотрела на путников, уже остановившихся перед ее домом.
– Смотрите, лоботрясы, чтобы никто из вас не примчался домой и не поднял шума, – наказала она детям строго. – Только ты, Йошт, иногда забегай, – может, нужно будет сходить к Фабиянке.
Превозмогая слабость, она упорно двигалась к дому, при ходьбе морщилась от боли, закрывала на мгновение глаза и крепко сжимала губы. Гости вошли в дом, двери которого никогда не запирались, однако минуту спустя Алеш выглянул на улицу и закричал:
– Мама, ма-ама-а!
На лице Яковчихи появилась теплая улыбка, вызванная неизгладимыми воспоминаниями: «Бедняга Алеш! Думаю, он с партизанских лет так и не изменился! Только вокруг все меняется». Выйдя из-за угла дома, она окликнула его приветливо:
– Алеш, парнишка! Каким это ветром тебя занесло к старой Яковчихе?! А я еще на ногах! – И она крепко пожала ему руку. – А вот и Яка, мои зять! Ты все еще слоняешься в горах? А Минка уже давно в долине. «Несчастный Яка, – сказала она, когда я пожурила ее из-за тебя, – он трижды передумал бы, пока спускался в долину, а по городу шел бы в десяти шагах впереди, чтобы кто-нибудь не увидел нас вместе!» – Яковчиха попыталась улыбнуться. – Ты так и не возмужал душой, Яка. – И она пожала руку ошеломленному художнику прежде, чем тот успел вымолвить хоть слово. Подойдя к священнику, она подала ему руку и приветливо сказала: – Ишь и Раковчев явился ко мне?.. – Она обратилась к нему по старинке – по названию его усадьбы – и попросту, на «ты». Это удивило и художника и активиста. А священник на мгновение закрыл глаза и проглотил слюну – у него было такое чувство, будто Яковчиха намеренно хочет вернуть его в то далекое прошлое, когда он, учась в старших классах гимназии, на каникулах увивался за ней, а потом, перед поступлением в семинарию, расплакался у нее на груди: «Бог меня призывает, Франца! Мне придется тебя покинуть, хотя сердце мое разрывается от боли!»
– Так садитесь же! – Яковчиха говорила весело. – Алеш, покажи пример! Вы ведь все мои давние добрые знакомые! Вот тебе, Яка, стул, на котором ты сидел, – может, он еще не остыл?
От этих слов художника бросило в краску. Яковчиха вышла на порог, окликнула внука и, отчитав его за то, что он не сразу пришел, велела сбегать к Фабиянке за водкой.
– Домашней водки с прошлого года у меня уже не осталось, – сказала она, вернувшись к стоявшим еще гостям.
– Пьешь, Франца! – с осуждением сказал священник Петер.
– Потягиваю помаленьку. – Она нарочно употребила это выражение.
– Слыхал! – воскликнул священник таким тоном, словно хотел ее обидеть. – Говорят, ты чуть не поселилась у трактирщицы! И как это в тебя лезет водка!
– Ничего, лезет! – сказала она и, скривив губы, усмехнулась чему-то своему, затаенному. – Знаешь, дорогой Петер, я родила восьмерых детей, пятерых, как говорится, отдала родине, двоих – новому строю, последняя, младшая, живет сама по себе. За пятерых погибших государство платит мне сейчас столько, что мы сговариваемся с Фабиянкой на месяц вперед. А хлеб я и так всю жизнь носила себе с поля корзиной.
– Уж лучше бы ты больше ела, чем вот этак пить, – отчитывал ее священник.
– Мой желудок принимает теперь только питье, – смеялась она.
– И ты его все ублажаешь?
– Не спорить же мне с ним! Если ему это нравится – пусть себе, я не против.
Петер только головой покачал, зато Алеш сказал так тепло, словно родной матери:
– Мама, вы должны хоть немножко о себе позаботиться! Я пришлю вам врача, он вас осмотрит; если будет нужно, ляжете в больницу. Ладно?
Чуть сдвинув тонкие брови, она пристально взглянула на него глубоко запавшими глазами и, помолчав, сказала благодушно, с легкой укоризной:
– Не выдумывай, парень! Что мне еще делать на этом свете? Жизнь прошла, и здоровье мое иссякло. Все имеет свой конец, Алеш! Наступит день, когда старые часы уже не удастся завести, и для каждого из нас солнце последний раз закатится за Урбаном. – Она снова повернулась к священнику Петеру, не обращая ни малейшего внимания на «зятя», художника. – Ты сейчас сядешь за стол, дорогой Петер, если тебе не стыдно нашей бедности и беспорядка в доме, и расскажешь, что же привело тебя ко мне? Или до тебя дошли слухи, что конец мой недалек?
Несчастный Петер совсем растерялся. И все-таки ответил:
– Мне сказали, Франца, что тебе плохо. Я уж было подумал… А ты, оказывается, у Фабиянки бываешь больше, чем дома. И пьешь.
– Пью, – кивнула Яковчиха. – Я уже как-то сказала Фабиянке: «Если вдруг умру у тебя за столом, спрячь стакан, чтобы люди обо мне после смерти не злословили». Знаешь, – продолжала она с улыбкой, хотя временами лицо ее искажалось от боли, – не хочу я умирать в постели. То есть умру я наверняка в постели, только ложиться в нее мне все не хочется! Придет время, лягу, закрою глаза и умру, а если дело будет днем, скажу внукам, пусть поиграют на улице. Немножко, совсем немножко меня покорчит – и конец.
Петер Заврх поджимал губы и учащенно дышал – эти разговоры и раздражали его и мучили. Неожиданно у него вырвалось:
– Сейчас я иду в долину. Может, задержусь там день-другой, вот я и сказал себе: Яковчихе плохо, как бы с нею чего не случилось, пока меня нет дома – может, она пошлет за мной, вспомнит, что есть на свете бог. Долго она не вспоминала о нем… И еще я сказал себе: отнесу-ка я ей сейчас святые дары, если, конечно, она захочет их принять. Я что? Я не против – пусть каждый живет, как знает…
Так же неожиданно он замолчал, словно у него перепутались мысли. Он видел, что Яковчиха чуть прикрыла глаза, однако продолжала смотреть на него из-под опущенных век. Она дышала часто, порывисто, неглубоко, верхушками легких – так дышат умирающие.
– Ты хочешь, чтобы я тебе исповедалась, Петер? – спросила она вдруг, причем так тихо, словно не хотела, чтобы это слышал кто-нибудь из гостей. Она смотрела на него, не мигая.
– Я принес тебе святые дары, Франца, – ответил он, понизив голос, удивленный внезапной переменой ее настроения.
– Но ведь без исповеди ты мне их не дашь, Петер?
– Да, исповедь… – пробормотал священник. – Конечно, она тебе не помешает. Но это, так сказать, попутно…
Вошел мальчик в штанишках на одной бретельке, в распахнутой рубашонке, в сдвинутой на затылок шапке; он оглядел людей и передал Яковчихе бутылку. А так как бабушка не давала ему новых поручений, только провела рукой по его выбившемуся из-под шапки вихру, он поспешил удрать из комнаты.
– Мама, ну зачем вы… – попытался возразить Алеш, но Яковчиха оборвала его:
– Поставь бутылку на стол, а я принесу стаканы.
Яка в необъяснимом волнении повернулся к Петеру Заврху:
– А теперь, дорогой священник, попробуй отрицать, что сегодня все случается шиворот-навыворот, особенно если учесть, что сейчас где-то в городе молодая Яковчиха с Виктором из Раковицы договариваются о том, как следовало бы еще пуще насолить нам: либо вконец разорить Раковицу и все промотать, либо вернуться туда и там наслаждаться любовью! А ты тут пристаешь со своим богом, который и в горах-то уже никому не нужен! – И он в отчаянии махнул рукой.
– Неправда, нужен! – Петер Заврх самоуверенно ухмыльнулся.
– И чего ты вообще хочешь от Яковчихи? Очнись, дорогой Петер. Время движется даже в этих горах, так или иначе оно затрагивает всех людей и меняет их. И далось тебе прошлое! Что в нем такого расчудесного, чтобы навязывать его людям? Женщина в Раковице…
– Не болтай! – перебил его священник. – Что же, здешним людям бодро шагать в это твое будущее заодно с молодой Яковчихой? Или их ждет социализм Алеша Луканца?
Вошла хозяйка со стаканами и расставила их на столе.
– Садитесь, люди добрые, надеюсь, не уйдете вы от меня просто так – не солоно хлебавши? – Петеру, который медлил и явно колебался, она сказала с усмешкой, от которой тот вконец смутился. – Садись, Раковчев, выпьем. Ну а если тебе очень уж хочется, я исповедаюсь, чтобы ты мог спать спокойно.
Петер оторопел. Он пробормотал растерянно:
– Надеюсь, не тут же ты станешь исповедоваться?
– Прямо тут, за столом, Петер, – ответила она просто.
– Тогда пусть хоть они выйдут из комнаты, – посоветовал Петер Заврх, все еще не в силах понять ее.
– Нет, они останутся – всем места хватит, – ответила она на этот раз весело и разлила водку по стаканам.
– Яковчиха! – вспылил вдруг Петер Заврх. – Да ты, никак, помешалась? Исповедь – за чаркою водки? Думаешь, зачем я к тебе пришел? – И не дав ей ответить, продолжал гневно и торжественно: – Я принес тебе святые дары! Ваша деревня относится к церкви святой Едрты, но мы со священником из долины договорились: если понадобится, я буду выполнять здесь его обязанности. Я пришел к тебе тихо, без колокольчика, потому что это могло бы тебе не понравиться. Много лет минуло с тех пор, как ты и думать забыла о боге, может, хоть сейчас ты о нем вспомнишь, Франца…
Она улыбнулась, лицо ее стало величавым, просветленным и прекрасным. Обернувшись к Алешу, она попросила:
– Хоть ты, мой мальчик, поддержи меня, – и только потом ответила священнику. – А насчет бога ты оставь, я решу сама, как мне быть с ним. Каждый по-своему…
– Завтра же, мама, я отвезу вас в больницу! – забеспокоился Алеш.
– Посмеялась бы я над тобой, Алеш, если б могла.
– Я говорю серьезно, мама! – настаивал Алеш. – Думаю, найдется врач, знающий вашу болезнь, и место в больнице для вас найдется!
Яковчиха протянула руку и коснулась его – он стоял совсем близко. И хотя взгляд ее только скользнул по его лицу и задержался на священнике, она тепло сказала Алешу:
– Ты всегда был хорошим парнем, Алеш! Верил во все, за что боролся. И сейчас, наверно, веришь.
– Мама! – воскликнул он. – Зачем вы так?
– Петер, – обратилась Яковчиха к священнику, – садись за стол на место хозяина дома. Пусть тебя не смущает, что тут когда-то сидел Йошт Яковец. Тогда он еще был неплохим человеком… Ты, Яка, присаживайся сюда. Здесь сидел мой старший сын; зятем в наш дом тебе все равно не войти… А ты, Алеш, – вон туда, там обычно сидит Минка, когда бывает дома… мое третье несчастье в жизни…
– Яковчиха! – заупрямился Петер. – Мы ведь не в гости к тебе пришли! – Он протестующе пошевелил левой рукой, но к столу подошел. Яковчиха взглянула на него и ответила спокойно:
– Ты принес мне святые дары. Что ж, мне вышвырнуть тебя за порог?
– Мы ведь договорились насчет исповеди, Франца.
– Конечно, договорились. Эх ты, парень из Раковицы, семинарист! И куда ты так торопишься? Ведь не тебе умирать, Петер! – Она улыбнулась ему, но было заметно, что ее снова одолевали боли. Яка, недоумевая, наблюдал все происходящее. До сих пор он думал, будто хорошо знает старую Яковчиху, однако такой он ее никогда не видел. Сейчас он ничего не понимал. Было непостижимо, как она могла «вертеть» беднягой Петером Заврхом, который все волновался и хмурился, а в конце концов послушно, точно малый ребенок, уселся за стол. И все же, прежде чем взяться за стакан, священник выдавил из себя:
– Скажи мне прямо, Франца, будешь ты причащаться или нет? Так ведь нельзя – ты собираешься пить водку, а я тебе навязываю причастие! Неужели ты сама не понимаешь этого, несчастная?!
Она сидела напротив него, на месте хозяйки дома. В окно, хоть оно и было заставлено цветами, заглядывало послеполуденное солнце – яркий свет падал ей на лицо, и все трое могли убедиться, насколько оно мертвенно-бледное, совсем восковое – было очевидно, его уже коснулось дыхание смерти. Петер Заврх внутренне содрогнулся – его навязчивость показалась ему неуместной, жестокой, бесчеловечной. Ему хотелось сказать Яковчихе что-нибудь ласковое. А она сидела лицом к нему, в ореоле золотого сияния. Со стороны казалось, что это ее увядшее, исхудавшее тело излучает необычный свет, отблески которого, падая на Петера Заврха, лишают его дара речи и сковывают движения. Только глаза его беспокойно бегали. Он почувствовал себя таким беспомощным перед этой женщиной – вся кажущаяся святость его сана улетучилась бесследно, истинная же святость и величие были в Яковчихе, хотя он и не понимал, откуда это исходит – разве что такой ее сделала сама жизнь, – та жизнь, которой он не знал.
– Я же сказала тебе, Петер, безгрешный, добродетельный парень из Раковицы, бери стакан и пей!
– Нет, Франца, – отказывался Петер Заврх.
– Бери и пей, ты, Раковчев, семинарист, посвятивший себя богу, – неожиданно напомнила она про давние-давние времена. Петер насторожился, Алеш и Яка тоже встрепенулись, затихли и замолчали, глядя на Яковчиху.








