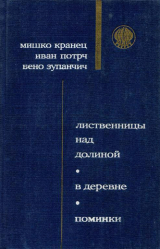
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Не для хозяйства, не для политики и не для полиции даже – для искусства родилась молодая Яковчиха…
– Никуда я не вернусь, – возражает активист Алеш сотруднику управления, с которым он знаком с давних пор: еще несколько лет назад он был почти мальчишкой, этот самонадеянный парень с черными усиками под носом и волнистыми волосами; сейчас ему нравятся американские шлягеры, а о социализме он говорит как о своем частном деле.
– Я устроил свою жизнь, зарплату мне повысили, так что, если мы с Минкой постараемся, – проживем. Вот я взял отпуск и приехал за ней, да только не написал ей заранее, – рассказывает Алеш.
– Не люблю я полицию, – пьяно бормочет художник, – а Минка тем более – свободные, рожденные для искусства люди не переносят полиции. – Яка бы и рад прекратить свои выпады против полиции, потому что сам чувствует, что хватил через край, но не может.
– Сегодня или завтра вечером вернется моя невестушка Минка, – говорит Мирко, словно поддразнивает художника, а заодно и священника Петера, который чувствует, что Минка уходит, уходит и его племянник, а с ними обоими – Раковица, она перемещается сюда, в город, где превратится в тысячу вещей помельче и покрупнее, в одежду, в предметы роскоши. Сейчас ему жаль – он видит, напрасно пообещал он старой Яковчихе, что девушка станет хозяйкой в Раковице. Дважды Петера охватывало непреодолимое желание отправиться к Урбану прямо сейчас, посреди ночи. Алеш тоже понимает, что все потеряно и нужно заставить художника свернуть с опасного пути, и почему-то начинает петь, словно его переполняет тоска по непонятному, недостижимому:
Я прошлым летом мимо шел,
В окошке куст гвоздики цвел…
Алеш поет, и кажется, что теперь он поддразнивает присутствующих. Хотя он в действительности идет здешними лесами и полями, идет мимо домов, где цветут красные гвоздики и кто-то прячется в окне за гвоздиками. И Петеру Заврху тоже начинает казаться, что это он идет по весенней земле мимо крестьянского дома, в котором кто-то стоит в окне, стоит и смотрит, и окликает его, и кажется ему, что это его края где-то под Урбаном, пожалуй, даже возле самой Раковицы. Чуть-чуть, только чуть-чуть прикрывает Петер Заврх глаза – их прикрывает Петер Заврх – хозяин, их прикрывает Петер Заврх – духовник – при мимолетном воспоминании о женщине с ребенком, как будто бы именно эта женщина с ребенком на руках смотрела в окно, из-за красной гвоздики. Но Петер хочет, чтобы в окне была видна только гвоздика. «В Раковице они у нас всегда были, гвоздики. Только там никто никогда не проходил мимо». Художник Яка не сводит пьяного взгляда с Мирко, и вдруг его осеняет: «А может, он и не женится вовсе…» Но эта мысль настолько мимолетна, что Яка не успевает на ней остановиться. Он невольно подпевает Алешу, и ему тоже кажется, что и он проходит мимо деревень с домиками и цветущими гвоздиками и мимо людей. Всегда – мимо, вот и мимо молодой Яковчихи, мимо Минки, – тоже. И почему здесь, у цели, в конце пути, оказался безвыходный тупик, а человеку хочется швырнуть в этот абсурд отчаянный крик: «Минка, где ты, где?»
Но никто не крикнул в глухую ночь. Когда Петер Заврх очнулся от своих мыслей, он увидел, что все трое спят поперек тахты – и Яка, и красивый парень с усиками, и активист Алеш. Сквозь окно в комнату заглядывало раннее весеннее солнце; оно разливалось над домами, над почерневшими крышами, над грязными стенами и играло на стеклах занавешенных окон, отчего казалось, будто они горят. Из высоких фабричных труб уже валил густой черный дым, от ветерка слегка клонившийся к северо-западу, а от силы тяжести – к земле. На улице, за оградой сада уже кишели люди. В двух церквах звонили колокола. Бог, тот, что был у него на груди, напомнил Петеру Заврху, что пора в церковь. Он чувствовал, что должен освободиться от этого бога. Слишком уж часто тот подавал голос и беспокоил его. Как ему того ни хотелось, Петер не мог вернуться к Урбану. Он наверняка поссорится с сестрой, и ему снова придется отправляться в город. К тому же священника ненасытно глодала мысль, что его несчастный племянник преступно проматывает с легкомысленной Минной их прекрасную Раковицу и промотает окончательно, если девица не уймется и не выпустит его из своих когтей или не отправится с ним в Раковицу. «Нет, нет, – мысленно воскликнул Петер Заврх – хозяин и в страхе замахал руками. – Минку нельзя пускать в Раковицу, Минка для Раковицы – смерть».
– Ну, парни, прощайте, отоспитесь, а потом отправляйтесь по своим делам, как отправляется Петер Заврх, – с этими словами он взял свою палку в правую руку, сумку – в левую и, отказавшись от намерения дождаться возвращения племянника, на цыпочках – чтобы не услышал Мирко – направился к дверям и с облегчением закрыл их за собой.
Однако вечером священник Петер снова сидел в Минкиной комнате, с сердцем, преисполненным отчаяния. Просто-напросто Мирко привел его назад, где он, к своему удивлению, нашел своих спутников – художника Яку и активиста Алеша – за открытыми бутылками и богатой закуской, разложенной на фарфоровой тарелке.
– Ишь ты, смотри-ка, – воскликнул художник, развалившийся на тахте с полным фужером в одной руке и сигаретой в другой, – выходит, ты собирался убежать от нас, дорогой Петер! Так дело не пойдет – надо, чтобы все до конца выяснилось. Вот вернется Минка, а потом пусть уходит с одним из нас: в Раковицу, в искусство – по свету, в политику – в райком, или же в полицию…
– Со мной она пойдет, в полицию, – двусмысленно засмеялся Мирко.
– Когда под Урбаном зацветут черешни, мы с ней приедем к Петеру Заврху в гости! – возразил художник, поднимая похожий на дароносицу фужер с вином.
– Босая прибежала она в бункер, по колено в снегу, – пробормотал Алеш. – Она пойдет за воспоминаниями – она ничего не позабыла.
– Она будет жить в Раковице, – сказал Петер Заврх и нахмурился. В конце концов все в этой комнате было частью Раковицы – от тахты до шкафа и фужеров. Если она сама уйдет с кем-то из этих, бог с ней. Но невольно Петер украшал новой мебелью дом в Раковице и пришел к выводу, что мебель его отнюдь не испортит. Да и сама Яковчиха не испортила бы Раковицы, если бы хоть чуточку постаралась. И тогда Петер Заврх, урбанский священник, помирился бы с Францей Яковчевой, а заодно и со своим любимым богом.
Он ухватился за эту успокоительную мысль, однако минуту спустя, когда Минка появилась среди них, он от нее отказался: та, что подобно волшебнице появилась в комнате, никак не подходила к Раковице.
Минка вплыла в комнату, этакое сказочное существо современного мира в полном его блеске. Не старинная принцесса, заточенная в уединенном заколдованном замке. Пленница настоящего и будущего. Не девочка-подросток в слишком коротком платьице, которая, придя по воскресеньям в церковь, смотрит не столько на алтарь, сколько исподтишка бросает взгляды на парней. Не светло-синий плащ, не белая шляпа с вуалью, не завитые рыжеватые волосы, не накрашенные губы, напоминающие зрелые черешни под Урбаном, не белая сумочка, белые туфельки и прозрачные перлоновые чулки – нет, не это отрывает ее от родных краев, от каждодневного пути на фабрику в долине, начинающегося в четыре часа утра. Нет, это была не девушка из-под Урбана, которая целыми днями носила корзину на спине. И это была не та девочка, которая босиком бежала по снегу, оповещая о приближении немцев. Может быть, это была мадонна, которая должна снасти художника Якоба? Нет, нет, на мадонну она непохожа. В ней горел непонятный огонь, который одинаково удивил как священника Петера Заврха, так и сотрудника управления внутренних дел. Она осветила их улыбкой, в которой была и печаль, и радость, и все то человеческое, что возвеличивает человека.
Как ни дивился Петер Заврх, только и Виктор, что сейчас стоял за спиной Минки, вырвался из-под власти Раковицы, власти своего прошлого, власти одинокого хутора, где прошли его детство и юность. Тот, из Раковицы, пахал, сеял, копал, сгребал сено, колол дрова, управлял волами и конями, носил за спиной корзину, ходил в застиранном темно-синем фартуке, в старых, чиненых ботинках с незавязанными шнурками, вечно небритый, хмурый, по горло в работе. А этот походил на барина – просветленный, весенний, с ярким галстуком, в светлой шляпе, – как раз под стать этой сказочной принцессе, которая – чудом! – родилась в горах, в Подлесе вблизи Урбана, куда она этой весной – по словам художника Яки – собиралась приехать полакомиться черешнями.
И отказывая Минке Яковчихе в праве проживания в Раковице, хозяин Петер Заврх отказал в нем и племяннику Виктору: оба они уже не принадлежали Раковице, как когда-то Адам и Ева не принадлежали раю, познав мир и его грехи. Священника Петера Заврха должно было охватить точно такое же чувство, какое когда-то охватило его любимого бога, решившего изгнать первого человека из рая: он оставался в своем раю один-одинешенек. Нет, нет! Бог остался в раю один, чтобы потом искать этого человека и в итоге потерять его окончательно, а Петер Заврх должен был вернуть Адама из Раковицы домой, хотя бы ради Меты и милого его сердцу спокойствия, которого он сейчас жаждет, как никогда в жизни.
Мимолетно, чуть уловимо что-то дрогнуло на Минкином слегка загорелом под горным солнцем лице, когда она встретилась взглядом с Мирко; казалось, ветерок пробежал над гладью воды. Но тут же это «что-то» обернулось веселым, заразительным смехом, кипящей, бьющей через край энергией, готовой все смести со своего пути. И Мирко почувствовал себя вдруг беспомощным, когда она подошла к нему, заглянула в глаза и, сняв с правой руки перчатку, протянула ему округлую руку с длинными пальцами, а с ней – и веселую солнечную улыбку.
– А ты все-таки выбрался ко мне? – сказала Минка. – Но эта ночь моя, до утра, ладно? – Она не просила, она приказывала, она решала. И он, ничуть этому не удивляясь, ответил:
– Твоя, до утра, Минка.
А ее рука, словно ветка на ветру, уже потянулась к Петеру Заврху и коснулась его руки так, будто погладила:
– Смотри-ка, Виктор, дядюшка приехал к нам, чтобы везти нас в Раковицу.
– Я знал, что он придет за мной! – пробормотал племянник; отложив в сторону шляпу, он снимал плащ и недовольно морщился – гости явились с целью испортить ему жизнь. – Сдается мне, Раковица приросла у него к сердцу больше, чем церковный приход, – добавил он.
Эти слова вызвали у Петера Заврха дрожь возмущения. Но Минка приласкала его душу так же, как минуту назад – его руку:
– Не надо, не надо сердиться! – И чтобы окончательно погубить бедного Петера Заврха, она обняла его, прижала к себе и даже поцеловала в лоб. – В любом случае Раковица в убытке не останется. – Она хотела добавить еще что-то, но ее опередил стоявший рядом со священником художник Яка, который уже успел прийти в себя:
– Ты прекрасна, как… как весна под Урбаном, Минч!
– Весна под Урбаном каждую осень дает богатый урожай, – ответила она на удивленье рассудительно, словно патриарх гор, умудренный опытом столетий. И художник Яка вынужден был уточнить:
– Я имею в виду такую весну, когда цвет с черешен и груш облетает раньше срока и батраку осенью нечего варить в котле.
– А ты еще хотел нарисовать ее в облике мадонны, – возмутился священник Петер Заврх таким тоном, как будто ему наконец удалось преодолеть преграду. Все они преодолели эту преграду и теперь давали волю своим обидам, разочарованию и злости.
– Ты обещал матери, Франце Яковчихе… – напомнил художник Яка священнику и, глядя на Минку с любовью и болью, пояснил: – Не мне и не Алешу предназначила тебя жизнь – мать и дядюшка сосватали тебя за Виктора. Будешь таскать корзину. А поля в Раковице обрывистые, луга – и того круче, об осыпях и лесах я уж и не говорю. Не паркет в салонах – растрескавшаяся земля в Раковице ждет тебя, Минч!
– Правда? – изумилась она и покраснела, в самом деле покраснела, и священник в глубине души был тронут этим.
– А мать еще жива? – спросила она. Спросила о матери, не о Раковице. – Дыма над трубой не было, когда вы шли к ней? – Она посмотрела на Яку, как будто он должен был знать все. А тот весело ответил:
– Фабиянка нам ее одолжила на два часа.
Минка снова обняла священника, доверчиво, словно ребенок, так что тот даже не защищался, и сказала по-детски просто, не скрывая, что ей очень-очень плохо:
– Что, я уже не гожусь для корзины? Признайтесь – не гожусь?
– Не годишься, – ответил изумленный священник. – Для корзины, да и для фабрики ты, наверно, уже не подходишь. Может, для чего другого, только не для этого.
– Но и не для мадонны, – вмешался Алеш, он стоял в стороне и чувствовал себя так, словно волны выкидывают его на мель.
– Бедный Яка! – сказала она с болью. – Какие глупые идеи приходят ему в голову, кажется, это называется идея? – И она засмеялась так весело, что в комнате зазвенело, как будто в окнах запели стекла, и добавила: – Он уже сотворил глупость, когда рисовал бога, того самого, что на вершине, возле наших лиственниц. Все у тебя не по-людски, Якоб! – Словно благословляя, она взяла его за руки. – Придется тебе заняться чем-нибудь другим, мой Якоб, иначе мы будем голодать до самой смерти. А я этого не хочу. Ведь раньше ты умел так красиво рисовать наши места! И человека тоже, когда этого тебе хотелось!
– Он прошел мимо человека! – сказал священник Петер.
– Мимо человека пройти очень легко! – заметил Алеш. Но слова его были, скорей, похожи на эхо, поскольку на него никто не обращал внимания.
– Неправда! – возмутился Якоб Эрбежник. – Вчера в Раковице я встретился с ним. – И Яка искоса глянул на священника; тот побледнел, потом кровь ударила ему в лицо. – Да ведь и ты всего лишь один из миллионов людей! – воскликнул Яка. И добавил, обращаясь к Минке: – Если ты не годишься для Раковицы и фабрики, пойдешь со мной в искусство, весь мир перед нами.
– Помнишь, ты, босая, прибежала в бункер, – горячо заговорил Алеш и притянул Минку за руки, словно желая прижать к груди. – По колено в снегу, Минч! – Она прикрыла глаза, и на ее лице появилась теплая улыбка; казалось, она снова отправилась в дальний путь.
– По колено в снегу… Снег был холодный… Прямо обжигал ноги. Потом я их уже не чувствовала. Думала только, как опередить немцев.
– И ты их опередила. Видишь, я жив! Нас было семеро, и все остались живы!
Она улыбалась, но улыбка была горькой, печальной. Алеш не дал ей ответить – в тот момент, когда ее губы зашевелились, он сказал:
– Мы обернули тебе ноги тряпками и, отступая, несли на руках. – И еще неистовее заторопился, из боязни, что его прервут. – Потом пришла весна; ты была с нами, когда мы попали в окружение. Очередь прошила мне руки: в одной задела кость, другую перебила. – Он воскрешал перед ней прошлое – перед ней и перед всеми…
– Если нас разобьют, ты застрелишь меня, Минч? Живым я не дамся. – И она с прикрытыми глазами и горькой улыбкой на губах откликнулась ему из тех давних времен.
– Вот револьвер, – продолжал Алеш, тот, из прошлого, – ты приставишь его мне к виску и нажмешь на курок, как мы тебя учили. Если нужно умереть, Минч, это будет хорошая смерть. А их смерти я не хочу. Они убивают мерзко, с ненавистью.
– Я не могу убить тебя, Алеш!
– Ты меня не любишь, Минч?
– Я слишком тебя люблю, Алеш, именно поэтому…
– Именно поэтому ты меня убьешь. И если понадобится, убьешь нас всех, Минч!..
– Мы учили тебя убивать – из винтовки, из револьвера, из автомата, гранатой. Какое жестокое было время! – У него до боли сжалось сердце. И порывисто, стремясь скорее похоронить прошлое, он закончил: – Минч, когда возле Урбана созреют черешни, мы приедем в эти места. Дважды ты подарила мне жизнь! И ты подаришь мне ее в третий раз, Минч.
– Втроем, вместе с дядюшкой, мы вернемся в Раковицу! – это сказал Виктор, который до сих пор молчал, смотрел и слушал. Обитатели Раковицы всегда были немногословны. Он схватил Петера Заврха за руки и сказал решительно, непреклонно. – Так я решил, дядя: она пойдет в Раковицу, или я погублю и Раковицу и себя. Надеюсь, ты хоть Раковицу любишь, если до меня тебе нет Дела.
Петер Заврх хватал воздух пересохшим ртом, мышцы его увядшего лица дрожали, а глаза судорожно дергались. В нем снова заговорил хозяин, собственник:
– Мой родной дом! Нет, нет! Раковицу не отдам!
– А я ее промотаю, всю! – воскликнул Виктор, и глаза у него засверкали. – Название останется, а люди там будут другие. И ты туда даже не посмеешь прийти!
Петер Заврх закачался, схватился за сердце, готовый упасть, а Минка обняла Виктора и поцеловала.
– Ты неисправим. В Раковице люди думают и должны думать иначе. – И попросила: – Подожди до утра! – Не разжимая рук, она повернулась к сотруднику управления внутренних дел: – Ведь ты сказал «до завтра», Мирко?
Тот кивнул, с победоносной усмешкой погладил черные усики, вытащил сигарету и пояснил:
– Ночь – твоя, а утром ты пойдешь со мной!
– Будь по-твоему! Ночь моя, и я подарю ее всем, кого любила и кто любил меня в сто, в тысячу раз больше, чем ты, Мирко! – Она почувствовала себя невероятно богатой. Ей казалось, что весь мир принадлежит ей и она может щедро швырять жизнь, ни капельки не жалея. И она швыряла, хотя никогда в жизни не была такой нищей, как в этот миг, такой потерянной, такой маленькой, такой одинокой среди тех, кто ее любил и ждал от нее спасения, которое на самом деле было необходимо только ей одной. Преодолевая боль в сердце, душившую ее, она воскликнула: – Пойте, пейте, давайте танцевать до упаду, включите самую веселую музыку! Потому что,
КОГДА НАСТУПИТ УТРО,
каждый пойдет отсюда своей дорогой, как ему суждено. И больше мы уже не встретимся.
– Вначале скажи, с кем ты пойдешь! – потребовал Яка.
– Утром, художник, утром, – Минка отвела его протянутые руки. Она вся пылала, такой он ее никогда не видел, и такая она влекла его сильней, чем прежде. Мирко поспешил налить в фужеры пенящееся вино и поднял свой:
– Давайте выпьем!
– Выпьем! – откликнулась Минка весело. – За все прекрасное, за все доброе, что есть на свете, и за всех маленьких людей, которые так хотят жить по-человечески и не могут!
Петер Заврх не мог отвергнуть этот тост и согласился:
– Хорошо, выпьем за добро и красоту! – Он стал уступчивее и с грустью сказал: – Сегодня же вернусь к Урбану! Позабуду обо всем на свете, и о Раковице тоже! – сказал он это тихо, блеснув глазами в сторону племянника. Единственным утешением в его горестях была мысль, что утром он отслужит мессу и не станет больше носить бога на груди.
– Нет, завтра и втроем! – возразил Виктор, он светился отраженным пламенем Минки. А говорил он за троих, потому что дядя был частью его мира. Сам он ни за что на свете не откажется от нее, от той, ради которой неделю назад он покинул свою одинокую Раковицу. Эти дни, полные безумства, он провел в новом незнакомом мире, от которого опьянел. В нем пробудилось сильное, неутолимое желание какой-то иной жизни. Он ушел из дому за Минкой, за той, что жила в горах, в Подлесе, за той, чье имя он мальчишкой вырезал на деревьях вокруг Урбана, за той, что умела носить на плечах корзину и в четыре часа утра уходила на фабрику в долину – зарабатывать себе на хлеб, за той, что сумела бы делать это и сейчас и горячо любила бы его, только его, как любят в горах. Однако эта теперешняя Минка была другой. Она и Раковица были несовместимы. Если это вообще была Минка. И все же Виктор жадно тянулся к этой, теперешней, как будто именно такую он всегда желал. Она должна принадлежать только ему, должна жить ради него и Раковицы. Художник Якоб нагнулся к Виктору и сказал, обращаясь к нему одному и вместе с тем так, чтобы его услышал священник:
– А что же вы сделаете с женщиной, у которой веснушчатое лицо и которая в Раковице родила ребенка? – Раковчевы замерли, им хотелось переглянуться, однако они и глазом не моргнули. Не сразу Петер Заврх чуть повернул голову: словно хотел убедиться, что это сказал художник, а не его пробудившаяся совесть.
– Это ты? – спросил Петер, поняв, что это на самом деле произнес Якоб.
– Художник всегда должен быть совестью человечества, – ответил тот.
Петер Заврх, священник, взвешивал в душе его слова, не в силах победить в себе хозяина, и сказал твердо, беспощадно:
– Когда тебя настигнут голод и жажда, на Урбане тебя будут ждать хлеб и випавец. А совесть – посланница божья. Не беспокойся за женщину из Раковицы, тем более – за ребенка. Ему не придется садиться за чужой стол, а уж за твой и подавно. Амбары в Раковице большие и не пустеют даже весной.
Художник улыбался: Заврх задел его за живое. Нагнувшись к священнику, он тихо ответил:
– Мне послышался плач ребенка. Издали, с гор, откуда-то из-под Урбана.
Священник постоял выпрямившись, с поднятой головой, полуприкрыв глаза. Потом сказал твердо:
– Ты становишься надоедливым, прямо помешался на нравственности. – Неожиданная мысль заставила его внимательно посмотреть на художника, и он спросил, кивнув в сторону молодой Яковчихи: – А разве ты сам ничуть не виноват перед нею?
Минка, стоя перед зеркалом, поправляла прическу, пудрилась, подкрашивала губы. Ее голые до локтя руки блестели в ярком электрическом свете; на лице – веселость, которая явно служила ей маской. Яка не сводил с Минки восторженного взгляда. На мгновение прикрыл глаза и вдруг содрогнулся, от сознания, что она что-то утаивает. Не глядя на священника, сказал:
– Каждый человек, Петер, носит в себе грязь, только некоторые умеют спрятать это поглубже. У каждого на совести какой-нибудь грех, который он навечно похоронил под окнами своей души, чтобы в любой момент беспрепятственно посмотреть, на месте ли могилка и не обнаружил ли ее кто-нибудь. Этих грехов, Петер, нам никто не отпустит, да и не может отпустить. – И невольно у него вырвалось: – Я ведь вернулся к Урбану не только посмотреть, как цветут черешни. Захотел взглянуть на могилку со своим грехом, Петер. Думал полностью расплатиться за этот грех. Завтра уеду, а могила останется и будет звать меня, вечно будет звать к Урбану. – Схватив Петера Заврха за грудки, с силой, будто собирался избить, он продолжил свою исповедь: – Тогда она работала на фабрике. А я сказал ей, чтобы она бросила работу – она, дескать, рождена для иной жизни. Я вдохнул в нее мечты об огромном, прекрасном мире, которого нет и в помине, как нет и того мира, мечтой о котором отравил ее душу во время войны Алеш Луканц. И вот теперь она вступила в этот, невыдуманный, мир без меня и без Алеша. К чему ей корзина на плечах или потрескавшиеся руки с оторванными станком пальцами… Смотри, она будет танцевать для нас! – Яка взглядом указал на Минку.
Преобразившаяся, в блестящем шелковом платье, сильно накрашенная, с горящими, полными жизни глазами, с загадочной улыбкой на приоткрытых губах, она выпила два фужера пенистого вина и требовала у Мирко:
– Налей еще! Ну!
Алеш вначале онемел от удивления, потом хотел кинуться к ней. Но художник удержал его за руку:
– Оставь ее!
– Что с ней?
– Оставь, – повторил Яка. Виктор, прислонясь спиной к шкафу, курил и молча наблюдал за всеми. Мирко, развалившись в кресле возле приемника, подливал себе вина и усмехался, словно победитель. Священник Петер Заврх изумленно во все глаза глядел на Яковчиху, которая, вдруг оторвавшись от Мирко, выплыла на середину комнаты, – тело вытянулось, напряженные руки слегка приподняты, ладони вверх. Вся она словно натянутая струна. Она притоптывала в такт музыке, и тело ее чуть покачивалось, гибкое, упругое тело в блестящем темно-зеленом шелке.
– Тебе посчастливилось, – бросил Якоб Петеру Заврху, – что не ты стал ее отцом. Ты вовремя ушел от Яковчихи… А она сейчас, наверно, умирает…
Петер Заврх вздрогнул и не смог этого скрыть. Он сомкнул глаза, стиснул тонкие, по-стариковски бледные губы, закусил их, преодолел себя и сдержанно ответил:
– Мой путь вел к богу, а ты к нему не захотел, И погубленных людей на моей совести нет. Я утешал их, когда они нуждались в утешении. Был с ними.
Якоб согласно кивнул и, задетый за живое, ответил:
– Я тоже хотел к человеку, к маленькому человеку, к тому, что носит корзину на спине или по два часа тратит на дорогу до фабрики, где получает скудную зарплату, которой не хватает даже на картошку в мундире и молоко, и вынужден – благо бесплатно – собирать в лесах грибы и каштаны.
– И с чем же ты собирался к нему? – язвительно спросил священник. – С фальшивыми идеалами?
– Алеш нас опередил, тебя и меня. У него есть хотя бы доля действительности и правды.
Священник нахмурился, он глядел на Минку.
– Она сошла с ума, – прошептал он и схватился за голову. – Из Подлесы родом, корзину за спиной носила во Урбану, на фабрику ходила… – И замолчал.
– Случается, – художник Яка потянулся за бутылкой и налил священнику и себе, – душа рвется в дальний путь. Я верю в душу, обыкновенную, земную, человеческую, не ту, которую вы поджариваете на жутком вечном огне или прилепляете ей к спине крылышки. У Минки ранена, разбита душа, Петер. Ее разбивал Алеш, ее разбивала мать, а потом пришел беспутный художник и уничтожил то, что не сумели уничтожить другие. Пей! – Он чокнулся со священником, выпил и снова налил обоим.
– Ты пьян, – сказал Петер, – пьян, оттого и болтаешь. – Заврх был очень сердит.
– Все равно чокнись со мной! – потребовал Яка. Петер со злостью выпил и отставил фужер.
А Минка танцевала, танцевало все ее гибкое тело, танцевало ее лицо с непонятным выражением. Ее глаза не отрывались от людей, но все чувствовали, что они, эти глаза, никого не видят. Мирко, прищурившись, разглядывал всех по очереди, а казалось, что он озабочен только тем, чтобы ни на минуту музыка не смолкала. В Алеше бушевали страсти, подобных которым он раньше и не ведал. Как он радовался этой поездке, как надеялся, что она, Минка, пойдет за ним, а теперь – этот необузданный танец. Он вскочил.
– Минка! – Алеш пытался схватить ее за руку. – Что с тобой? – Вопрос повис в воздухе. Минка танцевала, словно не слышала и не видела его. – Минч! – звал несчастный, до глубины души встревоженный Алеш. – Минч! – Он тщетно пытался поймать ее руки, которые ускользали от него в безостановочном своем движении.
Мирко неслышно встал у Алеша за спиной. Осторожно взял его за руку и сказал спокойным поучительным тоном:
– Оставь ее – это ее ночь, Алеш. А утром она пойдет с одним из нас. Она сама выберет с кем. – И медленно повернул его к себе. Алеш глупо уставился на него, словно пьяный. Потом спросил с дрожью в голосе:
– Что она сделала?
– Да, она пойдет со мной, Алеш. – Мирко загадочно усмехался. Положив руку Алешу на плечо, он хотел отвести его к тахте. Но Алеш с силой вырвался.
– Я тебя спрашиваю, что она сделала? – Он был бледен, дышал часто, прерывисто. У Мирко на лице появилась плутовская улыбка. Это привело Алеша в бешенство, он схватил парня за отвороты пиджака и притянул к себе. Захрипел, глядя ему в глаза.
– Я хочу знать, что она сделала, слышишь?!
Мирко посерьезнел, отвел руки Алеша ровно настолько, чтобы тот его не задушил, и ответил:
– Когда встанет солнце, она сама решит, с кем ей идти. – И приказал: – Пойди сядь. Пей, ешь и не делай глупостей, Алеш. Насильно мил не будешь, правда?
– Она любит меня, – воскликнул Алеш.
– А пойдет со мной, – возразил Мирко и, улыбаясь, подвел его к тахте, где сидел Якоб. Тот протянул Алешу полный бокал.
– Пей! Давай чокнемся! И смотри не заблудись на этой дороге. Я подожду до утра, утром солнце засияет над миром, и глаза увидят дальше, чем ночью. – Они выпили. – Этот парень из управления мне ничуть не нравится. Не верю я, что он умеет любить так, как любят художники. Однако вся загвоздка в том, что женщины падки на красоту, на почести, деньги, положение в обществе, генеральскую форму и лишь иногда верят в настоящую любовь и идеалы. Минка свихнулась на идеалах еще в детстве, но боюсь, они ей уже надоели.
Священник Петер бросился к Виктору, который по-прежнему стоял, прислонившись к стене, с полным бокалом в правой руке, сигаретой – в левой, и пожирал глазами Минку. Петер с угрозой взмахнул рукой перед лицом Племянника:
– А теперь пойдем, если ты еще в своем уме, парень. Это мое последнее слово. Ты что, не видишь, что она взбесилась? Прикажешь смотреть, как она пляшет, будто здесь публичный дом? Чтобы такая приплясала в Раковицу?! – Виктор опрокинул в себя бокал вина и, не отвечая дяде, смотрел на Минку. – Ты идешь, я тебя спрашиваю? – Дядюшка тряхнул его за плечо, как будто хотел привести в сознание.
Виктор уставился на него, словно только что увидел. Спокойно, но решительно отрезал:
– Утром. Если хочешь – подожди, пойдешь вместе с нами.
У священника перехватило дыхание. Выдохнув, он сказал:
– Я иду один.
– Иди, – ответил Виктор, – к Урбану. А утром мы вдвоем отправимся в Раковицу. Один я туда не вернусь. Если меня не будет, сделай так, как сочтешь нужным. – Он зажег новую сигарету.
Петер Заврх едва не расплакался:
– А о хозяйстве ты позабыл? Тебя ждет дом, земля, скотина – все тебя ждет.
Виктор чуть ожил. Ответил с раздражением:
– Что мне дом, что хозяйство, что скотина и все прочее, если ее там не будет?
У Петера Заврха опять перехватило дыхание, и он уцепился за последний аргумент, которого до сих пор ловко избегал. Раковица оказалась сильнее всего.
– А ребенок? Вчера утром в Раковице родился твой ребенок.
Виктор не шевельнулся, он не сводил с дядюшки взгляда. В душе у него поднялась буря – сейчас он и впрямь очутился перед самой страшной опасностью, способной его погубить. В этот момент он возненавидел ребенка, возненавидел дядю, который сообщил ему о нем.
– Ты отречешься от ребенка? Ради этой девки? От хозяйства и ребенка? – Петер становился все более агрессивным.
Виктор задрожал – от злости, от отчаяния, от чувства своей беспомощности.
– Надеюсь, ты не станешь отрицать, что ребенок твой?
Петеру Заврху не следовало этого говорить. Ребенок мешал ему больше, чем Виктору, и тот понимал это. Сердито, но спокойно он ответил:
– Если я не вернусь домой, я поговорю с Алешем, пусть ребенок получит Раковицу. И носит мою фамилию.
Петер Заврх оцепенел. Внезапно он ощутил безнадежную пустоту. Ведь эта земля была и его собственностью. Он никогда от нее не отказывался. А получалось, будто его, владельца, хозяина Раковицы, выбросили на дорогу, нищим, чужим и даже не указали пути. Петер поднял было руку для проклятия, но не решился изречь его и лишь сказал дрожащим стариковским голосом:
– Виктор, сынок, не играй с богом и со мной!
– Я сказал: ребенок получит Раковицу. У тебя есть приход.
– Побойся бога, несчастный! – Петер Заврх закрыл лицо руками, а Виктор резко повернулся и отошел от него. Яка наклонился к Алешу и, взглядом указав на Раковчевых, сказал:








