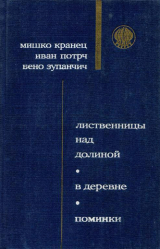
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
– Об усадьбе и ребенке торгуются. И о Минке тоже. Земельная собственность – страшная вещь. Петер Заврх скорее проживет без хлеба, чем без Раковицы. Бедняга до сих пор даже не подозревал об этом, думал, что служит только богу… – Потом пьяно указал на Минку. – Сейчас она пляшет мимо нас. Вот только не знаю, куда припляшет: в Раковицу или к этому красавчику с усиками, который, по правде говоря, мне совсем не нравится. Практичен, как все подобные типы, и слишком умен, чтобы быть женихом Яковчихи, у которой за душой нет ни гроша; в спасении он тоже не нуждается, не то что мы с тобой, путаники божьи, а для тюремщика слишком молод. Черт побери, никак не могу понять, что держит его здесь два вечера подряд. – И он снова заставил Алеша выпить. А потом Яка отважился на то, о чем раньше даже подумать не смел. Он был пьян, опьянен вином, непонятностью происходящего, опьянен несчастьем и ожидающей его пустотой. Якоб кинулся к Минке, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Размашистым жестом он протянул к ней руки и неестественно весело воскликнул: – Минч, хватит тебе плясать в одиночку, давай вдвоем. – Он пытался поймать ее за руки. Но Минка плясала, не замечая его, только губы ее шептали что-то, чего он не слышал. – Минч, Минч! – звал он ее безуспешно. Его ноги уловили такт, дикая, безудержная пляска захватила его. К ним присоединился и Мирко, но он плясал в стороне, для себя, не захваченный их диким ритмом. Он подбадривал, подзадоривал их, отбивал такт руками и смеялся.
– Безумные! – ужаснулся священник Петер, закрывая глаза.
– Минч, Минч, быстрее! – кричал Яка. Близость Яковчихи опьяняла его. Он уже не сомневался, что Минка не пойдет с ним. Терпкая печаль наполняла его душу. Детская вера, с таким опозданием пробудившаяся в нем, рухнула. – Минч, Минч, – звал он, – пойдем со мной. Я буду творить, а ты – жить для прекрасного. Я люблю тебя, я не могу без тебя. Тоска по тебе погнала меня домой. Уж если ты покинула Урбан, тебе надо идти туда, куда ведет твой путь. А в искусстве он ведет дальше всего, Минч, слышишь, Минч? – И шепнул ей, чтобы не слышал Мирко: – Мы убежим отсюда, и никто не заметит.
Но Минка не отвечала, она все плясала и плясала. Она словно превратилась в безостановочное, лихорадочное движение, будто целую жизнь только и делала, что плясала. Отчаяние в ее пляске обеспокоило Петера Заврха, он подошел к Алешу и встревоженно сказал:
– Остановил бы ты ее! – И словно про себя пробормотал: – Нет, нет, не для Раковицы она. И не для корзины.
А Минка плясала. Как в тумане, где-то в бесконечной дали видела она перед собой прыгающего, извивающегося художника Якоба. Слышала, как он зовет ее из этой бесконечной дали:
– Давай убежим отсюда, они и не заметят! Убежим, убежим!
Да, убежать, убежать далеко, на самый край света. Ее душа устремлялась в те светлые, прекрасные края, о которых она начала мечтать еще тогда, когда ребенком от дома к дому бегала и оповещала людей о приближении немцев. Однако это было когда-то очень-очень давно. А сейчас была пустота. Ее путь подошел к концу, хотя должен был только начаться. И все эти люди вокруг нее, которые зовут ее с собой, в действительности являются ее тюремщиками. Как она может убежать от этого красавчика с усиками? Как убежать от Петера Заврха? От Алеша и от художника? А от Виктора? Она была в кольце, ее путь никуда не вел.
– Минч! – кто-то звал ее. Она слышала этот зов. Она и рада была бы остановиться на этом своем безумном, безнадежном жизненном пути, остановить этот свой безумный танец, если бы могла. Но это невозможно. Как остановиться реке, пока не вольется она в море? Как остановить час, пока он не истечет? Как остановиться облаку на небе, если ветер несет его дальше? Как остановить солнце, если оно испокон веку в пути?
– Минч! Минчек!
Откуда этот крик? Кто зовет ее? Куда?
– Минч! Минчек! – Это звучит так, словно вернулось детство. Ребенок, босоногая девчушка, большую часть войны Минч провела с партизанами, в постоянном напряжении. Там, под грохот выстрелов и растратила она свои жизненные силы; она видела, как после боя хоронят партизан на лесных опушках, как немцы увозят их в долину, видела, как фашисты избивают, мучают людей. Она видела пленного – весь истерзанный и окровавленный, он неслышно шептал: «Воды, воды…» Дети не могли понять его, переглядывались между собой. Минка догадалась, принесла из дому воды и подала измученному человеку. Правда, солдат оттолкнул ее и вода разлилась, но глоток пленному все-таки достался. Он одарил ее взглядом, который не погас в ее памяти до сих пор… Она обморозила ноги, когда по снегу бежала к бункеру, чтобы спасти Алеша. Она вытаскивала его из боя и, когда их окружили, решила подорвать гранатой и себя и его: она умрет вместе с ним. И он показал ей, как выдернуть чеку…
– Граната будет между нами, – сказала она.
Минч положила на труп брата Лойзе цветущую ветку черешни. Совсем девчонка, Минч стреляла в сестру, она убила трех немецких солдат и убила бы собственную мать, если бы та ей приказала. Минч – ребенок, который убил свою душу, и потому она состарилась, прежде чем успела вырасти.
Что дальше? В пятнадцать лет она поступила на фабрику: каждое утро – два часа вниз, в долину, каждый день – два часа вверх, в горы. Потом пришел художник – в светлом костюме, сияющий, великолепный.
– Меня зовут Минч! – сказала она, когда он остановил ее и спросил ее имя. – Минка Яковчева. – Она чувствовала на себе его взгляд, он словно оценивал ее: лоб, волосы, глаза, алые упругие губы, молодую грудь, которая так вызывающе вырисовывалась под тонкой блузкой, бедра, ноги. Художник сказал:
– Мать у меня уже старая, больная… А я собираюсь остаться дома на несколько месяцев. Ты не поможешь мне по хозяйству?
– Я работаю на фабрике, – ответила она, – возвращаюсь в четыре часа.
– Хорошо, приходи после работы, ладно?
Она посмотрела ему в глаза и скорее прошептала, чем сказала:
– Ладно.
Минка пришла в своем единственном выходном платье, и ей было стыдно, что она не заработала на лучшее.
– Куплю в кредит, – сказала она, краснея.
– Тебе хочется быть красивой, очень красивой? – спросил он.
Горькая усмешка появилась на ее губах. Она была хороша и так в своей сельской наивности, со своим чуть вздернутым носиком, с тонкими, красиво изогнутыми бровями над большими карими глазами, с белой стройной шеей. Он привез ей из города новое платье, туфельки, шелковый платок, о котором она так мечтала, привез ей губную помаду, духи, привез все, что она хотела, и даже то, о существовании чего она не подозревала. Он рисовал ее лицо с приоткрытым ртом. А однажды она должна была снять с себя платье – такой он хотел ее рисовать. Поскольку он остался дома дольше, чем намеревался, она отказалась от работы на фабрике. Теперь она жила только для него, пока в один прекрасный день он не уехал в город. Правда, вначале он писал. А потом письма перестали приходить. Она снова поступила на фабрику. Полная разочарования, она кинулась в новую жизнь, словно хотела что-то задушить в себе. Она искала забвения в новых платьях, танцевальных вечерах, ночных кутежах, ненасытной любви, оттеснивших ее прежние мечты в самые дальние уголки памяти. По крайней мере ей казалось, что она позабыла Яку; она забывала Алеша, героя своих детских партизанских снов, забывала Раковчева Виктора. Минчек превратилась в Минку, – в девушку, которая рвалась к иной, яркой жизни и ненасытно, жадными глотками пила ее, окончательно убивая свою – раненную еще в детские годы – душу.
Потом, в одну из ночей – это было не так давно, – к ней пришла сестра Резка, та, у которой уже было двое незаконнорожденных детей – они жили у матери, в Подлесе, – пришла со свертком тряпок. Развернув его, Минка оцепенела…
Как в тумане видела она Мирко, который приплясывал рядом. Она знала его давно. Он приходил к ней, как приходили другие, потом они стали встречаться только случайно, на улице.
Сейчас он был здесь, именно сейчас, когда в ее жизни все так запуталось. А там Алеш – ее забытые, прекрасные сны.
– Устроюсь на новом месте и приеду за тобой, – пообещал он.
– Я буду ждать тебя, – ответила она, уверенная, что так и будет, потому что с ним она пошла бы когда угодно и куда угодно. – Возвращайся к Урбану, когда зацветут черешни. А я приеду к матери в Подлесу.
Трижды отцвели и созрели черешни, они цвели в четвертый раз, когда вернулся этот парень. Бедный, он относился к жизни так серьезно. Она и в этом году приезжала к матери, ждала его. А вместо него пришел художник Яка. Потом пришел Виктор. Тогда же пришла Резка. Алеш пришел слишком поздно. А когда он, собственно говоря, должен был прийти? Разве он не вошел в ее детские мечты? Ведь тогда еще не было слишком поздно. И все же… Сейчас они сидят здесь, в ее комнате, в эту последнюю для нее ночь, потому что когда наступит утро…
Танец ее стал еще более безумным. Все куда-то отодвинулось, завертелось… Отодвинулись окружающие Урбан горы, их глубокие ущелья, цветущие склоны. Ей казалось, что горы тоже пляшут, припрыгивают, каждая по-своему, а выше всех – сам Урбан, пляшут одинокие дома вокруг Урбана, пляшут деревья – сосны, ели, лиственницы, пляшут цветы, пляшет родной дом в Подлесе со струйкой дыма над крышей – мать затопила печь, вдруг вернется одна из дочерей, затопила, может быть, в последний раз, своим дочерям на радость, себе – на прощанье, да чтобы не искали ее у Фабиянки; пляшут ущелья, пляшут осыпи, пляшут люди с корзинами на спинах, пляшут ручейки, бегущие по скалам, пляшут волы, кони, подпрыгивают на каменистых дорогах телеги, пляшут белые облака на небе, пляшет ветерок, пробегающий мимо лиственниц, пляшут в воздухе пчелы и мотыльки, и цветущие черешни тоже пляшут, пляшет город, дома с огнями в окнах, скачут фабричные трубы, как будто хотят переломиться – все, все ожило, кинулось в дикую пляску, которой уже не остановить.
Все двигается, крутится; потолок в комнате вздыбился, стоит как стена и раскачивается, будто бы его шатает ветер, люди в комнате, словно на качелях, – взлетают то вправо, то влево. Она услышала, как кто-то закричал:
– Держите ее, она упадет!
Она не поняла, о ком это.
Увидев ее лицо, художник остановился, подскочил Алеш, но было поздно. Минка, словно подкошенная былинка, рухнула на пол, руки вытянуты, рот приоткрыт, блуждающий взгляд устремлен в потолок; а тело ее все двигалось, извивалось, как будто никогда не сможет прервать этой дикой пляски – прощания со своей загубленной жизнью.
Минку перенесли на тахту. Алеш и художник придерживали ей руки и ноги, чтобы она успокоилась. Священник Петер смотрел смущенно, растерянно.
– Воды, дайте ей воды! – опомнившись, сказал он племяннику, который так же растерянно стоял рядом. Мирко плеснул на ее горячечные губы пелинковца[13].
Она стала успокаиваться, даже открыла глаза, с изумлением оглядела окружающих; казалось, она никого не узнает – она и на самом деле не узнавала. Только встретившись взглядом с Мирко, она отвернула голову к стене. Наклонившись к ее лицу, художник увидел две слезинки, что выкатились из ее глаз, но она не плакала.
– Уйдем, – позвал Петер Заврх племянника; тот вздрогнул, непонимающим взглядом посмотрел на дядю и тихо ответил:
– Иди один. Дорогу до Урбана ты и без меня найдешь. Я же сказал: утром я вернусь с Минкой или не вернусь вовсе.
Совершенно отчаявшийся, печальный и смертельно усталый священник подошел к окну, отдернул занавеску и прижал горячечный лоб к стеклу. Снаружи, за окном, была ночь, темная, густая; на небе мерцали мелкие звезды, в городе горели огни – все терялось в бесконечности. Что происходит в комнате, что с Минкой, что с остальными – Петера Заврха уже не интересовало. Его охватила отчаянная тоска по Урбану, не по Раковице, нет – по Урбану, по его собственному миру. Казалось, именно сейчас он потерял эту проклятую Раковицу, и ему почему-то не так уж и жаль ее.
Он стоял у окна. Его душа плакала, тихо, без слез, безнадежно, безутешно, а он не понимал, почему и о чем она плачет.
Он не знал, как долго простоял он возле окна – может, всего несколько мгновений, может, несколько часов, может, целую вечность, пока из темноты не выплыли очертания гор, все еще покрытых тонким слоем снега. Небо бледнело, становилось зеленоватым, потом окрасилось в пурпур. Мрак рассеивался, как будто кто-то пожирал его. Фабричные трубы стояли как мертвые – ни единой струйки дыма. Утро пробиралось в сад, утренний туман стлался над грядками и клумбами, над цветущими кустами, над беседкой.
– Утро наступает, – Мирко, неслышно вставший рядом со священником, сказал это скорее себе, чем ему.
«Утро», – подтвердил в душе Петер и беззвучно пошевелил губами.
– Ну и надымили мы. – И парень открыл половину окна. Он тоже бросил взгляд туда, где кончался сад, где кончался город, на горы. – На вершинах еще остался снег. Горы без снега некрасивые. – И добавил: – Наверно, возле Урбана сейчас очень красиво? – «Красиво». – И на этот раз Петер Заврх смог только пошевелить губами. А Мирко говорил, словно хотел напомнить ему о чем-то: – Воскресенье, люди отправятся на прогулку, за город. – Но и теперь Петер Заврх молчал. Он вспомнил о своем приходе, где люди будут ждать его к мессе. И свадьба на сегодня назначена. «Мне бы домой», – подумал он. А Мирко, будто подслушав его мысли, ответил: – Всем надо домой, всем. Каждый пойдет своей дорогой.
Он кинул взгляд в комнату. Минка лежала на тахте, заложив голые руки под голову, и смотрела в потолок. На столе выстроилась батарея бутылок, фужеры, тарелки с остатками бутербродов, две пепельницы, переполненные окурками, пеплом и обгоревшими спичками. Яка неотрывно смотрел на Минку: вдруг она снова отправилась в дальний путь, в детство?
Виктор сел на тахту, дотронулся рукой до ее головы, потом медленно, легко-легко стал гладить лицо, лоб, волосы. Алеш стоял в изголовье, глядя то на Виктора, то на Минку. Наконец Минка обратилась к Виктору:
– Посмотри, дорогой, не наступает ли утро?
Виктор вздрогнул. Повернул голову к окну, посмотрел на Якоба, на Алеша, словно спрашивал у них совета. Потом ответил – тепло, нежно:
УТРО ВСТАЕТ,
проснись, Минчек, Минка! – взволнованно воскликнул он, полный счастья. – Вставай, пойдем в Раковицу. – И уже с тревогой, словно сердито, хотя до сих пор был так странно спокоен, добавил: – Брось город, брось этих людей. В Раковице ты все позабудешь! – Он нагнулся к ней, прикоснулся щекой к ее лицу, погладил рукой. – Дядя ждет нас, он пришел за мной. А я ему сказал, что без тебя не вернусь.
Минка поймала пальцы его руки, не позволяя себя ласкать, но лица не отвела. Она все еще смотрела в потолок, не желая даже взглянуть в сторону окна. Потом сказала:
– Ты вернешься в Раковицу. – И не дав ему возразить, оставаясь внешне спокойной, решительно и непререкаемо повторила: – Ты вернешься с дядей в Раковицу. Завтра, послезавтра ты все поймешь, не волнуйся.
– Не пойду, без тебя не пойду. И ты… Или ты пойдешь со мной, или… Минка, ни с кем из этих людей ты не пойдешь, пока жива – не пойдешь.
– Не требуй этого. Ты возьмешь свои слова назад. – И она погладила его по лицу. – Ты ничуть не изменился, Вики, точно такой же, каким был в школе. Ты должен вернуться!
– Минка! – это прошептал Алеш; он как будто хотел ее разбудить и оторвать от Виктора.
Она встала, ни на кого не обращая внимания. Алеша и Якоба она даже не видела. Нежно высвободила свою руку из руки Виктора. Мгновение постояла возле тахты, словно опасаясь, что упадет. Поправила руками волосы. На окно не взглянула – оттуда на нее с напряженным вниманием смотрел Мирко. Вышла из комнаты.
Минка вернулась умытая. Она по-прежнему ни на кого не обращала внимания. За шкафом переоделась. Принесла метлу, подмела, правда, только середину комнаты. Убрала со стола бутылки, оставила лишь пелинковец и водку. Повесила в шкаф свое платье и расставила по местам стулья. Мужчины следили за ее движениями, вслушивались в ее безнадежное молчание, каждый хотел помочь ей, но никто не знал как.
– Она решилась, – художник нагнулся к Алешу. – Только на что? Не о ком, а о чем идет речь. Похоже, придется тебе и мне проститься с ней, так сказать, навсегда. Моего ума не хватает, чтобы разобраться во всем этом. Утро. А она сказала: «Утром решу». Не могу понять, чем ее так привлекают тюрьмы?! – И добавил с горечью: – Не усадьба, каких мало в горах под Урбаном, не искусство и не политика, дорогой Алеш… Она, видите ли, предпочитает управление внутренних дел. А я его не люблю. И в этом я ее, пожалуй, упрекну. Если смогу… – Он улыбнулся.
Священник все еще смотрел в окно, между тем как Мирко, прислонившись спиной к подоконнику, смотрел в комнату: на мужчин, на Минку, словно боялся, как бы кто не ускользнул от него.
Прибрав комнату, Минка окинула ее взглядом, на людей она не смотрела – ни на Виктора, ни на Алеша, ни на Якоба. Подошла к наполовину открытому окну, распахнула его настежь, потом встала перед Мирко. Пристально посмотрела на него; стоявшего рядом с ним священника Петера Заврха она не замечала. Сухо спросила:
– Чего ты хочешь?
Священника охватило мучительное чувство. Бедный Петер, который всякого натерпелся за эти дни, не сводил с нее полного отчаяния взгляда. Никогда она не была ему так дорога, как сейчас. Он угадал: происходит что-то страшное, и девушку надо спасать. Случилось то, чего никто не ожидал: Петер Заврх, священник и собственник, взял Минку за руки и, посмотрев в глаза дочери той, которую он когда-то любил, улыбнулся печально, горько.
– Минка, пойдем с нами в Раковицу. Оставь этот мир, оставь эту жизнь, живи в Раковице – там человек все забывает, там он возрождается.
Она смотрела на него тепло и благодарно; губы ее шевелились, словно она что-то рассказывала ему. Тряхнув головой, сказала спокойно и ясно:
– Не могу, мне нельзя. Вернитесь с Виктором в Раковицу. Я уже опоздала. У меня своя дорога. – Она пожала Петеру Заврху обе руки, повернулась к Мирко – более решительная и твердая – и спросила требовательно: – Теперь скажи, чего ты хочешь?
Мирко смотрел на нее, словно гипнотизируя. Погладил свои усики и негромко сказал:
– Я хочу, чтобы все прошло скорее. И тебе так будет лучше. Конец один и тот же, ты ничего не сможешь скрыть. – Пристально, не мигая, он смотрел на нее. Сквозь стиснутые зубы, он почти неслышно шепнул:
– Минка, где ребенок?
Петеру Заврху, услышавшему его вопрос, показалось, что он бредит. В нем что-то оборвалось. В памяти невольно всплыл тот, раковицкий ребенок. Но взгляд Минки не дрогнул. После небольшой паузы она спросила сухо, спокойно, даже с легкой усмешкой:
– Какой ребенок?
Мирко помолчал – он должен был совладать с охватившей его злостью – потом, так же спокойно, заговорил:
– Я дал тебе целую ночь. Ты знала, зачем я пришел. Если ты хоть чуть думаешь о себе, мы сделаем все тихо. А если тебе нужен шум, ну что ж, пусть об этом говорят по всему городу да и в горах вокруг Урбана тоже. Минка, где ребенок?!
Она удивлялась самой себе: когда вечером она увидела его в комнате, все в ней задрожало: она поняла, что ей не убежать и что не имеет смысла что-либо скрывать. Но сейчас все в ней взбунтовалось.
Она не думала о спасении – ждать его было неоткуда. Но ее охватило сильное желание защищаться. Она колебалась между откровенным признанием и совершенно бессмысленным запирательством. И все-таки ей не хотелось сдаться этому красавчику, тому, кто перешагнул через ее любовь так же холодно, небрежно, как и многие другие. Только встретив взгляд потрясенного священника Петера Заврха, она решилась. И сказала:
– Перестань играть в прятки. Что ты обо мне знаешь? А я тебе всего не собираюсь рассказывать.
Мирко кусал губы. В нем поднималось раздражение, он уже раскаивался, что выбрал этот путь. Но… На этом «но» он остановился. Сказал тихо:
– Я действительно не хочу играть в прятки. Нам многое известно. Все остальное расскажешь ты, Минка, расскажешь от начала до конца, подробно и ясно.
Она покачала головой, и на ее лице появилась горькая усмешка, болью отозвавшаяся в сердце Петера Заврха.
– Я расскажу только то, – процедила она сквозь зубы, – что вы знаете – о ребенке. Все прочее останется при мне. И вы меня не заставите рассказывать вам. Я умею молчать, Миркец. Меня приучили молчать во время войны.
Мирко стискивал губы, щурился. Он не сомневался в ее словах, именно поэтому он и выбрал такой путь. Он спросил скупо:
– Где ребенок?
Она все еще боролась сама с собой, дышала неглубоко, прерывисто и не отрываясь смотрела на Мирко, лишь мимолетно глянув куда-то мимо Петера Заврха. Потом повернула голову к окну, к золотому утру, которое вместе с восходящим солнцем уже царило на дальних горах. И произнесла едва слышно, но отчетливо:
– Внизу, под окном.
У Петера Заврха перехватило дыхание; Мирко, не мигая, не спускал с нее глаз. Потом пошевелился и сказал:
– Ну, пойдем!
В последний раз ее душа воспротивилась, словно не понимая, как может она подчиняться этим страшным законам. В безмолвном прощании Минка склонила голову перед Петером Заврхом, прошла мимо смертельно бледных мужчин: мимо активиста Алеша, мимо художника Якоба, мимо Раковчева Виктора. Онемев, они на какое-то время застыли на своих местах, затем кинулись к Петеру Заврху, ожидая, что он откроет им тайну. Но тот молчал, прижимаясь лицом к стеклу, его взгляд был устремлен куда-то вдаль.
Несколько минут спустя они увидели под окном небольшую группу людей; казалось, они провели там всю ночь. Кто-то уже раскапывал клумбу под окном. Минка Яковчева стояла на тропке между клумбами и смотрела на город, на высокие фабричные трубы, мимо которых она когда-то ходила. Невольно подумала, что те четверо, в комнате, сейчас смотрят на нее, как фабричные трубы – на город. Они и правда стояли, пристально смотрели на людей, и им казалось, что женщина в сером костюме и берете на густых волнистых волосах им незнакома. Рядом с ней стоял парень из управления в сдвинутой набок шляпе, в легком застегнутом плаще.
Петер Заврх прикрыл глаза рукой, увидел, как на клумбе среди вскопанной земли мелькнуло что-то розовато-белое. Алеш Луканц опрометью кинулся из комнаты, за ним вышел на одеревеневших ногах художник, только Виктор стоял, прислонившись к стене. Дядя взял его за руку, Виктор вначале упирался, но потом пошел за ним из этой несчастной комнаты.
На дороге стоял автомобиль. Пришлось подождать, пока люди отойдут от клумбы. Кто-то нес ящик. Подъехала еще одна машина, и люди стали в нее садиться. Подобная организованность поразила Алеша. Он рванулся к Минке, которая шла рядом с Мирко. Она очень изменилась, не только потому, что на ней был этот серый костюм, а на голове берет и коричневая сумочка под мышкой, – нет, у нее что-то в лице изменилось. Но беспокойства заметно не было. Алеш смотрел на нее из-под полуприкрытых век и видел ее как будто сквозь пелену и ему казалось, что это прежняя Минка, девочка, которая прибежала спасти его.
– Минч, Минч! – с болью закричал он, пытаясь схватить ее за руку. Мирко помешал ему. Минка лишь на секунду замедлила шаг, не глядя на него, и подняла голову.
– Минчек! – звал Алеш. – Что случилось?!
Она стиснула губы. Подошла к автомобилю и села, как будто собиралась на прогулку.
– Минчек! – Алеш кинулся к автомобилю. – Я приду. Минч, я приду… я найду тебя…
Мирко даже не посмотрел на Алеша. Он с треском захлопнул дверцу, автомобиль зарокотал и помчался к центру, за ним направился и второй. Алеш безмолвно смотрел им вслед. Он ничего не понимал. У него возникла мысль пойти в райком, к секретарю, но он не мог обдумать ее до конца. За его спиной стоял Яка, глубочайшее разочарование было на его лице. Он взял Алеша за руку как раз в тот момент, когда тот намеревался броситься в райком, и, словно угадав его мысли, сказал с усмешкой, на этот раз относившейся к нему самому, непутевому художнику Якобу Эрбежнику:
– Слишком рано, Алеш. Люди из райкома еще не встали. Кроме того, если я не ошибаюсь, сегодня воскресенье. А райкому спешить некуда – они ведь не собирают налоги. Завтра, послезавтра, когда напишут несколько тысяч протоколов, дорогой Алеш. – Он взял Алеша под руку – тот не сопротивлялся – и сказал тепло, с нескрываемой болью: – Пойдем отсюда. У Виктора, нашего несчастного соперника, есть дядюшка и Раковица; у него – усадьба, у дядюшки – приход. А нам с тобой, сдается, один путь – в трактир. Надеюсь, что на этом наши несчастья кончатся, для трех дней их было более чем достаточно. – И как будто в поисках самых ближайших целей, вспомнил о чем-то важном: – Воскресенье, те, кто не ходят к мессе, отправляются на экскурсии. Я пойду в горы, к Петеру Заврху. Хочется поваляться на травке, на солнышке. Кроме того, в Урбане мое барахло и кое-какие наброски. Ни к чему оставлять это там. Вряд ли бедный Петер в его возрасте начнет малевать. А если он откажется от Раковицы, то надоест даже любимому богу со своей бессонницей и болтовней.
Священник Петер Заврх стоял перед домом. Он держал Виктора за руку, словно ребенка. Крестьянский парень из Раковицы начал трезветь от своего опьянения – как любовного, так и алкогольного. Неожиданно он вырвался из рук дядюшки, кинулся к художнику, схватил его за руку и уставился на него своими налитыми кровью глазами, смешной в своем барском костюме и светлой шляпе, никак не вяжущимися с его неистребимой мужиковатостью. Вытаращив на Яку глаза, он с отчаяньем спросил его:
– Что случилось с Минкой?
Художник выпустил Алеша, взял Виктора за руки и, когда к ним подоспел растерянный священник, сказал:
– Возвращайся в Раковицу. От тебя еще слишком пахнет землей. Слушайся дядюшку, который желает добра всему свету да и тебе, наверно, тоже.
– Я пойду за Минкой! – ответил Раковчев, обиженный этой скрытой насмешкой. – Я должен узнать…
Яка облизнул губы, посмотрел на него и спокойно посоветовал:
– Рано или поздно будет суд. Дядюшка получает районную газету, там ты и прочтешь. Ну а если ты обязательно хочешь идти в управление, учти, что сегодня всюду, кроме церкви – выходной. – И добавил: – Захочешь нас найти, ищи у Рибича. Мы будем там не меньше часа…
– Пойдем домой, – тихо попросил Петер Заврх и снова, как ребенка, взял Виктора за руку. – Давай забудем обо всем, и ты, и я. Здесь все так сложно…
– Вернитесь, – поддержал Яка. – Вернись в Раковицу, Виктор. Там тебя ждут трудные минуты. Вернись, дорогой Петер, на свой Урбан, оттуда открывается такой прекрасный вид на мир: все отдаляется от человека, все окутано легкой туманной пеленой. А если у тебя появятся мелкие грехи, иди в исповедальню. Поверь мне, сквозь решетки исповедальни грехи выглядят несколько иначе, чем в жизни. Оставим их красавцу Мирко. А мы с тобой, Алеш, поскольку наш отпуск еще не кончился… Вначале зайдем к Рибичу на стаканчик дрянной люблянской водки. А потом вернемся к Урбану – забрать свои вещички и попрощаться с тамошним священником Петером Заврхом. А еще я бы с удовольствием лег на спину, заложил бы руки под голову, загляделся на синее небо вокруг нашего любимого Урбана, и
ПРИЗВАЛ БЫ БЕЛЫЕ ОБЛАКА НА НЕБО И ПЕЧАЛЬ – В СВОЕ СЕРДЦЕ,
чтобы очистить его от скверны. Буду смотреть, куда плывут облака, может, и я пойду за ними. Цель все-таки надо найти, не так ли? Придется начать снова, Алеш, как ты считаешь?
Алеш, целиком погрузившийся в свое несчастье, вздрогнул и после паузы ответил:
– Вся беда в том, что человек всегда опаздывает. – Этот ответ, скорее, относился к его собственным мыслям: ему казалось, что все было бы по-другому, если б он послушался своего несчастного сердца и отправился за Минкой много месяцев назад, когда ему помешали сплошные случайности. – В партизанах она была еще ребенком, и потому сделала из меня героя. Когда я задумался обо всем этом всерьез, меня перевели отсюда, и, кажется, тогда в ее мыслях появился ты, Яка, – кончил Алеш печально.
Художник засмеялся мелким, натянутым смешком и зашагал дальше; за ними семенил Петер Заврх, ведя за руку племянника. Яка не сразу ответил активисту:
– Я ей обещал весь мир, широкий, прекрасный мир, салоны, море, путешествия, Европу. А что дал ей ты? Она сняла с плеч корзину, чтобы каждое утро по два часа тратить на дорогу к фабрике. Знаешь, Алеш, женщины ничего не имеют против социализма, но тридцать лет ходить каждое утро по два часа навстречу социализму, не кажется ли тебе, что это слишком долгий путь? Да к тому же и зарплата такая мизерная… – Они спускались вниз к реке, к трактиру Рибича. – Что же до неудачи, – разглагольствовал художник, отнюдь не утративший болтливости, – эта проклятая баба питает особую слабость к маленьким людям и не упускает случая, чтобы подставить им ножку. Мне кажется, ты по-прежнему относишься к маленьким людям, хотя и работаешь в райкоме. В том, что она любит меня, в какой-то степени виноват я сам. Но почему эта проклятая неудача посетила нашего милого Петера Заврха, который до нынешней пятницы не сделал никому ничего дурного, этого я уж никак не пойму, разве что это испытание, ниспосланное его любимым богом. И скажу я тебе, Алеш, – продолжал художник настолько громко, что его могли слышать оба Раковчевых, – несчастье, которое ожидает его в Раковице, ничуть не меньше того, от которого он только что избавился. По правде говоря, Алеш, то, что мы увидели на клумбе, где должны были бы цвести тюльпаны, потрясло меня. Знаешь, почему? Этого нельзя нарисовать. Нет, это не относится к искусству. Я не занимался политикой никогда, а пастбище морали еще в гимназии приписал к ведомству Петера Заврха, ну а когда я ему изменил, ему и господу богу, то целиком посвятил себя искусству. Но сегодня у меня очень большое желание взобраться на трибуну, на этакую церковную кафедру, с которой слышно всему свету, и закричать во весь голос: «Матери, не рожайте детей, если вы намереваетесь их убивать. Прошли те времена, когда ребенок был векселем, на который можно было купить мужа, кухню и постель. Не верьте ни хозяину из Раковицы, ни художнику Яке, ни активисту Алешу, а меньше всего – священнику Заврху. Мужчины, не давайте жизнь детям, если вы не собираетесь заботиться о них, или убивайте этих малявок сами, не оставляйте это на долю матерей, которые потом закапывают их под окнами своих квартир, чтобы они на всю жизнь оставались рядом с ними, у них на глазах и – вне опасности!» Если социализм, дорогой Алеш, сможет решить и эти проблемы, спасти всех детей, которых матери намереваются лишить жизни, потому что не знают другого выхода, я поклонюсь ему до земли. – На мгновение художник замолчал, свободной рукой поправил волосы и начал развивать мысль, которую и сам до конца не обдумал: – Священник Петер сегодня будет советоваться со своим любимым богом, усталый Виктор мигом заснет, чем и как будешь мучиться ты – не знаю, а я – как уже сказано – лягу на солнышко, в траву, заложу руки под голову, призову печаль в свое сердце и белые облака – на синее небо, – пусть плывут надо мной, и спрошу у них, когда мне возвращаться: когда под Урбаном созреют черешни, или когда они вновь зацветут, или… отдаться на волю волн… широкому морю чистого искусства…








