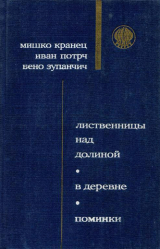
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Минка задала этот вопрос, хотя прекрасно понимала, что он ничего не может знать о ее матери. И повторила еще решительнее, еще требовательнее:
– Она больна или у Фабиянки?
Он улыбнулся приветливо, с особой теплотой, и ответил:
– В одном трактире в долине мне, кроме всего прочего, рассказали о Яковчихе: «Болеет она и все больше с горя пьет у Фабиянки».
Минка кивнула, соглашаясь с ним, и наконец сказала:
– Если она болеет да еще пьет у Фабиянки, значит, плохо ее дело, уж я-то знаю. Наверно, ждет меня попрощаться. Ну, я пошла.
Она протянула ему руку.
– Я пойду с тобой, – ответил он, глядя на нее ясными глазами, словно не замечая протянутой руки.
– Нет, – возразила она решительно. – Я хочу побыть с матерью. Сначала она меня как следует отругает, потом мы вместе до поздней ночи поплачем. Когда под утро на Урбане прокричит фазан, а в деревне пропоют петухи, я отправлюсь в свою каморку. Открою окно. За домом у нас растет старая-старая черешня. Если окно открыто, ветки лезут прямо в комнату. Выше по склону горы – лужайка, и там полно подснежников и полевого морозника, а еще выше – лес. На поляне, где целый день кричит кукушка, столько цветущего вереска – просто ступить некуда.
Она словно одурманила его своим рассказом. Глаза Яки оживились. Казалось, будто ему захотелось самому на все это взглянуть, и он воскликнул:
– Я приду к тебе в гости!
– Нет! – отвергла она его ласковую навязчивость. – Я не открою тебе ни окна, ни дверей. Когда мать как следует меня отругает и обе мы наплачемся вволю, я отправлюсь в далекое странствие.
Он не понял ее, и она пустилась в туманные объяснения:
– Прогуляюсь по своему детству. Весь путь пройду, до самой войны. А может, забреду и в военные годы. – Она говорила об этом, словно речь шла о дороге, ведущей отсюда к Урбану. Но вдруг содрогнулась. – Нет, в военные годы я заходить не стану, – и добавила: – Тогда было страшно.
– А что было страшно? – спросил он чуть слышно.
Она лишь тряхнула головой, поэтому он попросил:
– Мне ты можешь сказать.
– Не надо, – ответила она.
Яка был обижен. Немного погодя он спросил:
– Ну, а в те времена, когда мы встретились, – туда ты сегодня не зайдешь?
Она отрицательно покачала головой. Затем сказала будничным тоном, без боли в голосе:
– Это края позабытые. Туда я больше не хожу. Слишком много я о них плакала. Сегодня я посижу с матерью, она меня отругает. Потом уйду в свою комнату и отправлюсь в далекое странствие. Ты, Яка, надеюсь, меня понимаешь?
Он шевельнул губами и слегка кивнул.
– Я поцелую тебя, – сказал он неожиданно и попытался притянуть ее к себе. Левой рукой он слегка повернул ее лицо, чтобы заглянуть в глаза. – Здесь, под лиственницами. Потом иди домой, побудь с матерью и отправляйся в свое детство. Я пойду домой и тоже отправлюсь путешествовать – по собственной юности.
Он улыбнулся, хотя она и уклонилась от его поцелуя.
– Завтра вечером я приду к тебе, – сказал он. – Прогуляемся по тем временам, когда ты меня любила. И я напишу твой портрет – ты будешь сидеть под черешнями в вашем саду, вся белая-белая.
На этот раз ему удалось притянуть ее к себе и поцеловать в волосы. Он добавил:
– А потом мы уедем отсюда. Уедем вместе.
Повернув ее к себе и заглянув в большие карие глаза, он сказал:
– Я ведь за тобой приехал, Минч!
Он назвал ее, как звал когда-то. Карие глаза пристально взглянули на него. Резко повернувшись, она ушла, не проронив ни слова. Даже не оглянулась.
Яка пришел к ней в белой рубашке, в светлых брюках, с непокрытой головой. Он рисовал ее в саду, под черешней, и рассказывал, будто говорил не ей, а самому себе:
– Когда отцветут черешни, мы уедем отсюда и поженимся. Когда черешни поспеют, приедем сюда погостить, а потом укатим в дальние края. Там заживем. Я буду писать картины, стану известным художником.
Она сидела на стуле, среди веток цветущей черешни, которые кое-где касались земли, потому что сад был расположен на крутом горном склоне. Слушая его, Минка мечтала, прикрыв глаза. Ни единого слова не проронила она в ответ – так человек, читающий книгу, не пререкается с ней. А неделю спустя она сказала просто, словно все обдумала и решила:
– Ступай теперь к своему другу и благодетелю, священнику Петеру Заврху. А когда черешни отцветут, я позову тебя. И мы вместе уедем.
– Хорошо, я пойду, – кивнул Яка, чувствуя себя безгранично счастливым. – И увидишь, к нашему отъезду давно обещанная священнику картина – вознесение божьей матери в окружении ангелов – будет закончена.
На прощанье они тепло улыбнулись друг другу и он сказал:
– Позови меня поскорее, слишком надолго мы все затянули. Мне жаль сейчас каждой потерянной минуты.
Он оставил незавершенный портрет, взял мольберт, холст и краски и ушел прямо через сад.
Когда Яковчева Минка и Раковчев Виктор еще ходили в школу, тот вырезал на стволе лиственницы у развилки дорог начальные буквы ее и своего имени, а когда она, глядя на его работу, спросила, что значат эти буквы, он выдал ей свою тайну:
– Я люблю тебя и буду вечно любить, никакой другой девчонки, кроме тебя, мне не нужно, ты уж, Минч, мне поверь. А
КОГДА ВЫРАСТЕМ, Я ПРИДУ ЗА ТОБОЙ
и ты пойдешь со мной к нам в Раковицу.
Она выросла и, как ему стало известно, теперь была дома. Он отдал распоряжения своему батраку Року и служанке Марте и, вырядившись по-праздничному, помчался в Подлесу. Минка смутилась. А он сказал ей:
– Ты мне всегда нравилась, и вот я пришел за тобой. Пойдешь со мной в Раковицу. Навсегда.
Раковицей называлась его родная усадьба, отдаленный хутор под Урбаном.
Два дня они по-праздничному пировали в Подлесе, а с ними и вся Подлеса: все приходили к Фабиянке, пили, ели и распевали песни, даже детвора пила и пела. На третий день рано утром, когда Виктор от усталости и выпитого вина уснул, Минка сложила свои вещи в плетеную сумку и бросилась матери на шею. Последний раз они поплакали, крепко обнявшись. На этот раз не было никаких упреков.
Когда Минка остановилась на горе у развилки дорог под лиственницами, золотые лучи солнца только что залили всю Подлесу и ее родной дом, окруженный цветущими черешнями, яблонями и грушами. Дым тонкими струйками поднимался над крышами домов, над их крышей он уже почти растаял: мать, сварив ей на прощанье крепкого чая, оттопила. «Теперь никто не станет у нас топить, – сказала себе с горькой усмешкой Мина. – Матери нужна только водка. Скоро она умрет. Если я еще когда-нибудь сюда вернусь, мне будет казаться, будто мать по-прежнему сидит у Фабиянки, день и ночь пьет водку, заливает ею жгучие боли в желудке и в сердце – и те и другие ее одинаково мучают». Думая и о матери и о черешнях, она с грустью прибавила: «В этом году я их повидала, и мать, и черешни тоже. Последний раз. Может, я их больше никогда не увижу. А жаль», – вздохнула она. Взгляд ее карих глаз, в которых отражалось небо с утренней зарей и восходящим солнцем, упал на лик распятого Христа. Минка вздрогнула. Ей не хотелось думать об отце и его смерти. Тогда она вспомнила про художника Яку, который ждал ее у священника Петера Заврха под Урбаном. «Бедный Яка, – вздохнула она невольно. – Христос у него получился с лицом нашего отца, теперь для священника Петера Заврха он рисует деву Марию с ангелами, а это будут девушки с Урбана». И еще захотел, чтобы она уехала с ним. «О тебе с твоей красотой будут грезить люди, – говорил он с таким пылом. – Тебе будут предлагать в фильмах большие роли, а мои полотна с твоим изображением будут висеть в картинных галереях по всему свету». Минка усмехнулась. Бедняга вечно мечтал о несбыточном. И будет так мечтать до самой смерти, а жить на харчах у священника. Минка не сможет там ни обедать, ни ужинать. И не станет искать стопроцентного инвалида, как Полянчева Малка – одного та себе нашла, скоро придется искать другого. Минка презрительно усмехнулась: «Я люблю здоровых мужчин». Посерьезнев, сказала словно не себе: «Теперь, когда ты отказалась от Виктора, можешь попрощаться со всем, что когда-то любила, – с родным домом и матерью, которую ты больше не увидишь, с цветущими черешнями и художником Якобом». Взгляд ее между лиственничных стволов охватил всю долину, лежащую глубоко под горой, где кончаются расщелины и леса, – городское предместье с фабричными трубами у реки, теснящиеся одна к другой рабочие лачуги, дороги, ведущие в город со всех сторон, прозрачную мглу, слегка посеребренную солнцем. Улыбнувшись, Минка сказала себе: «Туда, в долину, мне бы не следовало идти, из-за этой долины со мной может случиться несчастье, как когда-то с отцом». В то же время Минка твердо знала: хочешь жить, нужно идти в долину. Люди давно уже уходят туда, они идут и идут, едва смолкли шаги тех, кто прошел здесь этим утром – девушки и парни со склонов Урбана, из каждой деревни, чуть ли не из каждого дома. За ними пойдут дети – кто в гимназию, кто в промышленное училище. Минка – лишь маленькая частица на этом пути переселения с гор в долину. Рано или поздно каждый из них ухватится за что-нибудь в городе и не вернется больше домой в горы.
Они не возвращаются – долина ненасытно, непрестанно заглатывает их, всех этих детей гор из окрестностей Урбана.
Минка испугалась – кто-то совеем рядом с ней вдруг закричал что есть мочи, играя голосом. Задумавшись, она не слышала шагов человека, подошедшего так близко. Она резко обернулась.
– Кржишников! – воскликнула она с веселым смехом. – Ты что, рехнулся? Так парни кричат по вечерам, когда идут к девушкам. А сейчас вот-вот откроются фабричные ворота – ты что же, не работаешь больше?
– Я иду к девушке, вот и кричу, – ответил он и слегка обнял свою давнишнюю знакомую. – Вот-вот раздастся фабричный гудок, а у меня отпуск, и я иду к своей невесте. Я сказал ей: «Как только крикну на горе у распятья, выходи меня встречать». Ведь из Подлесы, то есть отсюда, слышно на Брдо: вот увидишь, с минуты на минуту она махнет мне красным платком и выбежит навстречу. В субботу мы пойдем с ней в правление общины расписываться – это для меня, а в воскресенье отправимся на Урбан к Петеру Заврху в церковь – это уж для нее! – И Кржишников опять засмеялся, а затем, набрав в легкие побольше воздуху, крикнул, играя голосом, так что эхо отозвалось из всех лесов Урбана, и вдруг перед белым домиком на Брдо появилась женская фигурка – маленькая, едва различимая; казалось, она и вправду машет красным платком.
– Ну, видишь? – сказал Кржишников весело и от радости прижал к себе Минку. Она чуть прикрыла глаза, пытаясь подавить в себе легкое волнение.
– Тебе и вправду нравится твоя Катка? – спросила Минка.
– Нравится! – ответил он.
– Она богатая, – сказала Минка с озорной улыбкой.
Их взгляды встретились, и Кржишников понял ее насмешку, но рассмеялся и сказал:
– Мы любим друг друга. С отцом ее мы уже сговорились насчет строительного леса, небольшой суммы денег и земельного участка в долине. Построим себе дом неподалеку от фабрики. Катка заявила отцу, что не хочет всю жизнь таскать на спине корзину по горам. Она станет хозяйкой в моем доме, Минка! – И он опять засмеялся. – Смотри, вон она идет! – указал он, вытянув руку: на дороге, со стороны Брдо, двигалась человеческая фигурка, светлая, озаренная солнцем, заливавшим всю опушку леса. – Мы приглашаем тебя на свадьбу, – сказал Кржишников.
Она подала ему руку и усмехнулась:
– Желаю вам счастья, любите друг друга… долго, всю жизнь…
И пошла.
– Минка! – окликнул он ее. – Минка!
Но Минка не оглянулась. Она слышала, как Кржишников третий раз задорно крикнул и как со всех сторон эхом отозвалось молодое, цветущее здоровьем счастье.
Раковчев Виктор рассвирепел, когда, проснувшись, не застал Минку в родной деревне. Он принялся вовсю ругать и ее и старую Яковчиху. Страсть и любовь бушевали в нем. Ругань он чередовал с жалобами и даже слезами. Примчавшись в поисках Яковчихи к Фабиянке, он за стаканом водки долго изливал перед женщинами свою злость и огорчение. Он пригрозил старой Яковчихе, что отправится в долину и она услышит потом о нем и ее дочери такое, что не придется ей по душе, конечно если Минка не одумается и вместе с ним не вернется обратно.
– Мне все равно, – Яковчиха пожала плечами, – меня тогда уже не будет. А вы живите, как знаете. Ну а если у тебя есть хоть капля ума, – прибавила она, – оставь Минку в покое. Поверь мне – не для тебя она. Я знаю ее – ведь я ее родила и вырастила.
Это разозлило Раковчева еще больше, и он сказал:
– Ты говоришь, Яковчиха, не для меня она? Знаю я в чем дело. Ты прочишь ее за этого непутевого забулдыгу-художника, за барина. Что, усадьба моя вам показалась бедной? Нет, мать: либо она будет моей, либо ничьей.
Он засмеялся так, что Яковчиху бросило в дрожь, а вместе с ней и Фабиянку, особенно после того, как он пригрозил:
– Мертвую ее никто не захочет взять в жены, а меня мертвого никто не накажет!
– Думай о своей Раковице, – спокойно ответила Яковчиха, – об усадьбе и доме. И вспомни еще о своем дяде, нашем приходском священнике. Что он на это скажет?
– Пусть говорит, что хочет. Какое мне до него дело! – И Виктор поспешил в долину – вдогонку за Минкой.
Дядя его, Петер Заврх, священник церковного прихода под Урбаном, жил тихо-мирно, если не считать его постоянных пререканий с художником Якой, который принялся за Мадонну, обещанную еще двадцать лет назад. Видимо, молодая Яковчиха вконец заморочила Якобу голову, потому что на полотне вместо матери божьей оказалась эта самая Яковчиха, и стояла она не на облаках, а среди черешневого цвета. А в ангелах, которые должны сопровождать деву Марию на небо, священник без труда узнал девушек из своего прихода, – тех, что работали на фабрике в долине или еще ходили здесь с корзиной за плечами. Несмотря на споры, вызванные разительным сходством небожителей с местными девушками и об искусстве вообще, оба они прилежно опоражнивали принадлежащий священнику бочонок, в который тот вынужден был уже несколько раз подливать доброго випавца[2].
Так уж случилось – ах, сколько сразу этих нелепых случайностей! – что именно в эти дни приехал к священнику погостить его «лучший друг», как его называл сам священник, Алеш Луканц.
Добрых три года Алеш партизанил в этих краях. Здешние люди и места запали ему в душу, и потому его сюда тянуло. Кроме того, первые послевоенные годы он находился на партийной работе в здешнем городе, в долине, и был в «политическом долгу» перед этим краем. Тогда-то ему и приглянулась подрастающая Минка, которая его, партизана, дважды спасла от смерти и из-за этого поморозила себе ноги.
«Я приеду за тобой, – сказал он ей, когда его переводили в другое место, – как только устроюсь и буду зарабатывать достаточно, чтобы нам хватало на жизнь вдвоем. Это будет скоро. Когда под Урбаном зацветут черешни!» – рассмеялся он отчего-то, и она, услышав его предложение, тоже тепло улыбнулась. Теперь он взял десять дней отпуска и два из них уже прожил у священника. Днем он осматривал знакомые места, навещал людей, а по вечерам дискутировал с Петером Заврхом и художником Якобом. Петер Заврх и оставшуюся часть ночи проводил в приятной беседе: его навещал старый, добрый словенский бог, живущий в этих горах, и они продолжали с ним дискуссию с того самого места, где прерывался разговор с партийным активистом и художником, потому что высокочтимый бог тоже страдал бессонницей и по-стариковски не прочь был поболтать.
Петер Заврх мог бы пребывать и дальше в этом блаженном спокойствии, не подозревая, что его племянник проматывает свое добро – ведь новости приходят в горы с еще большим запозданием, чем весна. Но когда эта неприятная новость в базарный день повстречалась с торговкой-разносчицей Катрой, стало казаться, будто неуклюжая баба невзначай засунула ее в свою красивую плетеную корзину вместе с другими товарами, купленными ею в городе для деревенских женщин. Мимоходом она предлагала эту новость каждому встречному, выложила она ее и Фабиянке – за стаканчик водки, затем поспешила прямо к священнику. Была уже ночь, и кухарка священника – его сестра Мета – улеглась спать пораньше, разозлившись на брата за то, что он транжирит добро со своими непутевыми гостями. Свет горел только в комнате священника, где кутили мужчины. Хотя дело касалось племянника хозяина, войти к преподобному отцу Катра все же не решилась. Целую неделю Раковчев Виктор тратил в городе деньги с Яковчевой Минкой, попросту говоря, он покупал ей приданое, в намерении все это перевезти в Раковицу, когда девушка решится отправиться с ним в этот путь. Таким образом, у его дядюшки было достаточно времени, чтобы вместе с бывшим партизаном Алешем сопоставить мечты военных лет с современной действительностью, пререкаясь попутно с художником Якобом, а по ночам спокойно продолжать дискуссию с высокочтимым господом богом. А поскольку Катра, «всекрестьянская коллективизация», как ее окрестил художник Яка, сжалилась над стариком, промолчала и в эту ночь – по правде сказать, скорее, из желания сбыть принесенную новость подороже, – Петер Заврх наутро совершенно спокойно отслужил службу господню. Переодевшись в ризнице, он вышел из церкви и остановился у ее восточной стены, словно в раздумье, чем бы заняться дальше. Взгляд его водянистых глаз с воспаленными веками устремился на раскинувшуюся внизу долину, которая отсюда была видна как на ладони: гигантскими ступенями спускались вниз пересеченные расщелинами крутые отроги гор —
ПЫШНО ЦВЕТУЩИЙ ЧЕРЕШНЕВЫЙ САД,
озаренный золотым огнем утреннего солнца, едва поднявшегося над долиной. Солнце светило снизу вверх, словно только что вышло из недр земли. В долине – часах в двух ходьбы отсюда – еще лежал белесоватый туман: леса, широкие пятна лугов, тонкие ожерелья пестрых клочков обработанной земли, деревни с белыми стенами домов и красными крышами – все казалось мягким и теплым, словно окутанным бархатом. Небо над Урбаном было ясным, подобным яркому шелку. Над миром разливался чистый, прозрачный солнечный свет. Каждое утро, когда Петер Заврх, выйдя из церкви, останавливался здесь, его приветствовала величественная песнь этого многоцветья и самого солнца; еще более торжественным гимном звенели ручьи и речушки. Звуки эти мешались с воркованием диких голубей, подобным бренчанью слишком туго натянутой струны контрабаса, и с кукованием кукушек, – казалось, кто-то под монотонное журчание ручьев ударял по клавишам рояля. Две сойки, орущие где-то поблизости, ничуть не портили этот величественный хорал.
Священник Петер, зрение которого, несмотря на припухлость век, было еще хорошим, охватил взглядом всю эту лестницу от вершины Урбана до самого низа – весь этот пышно цветущий черешневый сад – с полянами, лугами и полосками возделанной земли, откосы, засаженные черешней, и крутые склоны расщелин, поросшие буковыми, еловыми, сосновыми и лиственничными лесами. Петеру иногда казалось, что ступени эти сохранились с того давнего времени, когда в горах жили великаны, по этой лестнице они спускались в долину. Стоило ему слегка прищурить глаза, вся эта круто спадающая вниз котловина превращалась в сплошной сад. «Мой сад, – думал он и сразу же поправлял себя: – И господа бога тоже, того, что приходит по ночам ко мне на беседу, а утром, верно, и сам не прочь постоять здесь и порадоваться, глядя на всю эту красоту, какой не сыскать больше нигде на свете».
Он скорее почувствовал, чем увидел, что рядом появилась длинная тень его сегодняшнего церковного служки, который закурил сигарету и так сердито швырнул погасшую спичку, что она пролетела мимо священника, казалось, служка желал напомнить ему о себе и о своей злости. Приметив его жест, священник сказал:
– Ты, Яка, сделал богу угодное дело. Думаю, он смилуется над тобой, хотя ты давно уже его отверг и забыл.
Новый церковный служка поморщился, размял сигарету пальцами и ответил язвительно:
– Оба мы стали совершеннолетними, достойно расстались и, не задевая друг друга, шагаем к социализму каждый своей дорогой.
Священник не рассердился на него за насмешку; он сказал просто, как отец ребенку:
– Все равно – сегодняшняя служба тебе зачтется. – И стал оправдываться: – Мой служка заболел, второго нет дома, звонарю нужно напилить дров, а от крестьян нельзя требовать, чтобы они знали латынь, не так ли?
– Пусть они покрепче держатся за свое родное горьянское наречие, – пробормотал Яка, – пока мы не доросли до какого-нибудь интернационального языка и культуры.
– Вот именно! – усмехнулся священник в ответ на его реплику. – А самому мне негоже брать во время мессы книги, наливать вино и воду, словно какая-нибудь прачка, и, кроме того, еще звонить. Вот я и подумал – ты как раз тут и, наверно, с детства еще кое-что помнишь. Знания, необходимые церковному служке, все же остались при тебе, раз уж ты не захотел стать священником. И вправду! – Петер слегка обернулся, словно собираясь своего прилежного служку похлопать по плечу. – Ты неплохо справился с делом, даже вспомнил молитвы. Богу, должно быть, было очень приятно, когда он в это время на тебя поглядывал. Ну, с чего бы вам ненавидеть друг друга!
Скорчив страшную рожу, Яка сказал вызывающе:
– Значит, говоришь, бог зашел в церковь послушать мессу? Я то и дело оглядывал церковь. Кроме старых баб на скамейках, я и впрямь приметил одного мужика с седой бородой. Он сидел совсем отдельно, сам по себе. Ручаюсь, это он ночью был у тебя. И вы оба, мучась бессонницей, продолжили разговор с того самого места, где вечером ты остановился, споря с этим миссионером народной власти, Алешем Луканцем. Из уважения к тебе твой бог остался и на мессу. Думаю, ему теперь тоже некуда спешить.
– Нет, он не спешил, – ответил Петер и блаженно улыбнулся, думая о своем боге. – Когда вы с Алешем отправились спать, я застал его у себя в комнате за столом – он листал «Воспоминания о годах партизанской борьбы». Я сел напротив него, и мы хорошо побеседовали…
– Скажи лучше, поругали народную власть, – сказал Яка.
– Ох нет! Мы просто рассуждали критично! Ругать? – И священник Петер добродушно усмехнулся. – Может быть, но только до известного предела, до известного предела, Якоб! Ты ошибаешься, если думаешь, будто он так уж против социализма и народной власти! Ему просто жаль, что его не берут с собой. Да и каждому на его месте станет обидно – ну, положим, ты уже в преклонном возрасте и всю жизнь делал свое дело, а тут тебя вдруг забудут…
– А чего он хочет? Духовного контроля? Вообще – духовное руководство? Культуру?
Петер ответил с усмешкой, будто говорил не всерьез:
– Души. – И сразу же перевел разговор на другое, словно не желая больше этого касаться: – А ты, я слышал, пробыл в здешних местах уже больше недели и все это время прилежно работал. Рисовал в Подлесе молодую Яковчиху, так мне сказали.
– Старую я уже рисовал и кончил. Она вот-вот умрет. Партизанская мать. Пятерых отдала родине, двоих – фабрикам.
И Яка невесело улыбнулся. Священник пристально взглянул на него и сказал:
– Ты рисовал и сватался, Яка, так мне говорили. Если ты еще способен на чистую, настоящую, прекрасную любовь, то думаю… – Водянистые глаза глядели на художника не мигая.
– Это зависит от обстоятельств, – ухмыльнулся Яка и вдруг решился на откровенность. – Мы встретились с ней пять лет назад: я приехал домой, она помогала мне по хозяйству. Тогда я вскружил ей голову и был таков. Теперь она хочет отплатить мне за это. А ведь я, по правде сказать, приехал за ней, дорогой Петер. – Умолкнув на минуту, он продолжал: – Сегодня я, старый козел, был у тебя за церковного служку! – сказал и рассмеялся. – А думал все о ней: пора бы уж ей позвать меня, чтобы вместе уехать. – Он посерьезнел, хотя все еще улыбался. – Знаешь, я по горло сыт бродяжничеством. Такая дорожка не приведет к настоящему искусству. Богема хороша в городе, в модных салонах, а я родился здесь, под Урбаном, где люди добывают хлеб, таская корзины за спиной или работая на фабрике. Не хочу я оставаться плохим художником – лучше носить за спиной корзину!
Петер Заврх не верил своим ушам. Он раскачивался всей верхней половиной туловища, как былинка на ветру. Услышав последние слова, не утерпел, чтобы не кольнуть своего любимца:
– Верно, праведный господь вовремя почувствовал, что уж лучше тебе быть плохим художником, чем плохим священником. Так ты по крайней мере никому не причинишь вреда.
Это не могло рассердить Яку – он ощущал внутреннее удовлетворение и покой, как человек, пришедший после долгих блужданий к заветной цели. Он с жаром воскликнул:
– Религия – это дань своему времени. Искусство – служение вечной красоте, вечному стремлению человека к доброму и прекрасному. Сознание это привело меня сюда, домой, поэтому, Петер, я и собираюсь жениться на молодой Яковчихе. Родной край и она только и могут меня спасти! – Он говорил взволнованно, живо, радостно, словно писал залитый солнцем пейзаж. – Она приехала, чтобы посмотреть, как цветут под Урбаном черешни, и повидаться с умирающей матерью. Когда черешни поспеют, мы приедем к тебе в гости. Конечно, если ты пожелаешь ее принять.
Петер Заврх собрал в складки лоб, вдоль и поперек исчерченный морщинами, насупил седые косматые брови, под которыми живо блеснули водянистые глаза. Увядшая рука с сухой сморщенной кожей тряслась, когда он хотел расправить наброшенную на плечи черную пелерину, и он с трудом схватился за ее кайму.
– Кажется, я неплохо ее знаю, – сказал он дрожащим голосом. – Во время войны она была заодно с партизанами; ну, понятно, носилась от дома к дому, забегала и ко мне, когда приближались немцы. Детские годы провела в партизанских землянках. После войны работала на фабрике. Правда, там человеку хлеб достается капельку легче, чем здесь, в нищете, с вечной корзиной за спиной. Только фабрика убивает у человека сердце, душу. Во всяком случае, с нею так и случилось. Никчемная она, пропащая женщина – я так думаю, Яка. А ты говоришь – она тебя спасет! И вообще, разве женщина способна на это? Больно мне за тебя. Ты мне сегодня помог, и мы вместе достойно отслужили службу божию – только сердце мое было целиком предано господу, а ты во время святого обряда помышлял о женщине, о грехе, о прелюбодеянии…
Яка беспокойно тряхнул головой и зажег новую сигарету, едва докурив прежнюю. Он возразил, стремясь опровергнуть подобные мысли:
– Нет, Петер, нет! Я думал о грешнице, о ее внешней и внутренней красоте, а не о прелести греха, которой не существует. Священное писание вовсе не отвергает Магдалину, это церковь не пожелала причислить ее ни к блаженным, ни тем более к святым. А нынешняя жизнь не церковь и не священное писание, она и к грешникам снисходительна.
– Церковь имеет право отпускать грехи, – возразил Петер.
– Жизнь не отпускает грехи, а прощает их, – пояснил Яка и продолжал в порыве нахлынувшего чувства: – Сейчас, когда я пишу для тебя мадонну с ангелами, я много думаю об этих вещах. В любой католической семье висит в комнате какая-нибудь мадонна. А кем и чем были в жизни все эти мадонны?
– Ни одна из них не была Яковчихой! – перебил его священник Петер.
– Яковчихой не была, – согласился Яка. – Но многие из них и в подметки бы ей не годились!
– Ты ведь о матери божьей говоришь, Яка! – сказал священник Петер, бледный как мел.
– О Яковчихе, – ответил Яка, не обращая внимания на священника, который уже трясся от негодования. – Выполняя заказ достойного и уважаемого Петера Заврха, мне хотелось нарисовать подлинную современную словенскую мадонну, живущую где-то неподалеку от Урбана, – я, конечно, имею в виду модель. Ведь мадонны, которых мы знаем, были сплошь дворянками, аристократками. И даже те, словенские, которые у нас есть, – это все переодетые в народные костюмы люблянские барыни.
– Хватит! – закричал Петер, распаляясь гневом. – Матерь божия… ты что, спятил?
– Постой, Петер! Не нужно так. Современная мадонна, если она еще кому-то необходима и если она существует, должна быть родом из окрестностей Урбана – целую неделю она ходит с корзиной за плечами или работает на фабрике, куда нужно каждое утро два часа добираться пешком и в дождь и в метель.
Священник отмахивался от него рукой и морщился, желая прервать крамольные рассуждения. Но художник не сдавался. Наоборот, продолжал еще оживленнее.
– Ты боишься людских пересудов? Через сто лет никто не будет знать, что твоя мадонна – молодая Яковчиха. А кто тогда вспомнит, что окружающие мадонну ангелы – это самые красивые девушки из твоего прихода? Мне хочется отобразить красоту, которая заключена в этих девушках, а вовсе не прелесть греха. Я думаю, Петер, время не пощадит и твой Урбан.
– Перестань, Яка, ради бога! Ты с ума сошел! – опять замахал на него священник.
– Время, Петер, – торопился досказать художник, – идет своим чередом. Оно найдет в модных салонах новых девушек, этаких космополиток, разучившихся работать за станком, а тем более носить корзины за спиною – они будут способны лишь кокетничать с мужчинами, Мэрилин Монро и Джина Лоллобриджида скоро вытеснят всех мадонн на этом свете, и прежде всего девушек из окрестностей Урбана, дорога которых кончается пока лишь фабрикой. У тех женщин, Петер, нет души. Остались ноги, высокая грудь, гладкая кожа плеч, округлые руки с длинными пальцами и отполированными ногтями, миндалевидные глаза, волнующая походка – и ни капли души. А в Яковчихе есть и немало другого. Правда, она сбросила с плеч корзину и покинула фабрику, но в модные салоны она не попала; в ней отразилось наше время, которое ее сломило. Но она снова станет здоровой, вот увидишь…
Петер чуть не расплакался, сожалея о своем бывшем любимце, которому сам когда-то дал образование – разумеется, в надежде, что тот станет священником. Неожиданно он шагнул к художнику и, втянув носом воздух, сурово сказал:
– Ой, сдается мне, Яка, выхлебал ты натощак бочонок випавца, что стоял у меня в комнате, и сейчас ты совсем пьяный, или и впрямь тебя женщина впутала в грех, как наша праматерь Ева Адама? Болтаешь такие глупости, каких мне ни от кого не хотелось бы слышать, а тем более от тебя… Пойдем-ка завтракать, пока ты не изрек еще чего-нибудь почище. Моя «церковная кафедра и исповедальня» Мета, – священник усмехнулся, назвав сестру прозвищем, которое дал ей Яка, – полагаю, ждет нас уже с нетерпением, да и старый партизан тоже наверняка проголодался…
– В этом можно не сомневаться, – воскликнул художник. – Он не потребляет духовной пищи натощак, не то что мы с вами. Не той он закваски…
В эту минуту перед ними остановился пожилой человек, церковный сторож. Он сказал, что напилил и наколол дров на целую неделю, а сейчас идет звонить – умер Тоне Лебан, муж Малки Полянчевой, инвалид, которого повезут хоронить в долину. Священник Петер выслушал «доклад», все еще взволнованный разговором с художником Якобом, и, помолчав, согласился:








