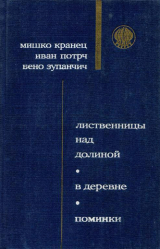
Текст книги "Лиственницы над долиной"
Автор книги: Мишко Кранец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
И правда, в этот момент от дома донеслось:
– Марта-а, Марта-а!
Это звал Виктор. Марта вздрогнула.
– Он меня зовет, – прошептала она, – пусти. И зачем тебе нужно было…
– Я же сказал тебе: жизнь – широкая дорога, на всех людей места хватит…
– Не нужно было меня спасать, – возразила она твердо.
– Тогда тебе нужно было сделать это раньше, – ответил он.
– Или придется сделать позже, – сказала она решительно, упрямо. У Якоба мороз по коже пошел.
– Ты сошла с ума! – сказал он.
– Все равно, – пробормотала она, – что ты в этом понимаешь?
В дверях сарая стоял молодой хозяин Раковицы, с недоумением уставившийся на Якоба, который держал за руку Марту.
– Чего это вы тут, словно молодая парочка?! – усмехнулся он.
Якоб стиснул зубы.
– Так оно и есть, – ответил он. – Она уходит со мной.
– У нас гости, – сказал Виктор Марте, – угости их, а потом ступай в комнату, наверх.
– Ладно, – шепнула она. И, спотыкаясь, поплелась к дому, маленькая, жалкая. Якоб шел следом за ней.
– Марта, – пьяный батрак Рок столкнулся с ней в сенях, – мне отказали от места. Давай уйдем вместе, и черт с ней, с Раковицей. Не дожидайся, пока тебя вышвырнут. Согласна? Найдем себе другого хозяина. А можешь и на фабрику поступить, ты ведь помоложе.
Марта посмотрела на него, оглянулась на вошедшего следом за ней хозяина и пошла в кухню, а Виктор направился в комнату. Яка поспешил наверх.
– Добрый вечер! – приветливо обратился он к маленькому человечку, тот должен был находиться здесь. Комнату заливал вечерний сумеречный свет, в котором вырисовывались очертания постели, шкафа. Он щелкнул выключателем. Бросил взгляд на постель, тогда там лежал ребенок. Улыбка исчезла с его лица. – Добрый вечер, – повторил он в замешательстве, обводя комнату взглядом и даже заглянув под кровать. Выпрямляясь, он почувствовал, как в нем словно что-то сломалось. Он вздрогнул, рот слегка приоткрылся, взгляд перебрал предметы в этой тесной, плохо обставленной комнатушке и устремился в бесконечность. И вдруг он подумал со странным ужасом, холодом, обдавшим сердце: «Я благословил ее руку, чтобы она это сделала. – Он хотел еще что-то обдумать, но не мог и только сказал себе тупо, одеревенело: – Не надо было мне спасать ее там, на гумне, не надо, я ведь не знаю, будет ли у меня возможность спасти ее еще раз». Его взгляд блуждал по комнате, как будто хотел вновь оживить ту страшную идиллию, которую видел здесь в пятницу.
Он не слышал, как за его спиной открылась дверь. Марта прислонилась к ней, словно не хотела выпускать художника из комнаты.
– Что ты тут ищешь? – спросила она настолько тихо, что сама не услышала себя и вынуждена была повторить свой вопрос, чтобы его услышал и художник.
– Где ребенок? – Спросил он так же тихо, как и она его. На ее лице не отражалось никаких чувств; зеленовато-бурые пятна по-прежнему покрывали его, а губы были сухие, потрескавшиеся. – Где ребенок, слышишь? – требовательно повторил Яка, взял ее за плечи и встряхнул. При этом он с ужасом подумал, что сейчас эта женщина могла бы быть мертвой и что, по сути дела, у него нет никаких прав на нее. Она ответила вопросом, сухо, холодно:
– Какой ребенок?
У Яки дрогнуло сердце.
– Как какой? – удивился он. Ему показалось, что на ее покрытом пятнами лице, в ее неподвижных глазах появилось что-то непонятное, непостижимое.
Спокойно и холодно она повторила свой вопрос:
– Какой ребенок, художник?
И опять что-то оборвалось в душе у Яки. Недоуменно моргая, он смотрел на нее, смотрел на ее потрескавшиеся губы, в ее стеклянные глаза, смотрел в полном смятении, не понимая, что скрывается в них: отблеск сатанинского безумья или ангельская невинность. Неожиданно он осознал, его словно осенило, что Марта – самый обычный, несчастный и бессильный человек. И это открытие потрясло его. Он пошевелился, кивнул:
– И правда, Марта, какой ребенок? – Якоб прикрыл рукою лицо. Подошел к окну. Загляделся на котловину, на лиственницы на той стороне. Душа его беззвучно плакала, и даже ирония не спешила помочь ему.
– Иди! – сказал он ей, – собирайся. Рок уходит отсюда. Мне хочется побыть одному, – попросил он. Она не уходила. Ждала чего-то, все так же прислонившись к двери. – Иди, Марта, – жалобно повторил художник, – мне, правда, хочется побыть одному. Знаешь, я устал за эти три дня. Дорога такая утомительная…
Ее губы прошелестели:
– Я уйду в долину. Сегодня же вечером.
– Иди, Рок тоже уходит. Может, вы вместе…
– До долины пойдем вместе, – ответила она. – А там расстанемся. – Она подошла к нему, прикоснулась так, словно хотела его погладить. Он смотрел в окно, на котловину. – Почему ты не дал мне умереть? – спросила она, стоя у него за спиной.
Поскольку он не ответил на ее вопрос, она повторила сто более требовательно и добавила:
– Теперь все было бы хорошо.
– Я не люблю мертвых, – растерянно ответил он. И пояснил, обретя свой прежний юмор: – Знаешь, живых легче рисовать.
Она кивнула, словно соглашаясь, хотя понимала, что это не ответ.
– Уходи, – сказал он. – Уходи, пока я не обернулся.
– А почему ты не оборачиваешься? – спросила она. – Не хочешь посмотреть мне в лицо.
– Твое лицо запечатлелось у меня в глубине души. Навсегда. Пусть таким и останется. Может, когда-нибудь я захочу его нарисовать…
Она снова понимающе кивнула. С трудом выдавила из себя:
– Я не смогу жить без Раковицы, не сумею.
– Сможешь, Марта, – возразил он. – Человечество живет без Раковицы, миллионы, миллиарды людей. Без этого можно жить, поверь мне.
– А я не смогу. Не надо было меня спасать. Теперь мне придется скитаться по белу свету.
– Иди, Марта, посмотри на белый свет, он не так уж мал.
– Мне некуда идти, кроме Раковицы.
– Марта-а-а! – сердито кричал Виктор снизу, из сеней. – Куда ты запропастилась, черт побери. Сколько тебя звать?!
Она встрепенулась. Сказала покорная, словно животное:
– Меня зовут.
Он все-таки обернулся, взял ее за руку, посмотрел в глаза и спросил:
– Ты уйдешь отсюда? – Она не шевельнулась, он видел, что она колеблется. – Уйдешь? – требовательно повторил он.
– Уйду, прямо в долину, как ты сказал, – прошептала она.
Он вышел вслед за ней.
– Ты идешь или остаешься? – закричал Рок, когда она вошла в сени. Она замедлила шаги, но не обернулась.
– Иду, Рок, – сказала она и вошла в комнату.
Не записанный в земельных книгах хозяин Раковицы Петер Заврх сидел за кленовым столом, похожий на прусского бога, изображение которого висело на стене, с той только разницей, что Петер Заврх был совсем седой, а бог – в расцвете сил. С сигаретой в зубах в комнату вошел Виктор и остановился, прислонившись к дверному косяку. Алеш стоял возле окна со стаканом водки в руке. К закуске никто не притронулся. Марта выпрямилась перед столом с таким видом, словно за ним сидели судьи. Она и правда стояла перед судьями и чувствовала это яснее, чем кто-либо. Мучительное молчание прервал батрак Рок, который, видимо, успел хлебнуть водки:
– Марта, скажи – ждать мне тебя или не ждать? – И добавил: – Свои вещи я уже собрал, давай и ты собирайся, и махнем-ка мы в долину.
Марта растерялась, робко оглянулась на двери, потом на людей в комнате и наконец встретилась взглядом с Якобом.
– Подожди ее, Рок, – вместо нее ответил художник, – она только закончит свое дело.
– Подожди, – повторила за Якобом Марта и растерянно посмотрела на Алеша и Петера Заврха. – Подожди меня.
– Подожду, только ты не больно задерживайся: до долины далеко, а ночь близко. – И ушел.
Петер Заврх наморщил лоб, нахмурил брови, явно недовольный таким поворотом дела. Виктор тоже был обеспокоен. Марта снова оглянулась на художника. Тот сказал, обращаясь ко всем, и в первую очередь к священнику:
– Дорогой Петер, говорить сейчас излишне. Марта уходит из дому. Остаться вы ее не заставите, а осуждать ее не за что.
Поскольку Рока не было в комнате, Петер Заврх мог говорить открыто:
– Никуда ты не пойдешь. – Он обращался только к Марте, словно не замечая художника. – И Рок никуда не пойдет. Вы поженитесь и останетесь в усадьбе. Построите себе дом. На осыпях. Эта земля будет ваша.
Марта догадалась о причине такой щедрости. Яка тем более. А священник продолжал торопливо, правда, немного понизив голос:
– Нам надо договориться о ребенке.
Марта не шевельнулась, а Яка бросил в мучительную тишину, на мгновение заполнившую комнату:
– О каком ребенке? О чьем ребенке?
Петер Заврх побледнел, разозлившись на художника, столь бесстыдно вмешивающегося в раковицкие дела, и сказал:
– Знаешь что, Якоб, об этом будем разговаривать только мы, раковицкие, а ты иди.
– А я не уйду, – заупрямился Якоб, который разгадал, к чему клонит священник. И Петер Заврх в свою очередь понял, что так ничего не добьется; не говоря ни слова, он встал, подошел к женщине и более спокойно спросил:
– Что ты намерена делать с ребенком?
– С каким ребенком? – снова удивился художник Яка. Алеш испуганно поднял глаза, он ничего не понимал, как во сне.
Петер Заврх, не в силах сдерживать злость на художника, воскликнул:
– С ее, раковицким!
А Яка подошел к священнику, нагнулся к самому его лицу и спросил спокойно и ясно:
– Ты что, бредишь, Петер? Говоришь о ребенке, а ведь никакого ребенка не было! Алеш! – Яка обратился к активисту, побелевшему, как стена, – ты видел какого-нибудь ребенка? Скажи, ты его видел?
Алеш Луканц покачивался, он боялся, что упадет. Он понял, слишком хорошо понял, что случилось. К счастью, Яка подошел к нему, дотронулся до него рукой и тихо спросил:
– Алеш, скажи откровенно: ты видел какого-либо ребенка?
Луканц все еще покачивался, не спуская глаз с Марты. Тогда Виктор отошел от двери, приблизился к женщине, повернул ее к себе и настойчиво спросил:
– Где ребенок? Что с ним?
– Люди, – воскликнул Алеш и подошел к Марте, – да оставьте вы ее в покое. Ведь никакого ребенка не было, правда не было!
Петер Заврх сопел, словно паровоз, который хочет тронуться с места и не может. И вдруг крикнул дрожащим голосом:
– Что с ребенком, несчастная? – и вытянул руки, как будто хотел схватить ее. – Я тебя спрашиваю, а не этого забулдыгу.
Марта пришла в замешательство, бросила беспомощный взгляд на Алеша, потом на Якоба и сказала спокойно, сдержанно, чуть дрогнувшим голосом:
– Не было, никакого ребенка не было, дядюшка! – и, поколебавшись, добавила: – Никакой ребенок не будет помехой Раковице. – Она закрыла лицо руками. Петер Заврх, шатаясь, доплелся до стола и почти рухнул на него. Якоб положил руки Марте на плечи. Она опустила глаза, потом повернулась к нему: – Ты сказал – прямо в долину?
– Прямо в долину. Яка Эрбежник тоже отправится туда, завтра. И там попытается начать все сначала. Здесь ничего не получится.
– Спасибо, – шепнула она сухими губами. И пошла прочь. Виктор кинулся за ней, но художник схватил его за руку:
– Иди к дяде. И думай о своей Раковице. Марта тебе отслужила. Не мешай ей уйти. – И подтолкнул его к Петеру Заврху, который все еще грудью лежал на столе.
– Зачем ты это сделал? – Алеш тряхнул художника. Тот посмотрел на него блуждающим взглядом, потом ответил, скорее себе, чем ему:
– Меня мучает жажда. Но ее не утолить ни водой, ни вином. Может быть, самой обыкновенной, тихой жизнью, которая никому не будет помехой. Как ты считаешь, Алеш, не пора ли нам в путь, попрощаться друг с другом у долины и отправиться каждому в свою сторону? Надеюсь, местный бог Петера Заврха не готовит нам новых ловушек. По правде говоря, хватит с меня этого, тем более что на сей раз я ни в чем не виноват.
– Ты страшный человек, Якоб, – сказал Алеш.
– Не я, а жизнь, наша жизнь, которая с радостью стала бы простой, будничной, да не может.
Священник оторвался от стола. Посмотрел на окружающих невидящим взглядом. Потом, узнав Алеша и Яку, сказал тихо, изменившимся голосом:
– Я иду к Урбану. Если нам по пути, можем пойти вместе.
– Мне нужно там забрать свои вещи, – согласился художник.
– А я переночую и утром пойду в город, – сообщил Алеш.
– И пусть весенний вечер успокоит наши сердца, которые после долгого перерыва вновь столкнулись с жизнью и не смогли совладать с нею, – вздохнул художник и попытался улыбнуться, однако на этот раз не сумел. Потерев лоб, взялся за бутылку. Потом признался: —
ЖИЗНЬ СИЛЬНА,
сильнее, чем я думал. Ни политика, ни церковь не могут стать с ней вровень, и даже искусство не в состоянии постичь ее до самых последних глубин. Иногда мы легкомысленно играем своей жизнью и жизнью других людей… И ухожу отсюда. Предамся иллюзиям и рисовать буду одни иллюзии – несуществующие пейзажи, несуществующего человека, несуществующие миры. Вот только боюсь, что на этом искусство кончается, но не начинается. Политика и церковь, обе умеют себе так или иначе помочь. А в распоряжении у искусства всего лишь несколько жалких красок, которыми не отразить всей действительности. В конце концов, нужна ли кому-нибудь сегодня наша действительность? – Он потянулся за бутылкой, выпил, потом отдал бутылку Алешу. Круто повернувшись, столкнулся с Виктором, который бесцельно стоял посреди комнаты и курил. – Раковица, – обратился к нему художник, – останется святыней, неприкосновенной, какой была до сих пор. Завтра солнце вновь засияет над прекрасной усадьбой. И тот, кто будет проходить наверху, мимо лиственниц, никогда не узнает о том, что здесь произошло. А впрочем, я ведь сам сказал, что здесь ничего не произошло. Так тому и быть. – И он направился к выходу.
Дверь в комнату отворилась, и на пороге, словно привидение, появилась фигурка Марты.
– Скотина накормлена, – сообщила она. – Надо только запереть двери. А ужина я не приготовила – не знала, что вы вернетесь… Ну, прощайте.
Все молча смотрели на нее.
– Марта! – Виктор первым нарушил молчание.
– Я тебе сказал: прямо в долину, – напомнил ей Яка.
– Марта, – снова позвал ее Виктор и шагнул к ней.
– Прямо в долину, – повторила она за художником.
– В долину, – подтвердил он и добавил: – Пусть тебе посчастливится там больше, чем здесь.
Она вышла и закрыла за собой дверь. В окно было видно, как она вместе с батраком Роком идет по тропинке, наверх, к лиственницам. Рок тащил на спине большой тюк. У Марты в руках было две корзинки. Их фигуры вскоре утонули во мраке, и только платок Марты еще долго мелькал вдали.
Петер Заврх нашел свою сумку и палку, надел пелерину и шляпу, остановился в двух шагах от племянника:
– Я пошлю к тебе тетю, пусть поможет, пока ты – так или иначе – не найдешь себе хозяйку. Только имей в виду: тебе нужна женщина, которая еще не разучилась носить за спиной корзину – в Раковице без этого нельзя. Ну пошли, друзья, дорога впереди длинная, а я устал.
– Душа у тебя устала, – пробормотал художник. И обратился к Виктору: – А прусского бога ты все-таки сними со стены. Трудно жить в доме, где и бог и хозяин не знают жалости. – Он последовал за Петером Заврхом, за ними вышел и Алеш. Выйдя из дома, Петер вдруг остановился. Яка заметил, что тот разглядывает землю под окном, словно что-то ищет; наклонившись к священнику, Яка не утерпел: – В Раковице нет сада под окнами, он внизу.
Петер Заврх бросил на Яку короткий недоверчивый взгляд, потом опустил глаза и, не оборачиваясь, быстро зашагал по тропинке, круто поднимавшейся в гору. Они поспешали за ним, пока не оказались на проезжей дороге, ведущей вдоль лиственничного леса к Урбану.
– Я устал, – заворчал художник. – Похоже, я действительно постарел, не зря сказала мне Минка. Однако три дня назад я не чувствовал ни возраста, ни усталости. С каждым днем я словно старел на десять лет и теперь мне вот-вот перевалит за семьдесят, проклятье. А душе – никак не меньше тысячи лет. Наш священник Петер Заврх тоже постарел, я видел, как годы наползают на него, словно на монаха, заслушавшегося пением райской птицы. Только то была вовсе не райская птица, а самая обыкновенная жизнь, печальная и отверженная… С ним случилось самое худшее из всего, что могло случиться, – ему пришлось отказаться от Раковицы…
– От Раковицы? Почему отказаться? – Петер Заврх остановился, словно на распутье.
Вместо объяснения художник негромко продолжал:
– Тебе нужно было от нее отказаться по крайней мере сорок лет назад. Во имя идеалов приходится отказываться от тысячи дорогих для сердца вещей. Вернись к Урбану. И никогда не вспоминай эти три дня. И из дому больше никуда не ходи. Смотри на жизнь с вершины, от Урбана – оттуда все кажется таким прекрасным, в белой дымке тумана, пронизанное солнечными лучами. Стоит тебе окунуться в жизнь, как ты начинаешь маяться и в конце концов ни на что не годишься.
Он шел вслед за священником по каменистой дороге, которая пролегала среди зарослей вереска и кустарника. На небе зажигались звезды, из леса тянуло прохладой, ласково касавшейся их разгоряченных лиц. Какая-то птица вспорхнула с дерева и тенью промелькнула над ближним лугом. Художник остановился и прислушался.
– Тебе не кажется, что кто-то заплакал? – вполголоса спросил он. Петер Заврх и Алеш замерли, вслушиваясь в приближающуюся ночь. Петер слышал только беспокойные удары своего сердца. Побледнев, он спросил:
– Кто заплакал?
– Ребенок, – прошептал художник.
– Где? – еще тише спросил священник.
– В лесу, на осыпях, на лугах, в садах.
Священник молча зашагал дальше, облизывая пересохшие губы и вытирая вспотевший лоб. Художник, догоняя его, не переставал говорить:
– И не один, а два, десять, тысяча… В городе, на клумбе под окном, на грядках в уединенной усадьбе, в лесу, в реке. Ты не слышал, Алеш? Прислушайся, – Яка остановился, напряженно вслушиваясь в темноту, прислушивался и Алеш, в то время как священник торопился дальше. – Может быть, – продолжал Яка, догнав священника, – этот плач прозвучал только в моем сердце? Кто-то звал меня на помощь…
– И обязательно тебя, – буркнул священник Петер.
– Ты бредишь, художник, – пробормотал Алеш; однако и он был взволнован.
– Нет, – заупрямился Яка, – он зовет землю, дом, Раковицу, тебя и твою политику, Алеш, Петера с его верой, меня и мое искусство – совесть. А кого же еще ему звать? Куда ему податься, как не к нам? – Художник замолчал; казалось, он наконец унялся. Но он молчал ровно столько, чтобы перевести дыхание, а потом заговорил еще беспощаднее: – Мне почему-то все думается, что в смерти раковицкого ребенка виноваты мы.
– Не болтай, – не оборачиваясь, возразил ему священник. – Ведь ты же сам сказал, что его не было.
– Сказал, – согласился художник, и опять заговорил, да с такой страстью, что его невозможно было уже остановить: – Разумеется, его не было – ни в Раковице, ни в городе. И ни в каких книгах – ни в церковных ни в метрических – не будет записано его простое, обычное имя – человек…
– Ты не можешь идти молча? – с болью в голосе упрекнул его священник.
– И все же он будет, – говорил художник неукротимо, с вызовом, может оттого, что и у него надсадно ныла душа, лишенная веры и цели. – Он будет приходить в райком, то бишь – в политику, будет приходить к тебе, Петер, сядет под колокольней и станет ждать, когда ты пойдешь к мессе или на исповедь, и в искусство тоже будет приходить, если оно еще не совсем оглохло. Я рисовал тебе для алтаря Марию и ангелов, Петер. А должен был бы нарисовать Марту с ребенком, которого уже нет, или Минку, но не среди цветущих черешен, а там, в городе, у клумбы, где закопан… Оглянись, Алеш, тебе не кажется, что кто-то идет за нами, все время на одном и том же расстоянии, как будто не хочет ни обогнать, ни догнать нас…
– Никого там нет, – не оглянувшись, ответил Алеш.
– Но ведь ты даже не оглянулся.
– Не оглянулся, – подтвердил Алеш, – и не собираюсь.
– Не надо оглядываться, – вмешался в разговор Петер Заврх, – может, это бог решил меня навестить. Его ждать не надо – он вашей братии не любит и не ответит, даже если вы его позовете.
– Мы не будем ни ждать, ни звать его, – заявил Яка. – Каждый по-своему попытается прилепиться к жизни: Алеш – в политике, я – в искусстве. Теперь, когда заложены основы индустриального общества, – художник усмехнулся, – придется вам, Алеш, обратить внимание на тысячи мелочей в нашей обыденной жизни. Я склонюсь к человеку и, если уж не смогу ничего иного, платочком вытру ему слезы с лица. – И совсем тихо, словно обращаясь к самому себе, сказал: – Завтра я покину Урбан. Черешни, того и гляди, отцветут. Мне кажется, я бродяжничал здесь не меньше года.
– Если мой служка еще не выздоровел, – сказал священник Петер, – а второй еще не вернулся, завтра ты понесешь к алтарю книгу.
Яка лишился речи. Хрипло, негромко, но вызывающе засмеялся.
– Я пойду с Алешем в долину. Вместе… до первого перекрестка.
– Будешь у меня за служку, – решил священник, – а уж потом пойдешь в долину. Надеюсь, не в райком?
– Для искусства в райкоме еще нет канцелярий, – ответил Яка. – А мое место – в гуще жизни.
– Не слишком ли поздно ты вспомнил о том, где твое место? – спросил Петер Заврх.
– Всю свою жизнь ты отпускал грехи сквозь решетку исповедальни, – той же монетой вернул ему художник. – Сдается мне, что во время наших скитаний все стало вверх дном только потому, что ты прихватил с собой не эту решетку, а сумку с мясом и наливкой… Нет, не поздно, не поздно, даже если нарисую всего одну картину, – решительно заявил Яка.
В этот момент зазвонил церковный колокол. Его звон прорывался сквозь мрак, волнами катился над горами, над ущельями. Петер Заврх снял шляпу и стал читать молитву. Внезапно художник тихонько запел, как будто в этот горький ночной час хотел оживить что-то дорогое и близкое:
Я прошлым летом мимо шел,
В окошке куст гвоздики цвел…
Не допев до конца, он спросил Алеша еле слышно, чтобы не мешать священнику:
– Ты говорил, она прибежала босая, по колено в снегу?
– Босая, по колено в снегу… Дважды спасла мне жизнь.
Художник кивнул и сказал:
– Она любит прошлое, любит воспоминания о нем. Ты будешь ждать ее, Алеш?
– Буду.
– Долго, Алеш?
– Если понадобится, до самой смерти. Каждый год буду приходить на Урбан. Когда зацветут черешни и когда созреют. Ведь вернется же она.
– Вернется, обязательно вернется, – подтвердил художник, а потом вздохнул: – Мне она сказала, что я слишком стар для нее. Кажется, за эти дни я действительно постарел. Может, не столько для нее, сколько для жизни вообще. – И снова тихо запел:
Когда я нынче мимо шел,
Гвоздики куст уже отцвел…
Когда это было? В прошлом году? В нынешнем? Вчера? И кто шел мимо? Мимо чего? Куда? Кто это шагает в ночи? Шагает к Урбану, навстречу жизни? Петер Заврх со шляпой в руке, потому что колокол все еще звонит? Или художник Яка Эрбежник? Тот самый, который перепутал все на свете? Или бывший партизан Алеш Луканц, когда-то мечтавший о прекрасной, светлой жизни для других, и до сих пор не получивший для себя ничего? Или это старый словенский бог здешних гор, который, страдая бессонницей, направляется к Петеру Заврху?
Оставим догадки. Если это седовласый священник Петер Заврх – пусть преклонит он колена перед той жизнью, что неожиданно ворвалась в его урбанское уединение, где до сих пор «исповедальня и церковная кафедра» – Мета и «всекрестьянская коллективизация» – Катра сообщали ему сплетни о делах, которые он порицал в своих воскресных проповедях как грех, не ведая настоящей жизни. За время трехдневного путешествия он узнал об этой жизни больше, чем за все прожитые им десятилетия. Может быть, теперь он будет снисходительнее к этой жизни, коли и впрямь вырвал из своего сердца кулацкую жадность?
Если это активист Алеш Луканц – пусть он сравнит мечты прежних лет с действительностью и поймет, что жизнь надо основательно подтолкнуть вперед. А Луканц как-никак из тех людей, кто может это сделать; в окрестностях Урбана никто не сомневается ни в его желании, ни в его честности.
Если это художник Яка – пусть осознает, что жизнь в искусстве нужно начать снова, с человека, потому что только оттуда начинается настоящая дорога в искусство.
Если же это сам старый словенский бог, что обитает в горах возле Урбана, – пусть себе отправляется на беседу к священнику Заврху. Может быть, Петер отважится рассказать ему правду о жизни, которая у них обоих выскользнула из рук.
Или это батрак Рок и служанка Марта, шагающие навстречу новой жизни? Все уходят. Почему бы и для них не найтись месту в долине?
Или это Полянчева и слепой инвалид, которые везут тележку к дому над Подлесой, и со стороны может показаться, что на этой тележке – их маленькое счастье, их новая жизнь?
Или это молодая Яковчиха, которая вернулась к Урбану посмотреть, не созрели ли черешни и не ждет ли ее кто-нибудь из тех, кто ее любил?
Или это старая Яковчиха возвращается в свой родной дом, чтобы провести ночь наедине с похоронками и своими воспоминаниями?
Кто это поет? И какую песню? Художник свое «Я прошлым летом мимо шел…»? Или это шумят ручьи? Или Петер Заврх разговаривает сам с собой? Или шепчутся Марта и Рок? Или Малка и слепой инвалид рассуждают о лампадке и о маленьком счастье, к которому они так стремятся? Чей это голос раздается в ночи? Может быть, это дети, не записанные ни в церковных, ни в метрических книгах?
Или это голос нашего беспокойного раненого сердца?
Если это он тревожит нас? Иди и прикоснись к этой неустроенной человеческой жизни, которая все еще так нуждается в нашей доброте. Шумят ручьи вокруг Урбана, зашептались ветви лиственниц, вспорхнула испуганная птица, старая Яковчиха позвала своих детей, и дрогнуло наше сердце, повелевая нам прислушаться к жизни.
Прислушаемся к ней в этой тихой ночи, под тоненький перезвон далеких звезд и журчание ручьев, прислушаемся, а потом чуть постоим на распутье, тихо и одиноко, как стоят
ЛИСТВЕННИЦЫ НАД ДОЛИНОЙ.
notes
Примечания
1
Мирко Рупел (1900—1963) – словенский филолог, занимавшийся проблемами орфографии и орфоэпии. – Здесь и далее примечания переводчиков.
2
Сорт вина.
3
Головной убор югославских партизан типа пилотки.
4
Франце Прешерн (1800—1849) – крупнейший словенский поэт, роль которого в развитии словенской литературы можно сравнить с ролью Пушкина в русской. Здесь перефразируются слова его стихотворения «Здравица».
5
Мать бандита – свинья, свинья! (нем.)
6
Стрелять, стрелять, ты, старуха, стрелять… (нем.)
7
Стрелять, ты, старуха! Стрелять… Мать… (нем.)
8
Я, я стрелять, я, я, нет мать, я! (нем.)
9
Нет, мать должна стрелять, мать! (нем.)
10
Нет, ребенок, ребенок должен стрелять! (нем.)
11
Посмотри-ка, маленькая бандитка! (нем.)
12
Славься! (лат.)
13
Водка, настоянная на полыни.
14
Прочь! (греч.)








