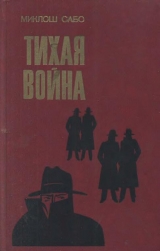
Текст книги "Тихая война"
Автор книги: Миклош Сабо
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЕШАЮЩЕЕ СУДЬБУ
На следующий день нас отправили на работу. Работа была нелегкой, но после столь долгого безделья она показалась нам даже приятной.
Близ Буды, высоко в лесистых горах Добогоке, строился санаторий. Мы копали там землю и за короткое время постигли все премудрости этого нехитрого труда, научились не только рыть и возить тачками камни и землю, но и отчитываться за вынутые кубометры. За проделанную работу нам платили сдельно, точно так же как вольнонаемным рабочим строительного треста. Правда, из зарплаты высчитывали стоимость нашего содержания, а поскольку квалификация у нас была не слишком высока, денег оставалось не так много, но вполне достаточно, чтобы купить себе сигареты, мыло, зубной порошок и кое-что из продуктов, если мы того желали. По крайней мере, можно было избавить родственников и близких от этих забот.
Кроме земляных работ мы занимались бетонированием дороги. Теперь многие из нас умели замешивать и заливать бетон, дробить камни, выкладывать полотно дороги и даже асфальтировать ее.
Недели через две после прибытия в лагерь многое переменилось. На колючей проволоке сушилось наше выстиранное бельишко, мы мирно беседовали с охранниками, а по воскресеньям даже принимали посетителей. Надо отдать должное нашим стражам – они относились к нам гораздо человечнее, чем тюремные надзиратели в бывшем монастыре. Правда, работали мы тоже на совесть. Те, кто были помоложе, трудились и за себя, и за стариков. Чего можно было требовать, например, от дядюшки Йене Шандора, известного всему Пешту сочинителя эстрадных песенок и романсов, которому перевалило за шестьдесят? Сидел он, разумеется, не за песенки, а за другие дела – при Хорти занимал высокий пост в министерстве внутренних дел.
Примерно спустя месяц после начала работы на стройке нас решило проверить высокое начальство. Этому визиту предшествовали, как всегда, беготня, суета и наведение порядка в лагере.
Но вот начальство прибыло. Это был мой старый знакомый Дьюла Принц, теперь уже полковник. Он обошел лагерь, осмотрел строительную площадку, побеседовал с охранниками, затем с прорабом из треста, строившего санаторий. Из заключенных он удостоил своим вниманием меня одного.
Я, голый по пояс и черный от солнца, орудовал пневматическим отбойным молотком. В отличие от других мне нравилась эта работа. Я с наслаждением вонзал в глыбу мерно пульсирующий резец молотка, налегал на него грудью и наблюдал, как крошится под острием твердая скальная порода. Принц стоял и смотрел на меня, а потом спросил:
– Как поживаете, Сабо?
Выключив отбойный молоток, я распрямился и, приняв уставную для заключенного стойку, бодро ответил:
– Благодарю вас, господин полковник, все прекрасно.
– Мне сказали, вы хорошо работаете.
– Не люблю сидеть без дела.
– Правильно, побездельничали вы и без того достаточно. Надеюсь, понимаете, что вы, как осужденный, подлежащий содержанию под строгим надзором, не должны были бы находиться здесь?
«Ну вот, конец всему! – пронзила меня тревожная мысль. – Кончились золотые деньки, отошлют меня обратно в тюрьму. Но ведь для полковника не новость, что я здесь, он лично присутствовал при том, как меня в тюрьме назвали в числе направляемых на стройку».
Я молча смотрел на высокое начальство.
– Знаете, это я взял на себя ответственность за вас. Хотел, чтобы вы немного подправили свое пошатнувшееся здоровье. Имейте в виду, что, если вы и здесь выкинете какой-то номер, отвечать придется мне…
Я попытался что-то сказать, но Принц жестом остановил меня:
– Я принял все меры. Охрана предупреждена о том, чтобы за вами велось неусыпное наблюдение… – Полковник повернулся и ушел.
Этот небольшой эпизод обернулся потом не в мою пользу. Ласло Шенньем, единственный из аристократов, которого я уважал за то, что он не чурался любой, даже самой тяжелой, работы и выполнял ее с удовольствием, на совесть, дня через два сказал мне:
– Послушай, Миклош, сегодня наш сержант спрашивал о тебе. Что, мол, за птица этот Сабо, если с ним разговаривал сам полковник Принц? А потом он приказал нам, охране, не спускать с тебя глаз…
На другой день Лаци Хертеленди, оказавшийся моим троюродным братом из Шюмега, которого я впервые увидел здесь, в заключении, доверительно сообщил:
– Берегись, Миклош! Знаешь, тот длинный ефрейтор, что любит орать, допытывался у меня, кто такой Сабо, и приказал показать ему тебя, чтобы хорошенько запомнить твое лицо…
К сожалению, вся эта эпопея со стройкой, столь счастливая для меня, продолжалась всего несколько недель. Настала осень, по горным склонам Буды поползли непроглядные утренние туманы, и охрана «взбунтовалась» – отказалась отвечать за «особо опасного Сабо» при обстоятельствах, благоприятных для побега. Что же, в этом была своя логика.
Так я вновь оказался в бывшем монастыре близ Марианской Остравы и вплоть до истечения срока наказания и «освобождения» просидел в тюремной камере. Кавычки при слове «освобождение» я поставил не случайно. Дело в том, что срок свой я отсидел полностью, а освобождение так и не наступило. Разве что в том смысле, что меня и моего сокамерника Денешфальви, бывшего полковника из Шопрона, в наручниках посадили в купе пассажирского поезда и под вооруженной охраной перевезли в Будапешт.
Моя мать и жена Денешфальви, которые по наивности приехали встретить нас у ворот тюрьмы, сидели теперь в этом же купе и молчали, глядя на нас. Охранники запретили нам разговаривать.
Поезд прибыл на Западный вокзал, где нас ожидала машина с решетками на окнах. Она и доставила нас в тюрьму на улице Чоконаи. Там мы провели почти месяц. Мне повезло: меня назначили в рабочую команду. В моем положении о лучшем нельзя было и мечтать. Я подметал пол в коридоре полуподвала, куда выходили двери камер, разносил по камерам завтрак, обед и ужин, а потом мыл грязную посуду. Во-первых, работа не давала мне скучать, а во-вторых, позволяла наедаться до отвала – пища всегда оставалась. Моему товарищу по камере тоже было неплохо, потому что я отдавал ему положенную мне порцию.
Допрашивали меня всего два раза.
На первом допросе следователь пытался установить, где правда и где вымысел в моих прежних показаниях, которые я давал три года назад и от которых потом отказался. Из этого я заключил, что под давлением необходимости я превратился в неплохого сказочника, а точнее, в сочинителя версий. Шутка ли, столько лет прошло, а дело мое все еще не закрыто и к нему возвращаются вновь и вновь! Во всяком случае ни один из моих друзей и просто знакомых, укрывавших меня во время скитаний по деревням и болотам, не пострадал и не был арестован. Избранная мною тактика оказалась надежной – я нафантазировал так много и, по-видимому, настолько ловко все запутал, что следователи просто не знали, где же была истина, а где ложь.
Эта способность вязать версии или, если хотите, склонность к правдоподобному сочинительству сыграла немаловажную роль в моей дальнейшей судьбе. Но прежде чем я об этом узнал, должно было пройти еще несколько месяцев.
И вот второй, и последний, допрос. Мне объявляют, что в интересах безопасности государства я должен быть интернирован и направлен в лагерь.
И снова автомобиль с решетками, и снова переезд… На этот раз в лагерь для интернированных близ местечка Киштарча.
Едва нас разместили в приемном корпусе, как ко мне подошел высокий, очень худой мужчина:
– Привет, Миклош! Ты не узнаешь меня?
К моему стыду, я не мог вспомнить, кто он такой, хотя лицо мужчины и показалось мне знакомым.
– Я же Лаци, Дюлаи Лаци…
От стыда я готов был провалиться сквозь землю. Не узнать Дюлаи! Но он не обиделся, а, наоборот, по-дружески обнял меня:
– Не терзайся. Много лет минуло с тех пор. Я немного изменился, вот и все! – И лицо его озарилось улыбкой.
Вот теперь я узнал прежнего Лаци, хотя он сильно похудел. Впрочем, особой упитанностью он и прежде не отличался.
Взглянув на меня, он поспешил сказать главное:
– Оружие, которое ты собрал тогда для Ференца Надя, его люди вовремя перепрятали, так что улик против тебя никаких нет.
Если бы я знал об этом раньше!..
За те двадцать месяцев, которые судьба определила нам для совместного пребывания в лагере Киштарча, чувство симпатии к Лаци Дюлаи во мне еще больше выросло и укрепилось, особенно после того, как я окончательно понял, что и он, и Бела Ковач, и я – все мы были всего лишь пешками, принесенными в жертву в беспардонной политической игре, которую вели Ференц Надь и иже с ним.
Это было как бы еще одной ступенью той длинной лестницы, по которой мне пришлось пройти, удаляясь от моих бывших «вождей», пребывавших ныне в безопасности и благополучии и так легко забывших своих друзей.
Открылась дверь, и на пороге камеры для вновь прибывших появился староста барака, надменный субъект из бывших аристократов. Он пришел, чтобы назначить рабочую команду для уборки туалетов и коридоров. Его выбор пал на меня, на священника из Пештэржебета и еще на кого-то третьего, кого именно, теперь уже не помню.
Эта работа считалась унизительной, бывший барон просто хотел нам досадить, а может, получил специальные указания лагерного начальства поучить белоручек-интеллигентов уму-разуму. Обо всем этом я, конечно, не догадывался и выполнил порученное мне задание добросовестно, как выполнил бы любую другую работу. Староста ни к чему не мог придраться, как ни старался.
– Принято! Можете идти! – буркнул он.
Но я не ушел, а, напротив, сделал шаг вперед:
– Позвольте обратиться с просьбой?
Староста опешил, но затем милостиво согласился:
– Излагайте.
– Прошу дать мне возможность выполнять эту работу каждый день.
У барона отвисла челюсть, он уставился на меня, как на марсианина:
– Каждый день? Почему?
– Я люблю работать.
Моя откровенность настолько его ошеломила, что он воспылал ко мне странной симпатией и, разумеется, сделал прямо противоположное: ни в сортировочном бараке, ни позже, уже на постоянном месте жительства в блоке «Д», где начальствовал его приятель, меня ни разу не назначали мыть полы и туалеты. Более того, мне каждый день теперь выделялась добавка к обеду, которую я с немалыми уговорами впихивал в Лаци Дюлаи. Его надо было подправить, а я в этом не нуждался, покрывшись жирком за месяц, проведенный в тюрьме на улице Чоконаи.
Лагерь для интернированных оказался для меня хорошей школой. Я наблюдал за его обитателями, слушал их разговоры и рассказы о прошлой жизни, знал об их надеждах и планах на будущее. Впрочем, эти планы можно было скорее назвать туманными мечтаниями – стояла еще только зима 1953 года.
Между тем собравшаяся здесь компания интернированных по своему составу существенно отличалась от тюремной. По меньшей мере половину составляли коммунисты, в том числе и такие, которые большую часть жизни отдали борьбе за свои идеалы. Вот имена некоторых из них, которые я запомнил: Тибор Лее, прокурор; Лайош Паткош, генерал-майор, один из руководителей железнодорожного ведомства; Шандор Пер, сотрудник министерства внешней торговли; Михай Губица, полковник полиции… Тут же рядом, в соседнем блоке, помещались такие деятели прошлого, как Лайош Гофман, известный журналист крайне реакционных взглядов; Дюла Шомольвари, писатель-националист, бывший при Хорти руководителем венгерского радио; Дюрка Кормоци, прожженный авантюрист, тайно вербовавший и отправлявший террористов для Израиля; мой однофамилец адвокат Лайош Сабо, член бюро «Венгерской национальной общины», которого в случае успеха переворота прочили в президенты республики. Было там два-три провокатора из военной контрразведки и несколько высших чиновников и бургомистров, служивших при Хорти. Чтобы дополнить этот пестрый список, упомяну еще графа Дьердя Сечени, отпрыска знаменитого рода. Во времена Хорти он был главой комитета Зала, а здесь, в лагере, оказался подонком и подлецом, готовым за лишний кусок доносить на своих же товарищей по несчастью. Недаром после событий 1956 года он был включен американцами в «комитет пяти» при ООН, столь бесславно занимавшийся «венгерским вопросом», а затем в качестве награды за свою службу назначен директором клуба при радиостанции «Свободная Европа».
Если не считать некоторых моментов, в целом в Киштарче не было столь острых столкновений между отдельными группами заключенных, как в тюрьме. Сказался, видимо, тот факт, что уровень культуры и образованность людей, сидевших в лагере, были сравнительно высокими, поэтому стычки, случавшиеся между идейными противниками, носили довольно мирный характер, отношения в целом были более человечными, а дискуссии более корректными.
Лагерь для интернированных отличался от тюрьмы еще и тем, что заключенным разрешалось получать в передачах книги. Сколь велика эта привилегия, может оценить лишь тот, кому долгое время доводилось испытывать голод по печатному слову. В остальном же режим содержания был более строгим. Закрашенные доверху стекла окон почти не пропускали света, и мы были лишены радости видеть солнце и небо над головой. Источники новостей с воли были полностью перекрыты, мы жили здесь, вблизи Будапешта, словно Робинзон Крузо на своем необитаемом острове.
В условиях строгой изоляции даже у самых заядлых фантазеров пропадало желание строить радужные планы на будущее. Конечно, в глубине души каждый из заключенных продолжал верить или надеяться на освобождение, и это было единственным моральным фактором, поддерживавшим наш дух и смысл существования. Надежда всякий раз брала верх над отчаянием.
Но надежды бывают разные. Между двумя образовавшимися лагерями (пусть это не покажется читателю упрощением, но дело обстояло именно так), между коммунистами и некоммунистами, коренное различие состояло в том, что последние втайне надеялись, что борьба за власть в верхах партии, возглавляемой тогда Ракоши, приведет к тому, что социализм как система со временем изживет себя и рухнет. Коммунисты же искали причину кризиса не в идее, не в принципах общественной системы, а в личности человека, превратившегося из вождя рабочих масс в единоличного диктатора, опьяненного своей властью.
При всем том коммунисты отнюдь не отрицали необходимости диктатуры.
– Диктатура пролетариата, – говорили они, – не самоцель, а лишь средство, неизбежное и необходимое. Если бы вы, буржуазные политики, внимательно читали Маркса, то многое поняли бы из происходящего сейчас в Венгрии. В нашей стране рухнул многовековой эксплуататорский строй, на его месте возникла временная, не сложившаяся еще государственность. Возникло множество конфликтов и проблем, а разрешить их способна только диктатура пролетариата. Такова историческая необходимость, – утверждали они.
– Допустим, – возражали мы. – Однако вы, хотя и превозносите эту диктатуру, сами оказались ее жертвами и сидите теперь в лагере вместе с нами!..
– А ваша беда заключается еще и в том, что вы плохо знаете не только Маркса, но и Ленина, – отвечали нам. – В той исторически закономерной обстановке, которая возникла в Венгрии после освобождения ее от фашизма, народ должен был сам создать свои органы власти. А поскольку он принялся за решение этой задачи, не имея никакого опыта, эти органы оказались далеки от совершенства. Они действуют, зачастую руководствуясь лишь классовым чувством ненависти к эксплуататорам. Отсюда и ошибки, а порой и перегибы. В годы французской революции Робеспьер приказал казнить Дантона, а затем и сам погиб на эшафоте, но от этого великая революция не перестала быть тем, чем она была и осталась для человечества – выразителем стремлений народа к свободе, зарей рождения нового мира, прогрессивного устройства общества. И если смотреть вперед, народная революция, происходящая у нас в Венгрии и выражающая чаяния трудящихся масс, аналогична всем другим революциям, ибо является частью истории. Она переживет и преодолеет все свои ошибки, ошибки эти забудутся, а достигнутые завоевания и результаты останутся на благо новых поколений…
Меня потрясла и вместе с тем вызвала чувство искреннего уважения к этим людям их неистребимая вера в идею, жертвами которой они стали и именем которой их держали здесь, в лагере, осужденными без суда.
Что касается веры, то подобная вера в идею была и у меня, только прежде, а не теперь. Различие состояло в том, что репрессированные коммунисты сохранили свои убеждения, хотя и потеряли личную свободу. Их товарищи и единомышленники, засадив их за решетку, не обманули их, не предали, не бросили на произвол судьбы. Все грехи, им приписанные, проистекали из одного источника – из культа личности.
Со мной же дело обстояло совсем иначе. И чем больше я размышлял и сравнивал, тем разительнее выступала эта разница. Таких, как я, искренних энтузиастов демократии по западному образцу, «друзья» всячески побуждали к политическим действиям, которые заведомо вели в тупик. Мы не получили помощи от так называемого «свободного мира», политические заправилы которого нуждались только в таких союзниках, которые были им выгодны и могли принести реальную пользу. К этому выводу я пришел после неудавшегося бегства в Австрию и после нескольких лет, проведенных в тюрьмах и лагерях. Никакой «идейностью» здесь и не пахло, в этом я убедился и в дальнейшем. Исходя из решений Ялтинской и Потсдамской конференций, мы должны были понять, что посулам наших западных «друзей» нельзя верить ни на грош. Они провоцировали нас, и только.
На мое политическое образование между тем невольно влияли и чисто человеческие моменты. Упомяну только об одном из них. Случай был сам по себе незначительный, но весьма характерный.
Один раз в месяц нам разрешалось получать передачу. Полкилограмма сахара, столько же сала, несколько пачек сигарет, печенье и другие мелочи. Среди обитателей лагеря находились, однако, и такие, которые по тем или иным причинам передач не получали. У одних не было связи с родственниками, у других эти родственники просто не в состоянии были собрать передачу из-за недостатка средств. Более зажиточные лагерники вскоре нашли выход из положения. Они сообщили своим родственникам адреса неимущих, и теперь беднякам тоже стали приходить посылки. Со стороны это выглядело вполне благопристойно, даже благородно. Помочь бедному товарищу по несчастью – это ли не проявление великодушия и солидарности?! Беда только в том, что во всей этой затее великодушия и благородства не было ни на йоту. Напротив! Операция с посылками стала самым подлым поступком в отношениях между заключенными. Дело в том, что бедняки, получавшие передачи от сердобольных благодетелей, должны были половину отдавать тому, кто «организовал» такую посылку. Благодаря этому условию те, кто побогаче, имели по две-три месячных нормы сахара, сала и сигарет, а беднякам доставались крохи.
Разумеется, «рыцари демократии» вроде меня до подобных мерзостей не опускались, избегали их и коммунисты.
Время шло, и я все больше убеждался в том, что коммунисты – надежные товарищи. Дисциплинированные, верные чувству локтя, стойкие в беде и в солидарности люди, грудью встречающие опасность и все удары судьбы – такими они были и в подполье при Хорти, и в тюрьме, и в лагере для интернированных.
И я искренне начинал верить в то, что утверждали они – да, новый государственный строй переболеет «детскими болезнями», окрепнет и превратится в весьма симпатичного, сильного и крепкого здоровяка.
Но в открытой дискуссии я еще держался на старых позициях. Как-то я прямо сказал Шандору Перу и Тибору Лее:
– Вы говорите, переболеет? Не вижу для этого никаких перспектив.
Шандор указал большим пальцем на забеленное окно у него за спиной:
– А что ты вообще видишь? Будапешт всего в нескольких трамвайных остановках отсюда, а где он? Сидим, как лягушата в аквариуме. С таких позиций вообще нельзя судить о событиях, происходящих в мире!
– Ну а ты полагаешь, что эти события развиваются именно в том направлении, которое вы предсказываете?
В наш разговор вмешался Тибор Лее:
– Сразу видно, что ты не в ладах с диалектикой. Развитие общества имеет свои закономерности…
– Что ты понимаешь под этим в данном положении, в сегодняшней Венгрии?
– Видишь ли, советское государство создано на иных исторических основах и традициях, чем наше, венгерское. Советское государственное управление, вся экономика, весь национальный продукт, его состав и распределение во многом отличаются от венгерских. Требования, которые предъявляет к социализму венгерский народ, живущий в центре Европы, несколько иные. В Советском Союзе социализм выдержал все испытания, выстоял и победил во второй мировой войне, но механически переносить все формы и особенности советского строя на Венгрию без учета ее исторически сложившихся особенностей было бы ошибкой.
Я не удержался от восклицания:
– В этом я с вами согласен!..
– И мы, коммунисты, не только сознаем, что допустили ошибку, но и знаем, как ее исправить.
– Знаете, а сидите тут уже несколько месяцев, и неизвестно, как долго это продлится…
Шандор Пер вновь вступил в спор и продолжал его в своей спокойной рассудительной манере:
– Историю измеряют не месяцами, дорогой Миклош, и ты это знаешь не хуже, чем мы. Мы, коммунисты, ясно отдаем себе отчет в том, что сейчас происходит в Венгрии, где совершаются ошибки, чуждые истинному социализму. И можешь быть уверен, долго это продолжаться не будет.
– Значит, вы надеетесь на перемены?
– Да, мы надеемся на бессмертие идеи, за которую многие коммунисты отдали свою жизнь. В своих надеждах мы опираемся на закономерности общественного развития, в ходе которого наш народ отбросит все ошибочное и сохранит и умножит все доброе и прекрасное, присущее социализму. Венгерский народ никогда не допустит возвращения помещиков и капиталистов. Время феодализма и капитализма для Венгрии кончилось, и на их место должен прийти только новый строй – социалистический…
Может показаться удивительным, даже невероятным, что мы, бывшие политические противники, беседовали между собой столь откровенно. Как это ни парадоксально, но в начале пятидесятых годов наше пребывание за решеткой в известном смысле обеспечивало нам возможность большего свободомыслия, чем там, по ту сторону решетки.
Замечу кстати, что события, происшедшие вскоре после нашего разговора – отставка Ракоши, ликвидация лагерей для интернированных и многое другое, – подтвердили справедливость слов репрессированных коммунистов. Они оказались правы – Ракоши и его сторонники, отошедшие от принципов истинного социализма, были отстранены от руководства и осуждены своей же партией. Должен признаться, что именно встречи и знакомство в лагере близ Киштарчи с коммунистами, глубоко порядочными, поддерживавшими друг друга людьми, убежденными и до конца преданными идее, как они говорили, истинного социализма, с которым они навсегда связали свою жизнь и судьбу, а потому даже здесь, будучи интернированными, ни минуты не колебались в справедливости этого строя, пробудили во мне симпатию к их идеям, если не сказать больше.
В Киштарче я пробыл уже около года, и вот однажды меня вдруг вызвали в лагерную комендатуру и проводили в отдельную комнату. Там находились двое каких-то мужчин, оба в гражданской одежде.
Едва за конвоиром закрылась дверь, как мне задали вопрос:
– Скажите, Сабо, вы помните еще ваши показания, которые давали на первых допросах?
– В общих чертах, – ответил я и подумал: «Боже, чего им еще от меня нужно?»
– Как это понимать?
– Не помню всех деталей, только главное.
– Позже вы утверждали, что все эти показания были плодом вашей фантазии. Вы и сейчас так считаете?
– Да.
– Вы хорошо обдумали свой ответ?
Вопрос был задан отнюдь не грубо. Да и вся эта игра в вопросы и ответы велась в необычайно вежливом тоне.
– Да, обдумал.
– Точнее?
– Мои прежние показания я выдумал от начала и до конца.
– С какой целью?
– Чтобы выиграть время и спасти от ареста тех, кто меня укрывал.
Наступила пауза. Затем один из моих собеседников положил на стол пачку чистых листов бумаги.
– Пожалуйста, садитесь за стол, возьмите ручку и перечислите на бумаге имена и фамилии всех лиц, занимавших в вашей бывшей партии или в государственном аппарате важные посты, но только тех, с которыми вас связывали личная дружба или просто хорошие отношения. Особо выделите тех, о ком вы знаете наверняка, что они сейчас находятся за границей. И о характере ваших прежних связей с ними напишите подробнее. – Сделав паузу, он добавил: – Не торопитесь, время у нас есть. Главное, постарайтесь никого не забыть. Когда закончите, постучите в дверь конвоиру…
Оставшись один, я добросовестно принялся за дело. В том, чтобы умышленно выпустить кого-либо из своего перечня, я не видел смысла. Ведь протоколы всех моих предыдущих допросов просмотрены и изучены, это ясно. Кроме того, степень моей правдивости легко можно определить проверкой показаний других лиц. И, говоря начистоту, у меня не было ни причин, ни желания лгать.
Закончив писать, я постучал в дверь. Вошли те же двое и взяли у меня стопку исписанных листков.
– О том, что здесь произошло, вы не сообщите никому. Если проговоритесь – пеняйте на себя, мы ведь все равно об этом узнаем. Своим товарищам по заключению скажите, что вас вызывали на допрос по поводу раскрытого в области Зала заговора, участники которого арестованы.
Прошло еще около двух месяцев. За это время на допрос вызывали еще нескольких заключенных. Остальные, в том числе и я, с любопытством и волнением ожидали, чем же все это кончится. Ясно было одно: ко мне эти вызовы никакого отношения не имели, поскольку ни один из допрошенных не был упомянут в моем списке ни прямо, ни косвенно.
С какой целью проводилась эта серия допросов, оставалось загадкой: все вызванные на допрос после возвращения в камеру хранили гробовое молчание.
Наконец меня вызвали опять. За столом сидели те же два молодых человека, что и в прошлый раз. Оба были серьезны и приветливы. Гораздо более приветливы, чем прежде, это я заметил сразу.
– Садитесь, пожалуйста! – Такое обращение к заключенному тоже прозвучало непривычно.
Я сел, внутренне сжавшись в комок. Слишком уж необычным было такое начало.
– Глубоко вздохните и расслабьтесь! – Молодые люди улыбались. Они верно угадали мое состояние, но улыбка их вовсе не была профессиональной усмешкой следователя, которая мгновенно превращается затем в суровую, а то и в угрожающую гримасу. Нет, они не издевались над моей скованностью, а просто улыбались, добродушно и ободряюще, как равному.
– Мы понимаем, вам трудно так сразу преодолеть все то, что въелось в ваше сознание и стало привычкой. Но отвыкать придется, и очень скоро.
Я продолжал сидеть, боясь пошевельнуться. Слышал, что мне говорят, но из всего сказанного не понимал ни слова.
– Конечно, нам понятно ваше состояние. Мы готовы и к тому, что можем вызвать у вас подозрение. И все-таки хотелось бы, чтобы вы отнеслись к нам с большим доверием.
– Зачем? – Вопрос вырвался у меня непроизвольно. Они нуждаются в моем доверии? С какой целью? Уму непостижимо!
– Будем говорить в открытую, только так мы сможем понять друг друга. Мы внимательно изучали ваш характер, ваши способности и наклонности. Мы знаем о вашем участии в антигитлеровской борьбе, о вашей ненависти к фашизму, о вашем высоком для вашего возраста положении в партии мелких сельских хозяев, о ваших организаторских способностях. Оценили мы и ваше умение скрываться в течение нескольких лет от наших сотрудников; наконец, ваши показания, от которых вы потом отказались, на тысячу страниц, запутавшие следователей. Все это говорит о том, что вы способны выполнить задачу, которую мы намерены вам предложить.
– Простите, я не понимаю…
– Сейчас поймете! Как я уже сказал, мы наблюдали за вами на протяжении всего времени после вашего ареста. Наблюдали за вашим поведением и поступками, за переменами, которые в вас происходили. Да, да, не удивляйтесь. Мы считаем, что вы вернулись в ряды того класса, из которого вышли, – рабочего класса. Вы нам не враг.
Другой сотрудник, до сих пор молчавший, встал и, глядя мне в глаза, спросил:
– Вы хотели бы работать и бороться вместе с нами?
Эта короткая фраза на многое открыла мне глаза. Теперь я понял, что все, происходившее со мной в эти годы, было не случайно. Не только тот длинный перечень имен и фамилий моих друзей и знакомых, который я составил здесь, но и переводы из одной тюрьмы в другую, и перемены в режиме содержания, и мои кратковременные «гастроли» на строительной площадке в Добогоке, и многое другое – все было подчинено одной цели.
Такая устремленность и планомерность действий повергла меня в изумление. Потрясенный, я сидел, словно окаменев, на своем стуле.
– Разумеется, мы хотим познакомиться с вами еще ближе и в других условиях. Теперь уже в качестве свободного человека и нашего единомышленника. А потом, когда наступит время, вы пройдете необходимую подготовку и отправитесь за рубеж. Согласны?
Второй сотрудник опять предупредил меня:
– Не торопитесь с ответом, подумайте. Прежде всего вы должны знать, что будете освобождены независимо от вашего согласия. Лагеря для интернированных ликвидируются. Кое-кто из их обитателей предстанет перед судом, но вам такая опасность не грозит. Таким образом, вы вовсе не обязаны говорить нам «да», только чтобы выйти отсюда. Более того, если вы примете наше предложение, для вас это будет связано с некоторыми неприятностями. Во-первых, вас освободят без реабилитации, и, во-вторых, одним из последних, а отнюдь не в числе первых.
– Опять ничего не понимаю… Почему?
– В интересах вашей же безопасности. Особенно в будущем. Ну, что вы скажете теперь?
– Я согласен.
Они были со мной искренни и откровенны. Это я почувствовал всем своим существом. Я им поверил и не ошибся. Эти двое молодых людей стали впоследствии моими добрыми друзьями и надежными соратниками по совместной борьбе.








