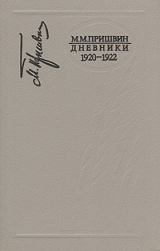
Текст книги "Дневники 1920-1922"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
В начале 20-х гг. обозначается сосуществование двух культур в России, причем пути строительства подлинной культуры и официальной советской, которая создается новым государством, расходятся принципиально. В частности, советская культура опирается на старый принцип отношения к природе («взять все у нее наша задача»), который становится основополагающим и осуществляется в рамках варварского, бескультурного мира. Советская культура усваивает не только прежнее отношение к природе, но и к культурному наследию – к «отцам» («это беспутные наследники расточают богатство отцов»). Противоположная советской подлинная новая культура, по Пришвину, требует переосмысления всего, связанного с идеей «разрыва с отцами» («у меня все сердце об отцах изболелось»). Однако у Пришвина не возникает тоски по прошлому, он думает о каком-то новом синтезе культуры, опираясь все на тот же принцип оправдания жизни («прекрасная дама приходит неузнанной, неведомой никому подругой в таинственной чудесной жизни», «это мир молчания напряженного пола, неведомой тишины»). Задача современной литературы, по Пришвину, вновь вытекает из понимания писателя как «наследника величайших творцов духа», однако поворачивает его к земле («мы… должны вернуть земле ею утраченное»). В этом контексте вновь актуализируется розановская традиция в литературе начала века, значение его «священного благоговения к тайнам человеческого рода», к «святости пола неприкосновенной» – к жизни. А утрата чувства жизни, которую Пришвин отмечает у символистов, получает неожиданное парадоксальное развитие в советской литературе («у молодых авторов эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов»).
Потребность создания нового человека была задействована большевиками, но не путем созидания и творчества, а путем насильственной экспансии в человеческую природу с целью ее тотальной переделки («Диктатура уничтожает в России все следы гуманизма и демократии»). Такая установка сокращала богатство человеческой натуры, уничтожала жизненное начало в человеке. Мощное желание жить, жизненная активность, накопленные в народе, были максимально использованы большевиками во время революции и потом в разные периоды методически уничтожены. Пришвин осознает сосуществование двух моделей мира в послереволюционной России.
В 1922 г. в дневнике появляется традиционная для русской литературы тема «маленького человека», но разрешается она также в рамках новой картины мира в связи с процессом жизни. Пришвин имеет в виду не того «маленького человека», которому противостоит человек общественный и величина которого определяется ролью в обществе.
В центре внимания писателя человек жизни, до которого «нет никому дела», – он становится героем писателя («не дам я тебе от нас исчезнуть, живи, любимый человек!»).
Гибель России создает новую ситуацию для русского человека: идет свертывание большого чувства родины, оно уходит вовнутрь, превращается в точку в душе человека, в ту точку земли, где он живет, в точку приложения его труда, через которую «можно провести его личный меридиан и его личную параллель по всему земному шару» («надо работать в исходной своей точке», «изба – лаборатория жизни»). В дневнике появляются мысли о краеведении («Каждый может заниматься краеведением, тот каждый, кто любит свой край…»), краеведение рассматривается как наука, направленная «на улучшение породы самого человека», осознавшего, что место его жизни и труда лежит на пересечении «меридианов и параллелей всего земного шара».
Пришвин не только философски осмысляет ситуацию и умозрительно нащупывает выход из нее. В этом пустом пространстве, в стране погибшей, где царят беззаконие и ложь, писатель начинает различать жизнь («Россия пустыня, покрытая оазисами», «приходит в голову, что и сейчас, может быть, есть огромная неизвестная мне область жизни, полная тайн»). В России, где «от интеллигенции остались только черные пни», он обнаруживает, что «озимь всходит… холодная, строгая озимь, зеленеющая, несмотря на зиму», – без сомнения имеется в виду та «зима истории», которую он увидел в России 1919 г. И один из его учеников, поступивший в Москве учиться, «может долго не есть, не спать, читать Достоевского… крепкий, как озимь», – изменения связываются с образом озими, прорастающей благодаря силе жизни, заключенной в зерне. Жизнь пробивает себе дорогу по-разному («эта глупая беременная баба пошла в Укомпарт, там только взглянули на Пузо и удовлетворили ее даже несправедливую претензию (выгнали меня из флигеля и посадили Пузо рожать)»), но пробивает неуклонно. В дневнике начала 20-х гг. в пришвинской оценке жизни уже нет безысходности, а есть трагедия и человек, стоящий перед изменением своей судьбы («тайна жизни связана с индивидуальностью», «Я больше революции», «Сегодня я проснулся с мыслью о возрождении»). Мысли «о возрождении» не вызывают у писателя ни успокоенности, ни надежды на кардинальное изменение окружающей действительности или приятие ее («Часто приходит в голову, что почему я не приемлю эту власть, ведь я вполне допускаю, что она, такая и никакая другая, сдвинет Русь со своей мертвой точки, я понимаю ее как необходимость. Да, это все так, но все-таки я не приемлю»). Отныне история власти и страдающей личности становится главной темой его творчества до конца жизни («если даже мне удастся совершенно очистить свою душу от эгоизма, у меня останется одна тема: Евгений из „Медного Всадника“»). Отказ от жизни – вот принцип большевизма, не приемлемый для Пришвина («рассуждая книжно, принципиально, они пропускают то малое, живое, природное, без чего жизнь не в жизнь»).
Как происшедшая катастрофа, так и выход из нее обсуждаются Пришвиным в контексте судьбы культуры. Культура разрушена, но культурная память сохранилась в отдельных личностях. Жизнь ориентирована на отдельную личность, которая автономна и содержит в себе все – в ней собирается воедино все богатство, созданное мировой культурой («Культура – это мировая кладовая прошлого всех народов и того именно прошлого, которое входит в будущее и не забывается»).
С этой точки зрения понятна и эклектичность дневника писателя. Это не оттого, что мировоззрение не продуманно – напротив; дело в том, что в дневнике актуализируется целый ряд образов мировой культуры, используются противоположные по идейному содержанию философские системы, на страницах дневника идет диалог с Блоком, Розановым, Достоевским, Джемсом, Бергсоном, Герценом, Бёме. Их произведения Пришвин не только читает, но и делает выписки, соглашается или полемизирует с их идеями, включает их в живой процесс собственной мысли. Кроме того, для характеристики мировоззрения Пришвина очень важно, что он не был нигилистом, ниточка связи с традицией (культурная память) сохраняется у него даже в самых крайних и резких суждениях («культура – это дело связи народов и каждого народа в отдельности с самим собою», «я деятель связи»).
В новом мире существенно изменяется и роль литературы. Русская литература была отражением целого – органической жизни народа, претендовала на то, чтобы быть носителем духовного сознания, и была им. Пришвин чувствует, что творческая жизнь больше не может развиваться в русле этой традиции («Раньше писалось мне в предположении, что я живу среди народа с великим будущим, но теперь как писать… и не пишется»). Весь ареал существования художника, в котором он может жить по законам свободы, уничтожен («никогда не напишу легальной вещи… я под игом никогда не обрету себе в душе точки зрения, с которой революция наша, страдания наши покажутся звеном в цепи событий, перерождающих мир»).
В дневнике идет умаление литературы («бедный Пушкин») посредством возвеличивания жизни; литература становится дополнением жизни – отражением ее избытка («Литература занимается избытками жизни»). В новом соотношении подчеркивается самоценность жизни и роль личности художника, который осмысляется как творец, законодатель своего мира, организующий мир вокруг себя («Я и Отец одно – почему и как одно – законник и художник одно»). Новое соотношение творца и творения пробуждает небывалый интерес к самой творческой личности.
Творческая жизнь подошла к настоящему концу, но жить без писательства Пришвин не может и начинает все сначала: ходить ногами – жизнь и писательство организуются вокруг охоты, ежедневно записывать погоду – появляются отметки температуры, будущая пришвинская фенология. Охотничья жизнь в природе становится формой, синтезирующей творчество его бытовой и духовной жизни.
В то же время власть начинает преследовать все противостоящее ей – с 1917 по 1922 г. из России уезжает целая плеяда лучших представителей русской культуры. Рассеиваются надежды на контрреволюцию, социализм в своей претензии на абсолютную самодостаточность охватывает все сферы жизни («Почему социализм преследует искусство и религию?., потому что социализм (в теории) вмещает в себя и Бога, и красоту, и правду»). Одновременно в дневнике определяется и роль литературы, утверждающей новую идеологию («Время садического совокупления власти с литературой»).
К этому времени относится стремление Пришвина избавиться от несвойственного ему «траурного писания», которое навязывает ему современность, – путь к этому он видит в обращении к детской литературе («связать писательство с детьми»). Это случится, однако, позднее, а в эти годы «освобождение от современности» происходит у писателя иным образом. В 1916–1922 гг. Пришвин пишет пьесу «Базар» (см.: Пришвин М. М. Собр. соч.: В 4 т. М.: Художественная литература, 1939. Т. 4. С. 295–315), включенную им в цикл «Слепая Голгофа». Действие пьесы разворачивается на огромной рыночной площади, вмещающей «разнопоставленные классы купцов и мещан». Чертова Ступа – «носитель духа злобы», овладевающего простонародьем. В ее пророчестве соединяется идея социального возмездия («все будут в огне гореть, проклятые, всех вас истолчет Чертова Ступа, всех господ, всех купцов, всех попов») с мрачным религиозным фанатизмом («Сказано в писании, что сцепится черный орел с красным… Близок час: едет черт на дикой козе… Сын на отца, дочь на мать, брат на брата»). Чертова Ступа «с поднятой рукой, в двух пальцах которой, как в двуперстии, цигарка», – пародия на боярыню Морозову и ее речи – пародия на старообрядческий пафос возмездия за неправедную жизнь на земле. Улетел белый перепел, некогда спасавший купца от злобы «голытьбы», гаснет неугасимая лампада над купеческой лавкой, и силами человеческими заставить гореть ее уже не удается («Потухла. Что же это такое, сию минуту сам налил, сам зажег»), парадоксальным преступным путем приходит к Богу ростовщик, которого все вокруг ненавидят («я морил свою жену, измором в могилу загнал… и тут меня так стукнуло, и такое произошло, что смерть эту я как любовь принял… принял Христа не по умству, а как заразу… И существо, бывшее во мне в затемнении, вдруг воссияло»). Страшно бессловесное действие «дюжего парня из толпы», который одним ударом прекращает спор («удар его страшен тем, что выходит из молчания, из скалы, из бессмыслицы»).
Чужесть Странника этому миру подчеркивается не только его именем, выявляется его принадлежность к иному миру, причем не человеческому, а природному («Ты сам откуда? Где живешь? – В поле живу, я заяц. – А родня твоя? – И родные все зайцы»). Его слова тонут в разноголосице безысходного спора («Два у тебя, старая, глаза, а видишь одним, разуй глаза… и увидишь зерно»). Злу, которое видит и страстно обличает Чертова Ступа, он противопоставляет не добро (где оно?), а идею самоценности личности и органической жизни. Эту же идею развивает купец Герасим («я зернышко, расту в тайне, пробиваю себе дорогу, как мне назначено… мы, зернышки, рано или поздно должны попасть на священные жернова, а не попадем, измелет нас Чертова Ступа»). Разрушительному возмездию противостоит созидательная сила духа, которая должна отдельные зернышки «измолоть в один хлеб», жизнь сама по себе признается «ценностью и радостью». Эту же идею органической жизни противопоставляет торговец чижами попыткам «пойти ко всеобщему объединению» путем отвлеченных теорий («Начать с какого-нибудь вывода»).
Роль Странника в пьесе пассивная, он свидетельствует об ином мире, но бездействует. Возможно, Пришвин это чувствует; по крайней мере, записывает в дневнике: «Странник из „Чертовой Ступы“ пусть придет в этот город во второй раз и покажет им хорошее». Этого, однако, не происходит. В финале пьесы (под названием «Суд») сбывается пророчество Чертовой Ступы: начинается пожар, в котором горят не все, а каждый в отдельности («кто горит? Ты горишь, окаянный! Ты горишь, Абрамыч, ты, Петрович!»). А в последней авторской ремарке в молчаливом равновесии стоят перед зрителем два главных персонажа – Чертова Ступа и Странник.
В пьесе «Базар» писатель строит новый художественный мир, в котором хотя и побеждает идея возмездия – огнем горит внешняя жизнь, но обнаруживается и невидимый рост личности, выявляется идея ценности жизни. Антиномии добра и зла в такой модели мира явно недостаточно.
В 1922 г. Пришвин пишет «Мирскую чашу» – повесть о судьбе культуры и русской интеллигенции. В повесть перекочевали из дневника многие реалии повседневной жизни и целый ряд персонажей, от Павлинихи до Павлина. Бытовой план повести – это мир, окружающий писателя, знакомый ему до мельчайших подробностей: повесть автобиографична. Второй план повести создается событиями, связанными с происходящим в России в целом – становлением нового образа жизни, появлением новых власть имущих. В «Мирской чаше» пародируется и доводится до абсурда складывающаяся советская действительность, разрушается официальная картина мира, ставится под сомнение его серьезность. Гротескно-комический образ Персюка, «самого страшного из всех комиссаров», не только выявляет идейную несостоятельность новой власти («высадишь бутылку враз и ну Маркса читать… и думаешь при этом, как бы достигнуть»), ее варварскую, дикую сущность («в каждом кармане, кажется, сидит по эсеру, меньшевику, кооператору, купцу, схваченных где-нибудь на ходу под пьяную руку, давно забытых, еле живых там в махорке, с оторванными пуговицами и всякой дрянью»), но и принципиально относит складывающуюся действительность к прошлому, первобытному, «музейному» – лишает ее культурной актуальности («Такого бы непременно надо в скифскую комнату»).
Писатель строит такую модель мира, в которой нет «черты, отделяющей небо и землю», в которой утрачивается имя («товарищ покойник»), исчезает противоположность жизни и смерти – смерть не происходит, а длится («десять лет расстрела»), смерти и воскресения («умер – не удивятся, жив – скажут: объявился. И даже если он воскресший явится, опять ничего, опять: объявился»), и граница личности (Алпатов – Савин) какая-то зыбкая, не сразу заметная. Это Скифия, «мир древних заветов», в котором «волхвы идут по своим следам в прошлое», а народ терпит крестную муку и вновь ожидает спасительного слова, в нем само солнце распято – космос вовлечен в процесс страдания и спасения.
Сквозь всю повесть проходит мотив уничтожения: дворец разоряется вселившейся туда детской колонией, святые мощи оборачиваются костью, вместо креста является черный рог, и человек превращается в обезьяну. В зачине повести символом уничтожения становится погибающая от рук человеческих природа – чистик или моховое болото – «мать великой русской реки» и «славного водного пути из варяг в греки». Под тем же углом зрения, что и в дневнике, в повести художественно исследуется проблема взаимоотношений человека и природы, господства над природой и овладения человеческой природой. В зачине повести природа и история объединяются в некую систему, образующую единство природы, страны, родины: уничтожение рек и лесов обращает «страну в пустыню». Образ родины несет на себе печать трагического разделения на плоть и дух («она мне изменяет, душу свою чистую отдает мне, а тело другому, не любя, презирая его, и эта блудница – раба со святою душой – моя родина»); и в повести актуализируется принцип жизни («Я живой человек и хочу жить с ней, видеть ее простыми глазами»), причем метафизический характер трагедии пренебрежения жизнью и ее значимость подчеркиваются акцентом на первую часть евангельского моления о чаше («и сам Распятый просил, чтобы миновать ему эту чашу, и ему даже хотелось побыть»).
Немота лирического героя повести разрешается молитвой о сохранении самого простого, без чего, однако, невозможна истинная свобода («В день грядущий, просветли, Господи, наше прошлое и сохрани в новом все, что было прежде хорошего, леса наши заповедные, истоки могучих рек, птиц сохрани, рыб умножь на много, верни всех зверей в леса и освободи от них душу нашу»).
В «Мирской чаше» человек и «обезьяна» (и «идейная», и «родная русская лесная обезьяна») противопоставляются как представители культуры и цивилизации. Цивилизованной «обезьяне», которая «тащит себе в гнездо творения культурные себе на пользу», противостоит человек «иной жизни», человек культуры, который едет «спасти несколько книг и картин, больше ему ничего не нужно, и за это дело он готов зябнуть, голодать и даже вовсе погибнуть; есть такой на Руси человек, влюбленный в ту сторону прошлого, где открыты ворота для будущего». Это его душа – мирская чаша, в которой есть пища для всех вокруг. Появляется в повести и знакомый по дневнику образ: «свежие всходы озими», а также неожиданно высокие деревья на вырубке, которые оставляют «для обсеменения запущенной земли».
Смысл революции и гибель гуманистической культуры осмысляются в дневнике онтологически. Решается вопрос о способе бытия: быть в Слове, в Духе или просто быть – в процессе жизни. Само явление Слова (Логос) вносит в природу смерть как отрицание принципа жизни. По этому вопросу Пришвин вступает в полемику с идеями Розанова, выраженными им в книге «У стен града невидимого» (1906) («Сущность… христианства определилась как поклонение смерти, как трепет и ужас, а вместе и тайное влечение к Смерти-Богу»). По Пришвину, человек, сказавший «Я есмь», выпал из родовой жизни; явление христианской личности неприродного порядка, изменяющее саму природу. Этот новый неприродный порядок, создающий новое качество мира, прорастает сквозь «родовые оковы», «в сердце женщины избирающей». Свобода выбора того, кто «по душе», становится условием свободы творчества нового человека – индивидуальности. А целомудрие, стыдливость, девственность обнаруживают свое новое назначение – «выгадывание времени для выбора того, кто „по душе“» («пришел человек и сказал: „Я выхожу не от мира сего… Я есть то, что отделяет вас от обезьяны, которая создает себе подобных путем подражания, а Я создаю путем изменения самой природы“»).
Отныне Пришвин включает природу в борьбу за бессмертие и за личность, то есть смотрит на нее с позиции ее новой онтологической роли в бытии. Именно в начале 20-х гг. Пришвин обращается к охоте как способу жизни, связанному с его главным делом – писательством; в опыте Пришвина охота становится узлом, вновь связывающим жизнь со словом, природу с культурой. В 1921 г. на охоте он записывает: «Прислушаешься, и долетает иногда колокольный звон жизни», «Религиозное чувство есть продолжение чувства природы». С интуицией жизни связано возрождение религиозного чувства («Творческим порывом жизни Я сливается с духом», «Вера есть сила жизнетворчества»).
В новой картине мира меняется парадигма поведения человека, качественно иным становится его духовный путь: теперь человек сам в процессе жизни должен ответить на вопрос о Боге; подчеркивается значимость личного пути к Богу – богоискательства («Скажу… есть Бог! ты мне не поверишь, скажу нет, будет неправда. Учись и узнаешь сам»). Не спасает прошлое страдание, нарушена привычная связь человека с Богом («Бог спит»). В это время ощущение Бога у Пришвина лишено каких бы то ни было конфессиональных признаков («нет в церкви тебя»), это сложное, иррациональное «Ты», присутствие которого явлено только в чувстве свободы и радости. Это Бог, который находится в вечном движении, не дает человеку никакого рационального пути для его достижения, требует абсолютного духовного искания. Строка из стихотворения З. Гиппиус «Ты в моем сердце единственный» восстанавливает связь между богоискательством нового человека послереволюционной эпохи и богоискательством русской интеллигенции начала века.
Пришвин в это время не церковный человек, однако в дневнике множество прямых рассуждений типично богословского толка в духе высокой православной мысли («Человек свободен только в своей жертве»). Пришвин никогда не сможет отказаться от традиции христианства и гуманизма, но в его мировоззрение мощно вклинивается жизненная составляющая, он нагружает Евангелие жизнью («Евангелие нужно дополнить жизнью Христа»). В дневнике подчеркивается важность в религиозной вере общечеловеческого культурного начала, связи всех народов друг с другом («Величайшим деятелем связи был Христос»). Возможный для нового сознания выход человека к религии Пришвин видит в примирении эстетики (культуры) с жизнью (природой). Это путь, указанный в культуре и требующий реализации («Сострадание и является выходом из порочного круга эстетизма (так выходят Шопенгауэр, Ничше, Мережковский др.), оно приводит к религии»). Речь идет о сострадании к жизни как таковой («жалко цветов, убиваемых морозом, детей голодных, крестьян, рабочих, невинных существ, погибающих в сетях политиков, жалко! и отсюда религия»).
Очень важным оказывается и сам стиль жизни Пришвина. В основе самосознания писателя лежит тоже жизненный инстинкт («чувство самосохранения»), его сознание очень близко к существу жизни, простому, животному, и он не скрывает это от себя самого («жизнь моя теперь – медведя в берлоге»). На самом деле за ним стоит попытка новой культурной практики, то есть собственное творческое и культурное поведение. Пришвин осуществляет попытку жить полной жизнью – не идейной, но отрефлектированной. И дневник оказывается той универсальной литературной формой, которая соответствует такому поведению и такому типу творческой личности.
Такие тексты обычно печатаются позже: жизнь боится осознания, она подавляет то, что может ее обнаружить; и чем страшнее жизнь, тем глубже загоняет она вовнутрь своих свидетелей – после, пожалуйста, но не сейчас. Это происходит, по-видимому, и с дневником Пришвина.
Я. З. Гришина
В. Ю. Гришин








