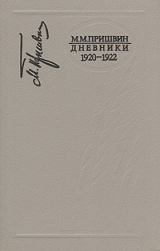
Текст книги "Дневники 1920-1922"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
1922
15 Января. Чудесны зимой встречи светил утром и вечером, в снежной пустыне светила воистину царят, сходятся, расходятся… а ночи до того светлы, воздух так прозрачен, что луна видится не диском, а шаром.
Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и прорастало {131} : во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал не-ученье – «Выучитесь инженерами, – говорил он, – и сядете на шею пролетариата». Слова эти падали нам, как на фронте солдатам не-воевать, рабочим не-работать и т. д. Значит, свойства марксизма находятся в самом зерне его и существуют объективно.
Истинный вождь верою своей в нечто высшее обрекает себя без колебания на жертву ему и потому он принимает жертвы других. Так что всякий, кто хочет быть вождем, сознательнодолжен обречь себя на жертву. Христов жертвенный путь есть путь вождей. Тоже и анархисты хотят, чтобы все были вождями. Разница вождя от прозелита не в способности, а в том, что вождь жертвует собой Богу (или идее) непосредственно, а прозелит обоготворяет самого вождя (кумир). Марксизм разрушает всякое идолопоклонство («сознательный» пролетарий «не верит»), но каким же образом (это надо рассмотреть особо) создает тут же из-под рук и величайшие кумиры (но и христианство шло тем же путем).
Способность быть вождем заключается в вере («научно» вождем не сделаешься), и все вожди люди верующие.
Публика считает, напр., Пушкина большим, а Фета малым, публика судит в ширину, а в глубину Пушкин и Фет равные, потому что тот и другой стоят перед одним Богом. По этому маленькому примеру видно, что масса органически нуждается в кумире. Вот почему из Маркса в Ельце сделана саженная гипсовая голова и на Сенной площади там ей особые жрецы-инквизиторы приносят жертвы и музыка играет «Марсельезу».
Революция, социализм вскрывают всю мерзость кумиро-творчества и вот почему ненавидят попов, религию, но почему-то сами сейчас же и создают то же, в горшем виде – почему?
Первое: масса не может долго жить повышенно-напряженной жизнью, как личность, она должна отдохнуть, и ее «передышка» есть кумир. Потому понимание массой вождя может быть только временное.
И еще просто, что масса и не может стать непосредственно к Богу и ей непременно нужен вождь – образ Божий сначала, пока она действует, и поп-вождь – сам Бог, когда она отдыхает (видеть образ Божий легче, чем Бога, а кумир уж совсем не обязывает к действию: поставлю свечку, а он сделает).
Происходит как бы вечный обман вождей, обещающих нечто чающим, и взаимные обвинения: Маркс будет обвинять своих подданных в искажении его учения, а те его в обмане. «Научный» социализм предусмотрел это явление и потому уничтожает Бога и личность как посредника между Богом и толпой, единственный фактор истории – масса, живущая по законам экономической необходимости.
Интересно, что в строгих чертах этой теории, оставшейся на страницах советских газет, русская жизнь во время коммуны шла точно по закону верующих вождей и обманутой массы. (Гипсовая голова Маркса в Ельце.)
В деревню Селецкое явилась лесная комиссия для проверки построек с 17-го года и сбора денег с тех, кто строил из ворованного леса, какой бы огромный доход мог получиться от этого казне! Но деревня благополучно отделалась самогоном и жареным салом. И так во всем и везде, потому что во всех этих комиссиях собираются представители беспорядка. Неизбежно придется перейти к представительству по цензу собственности, а не по партийному цензу, как теперь. Надо подождать, пока крестьяне расселятся на хутора, потом будет признана мелкая собственность, а потом и ценз.
Революция отодвинула осуществление представительного строя много назад, потому что настоящего труженика, вообще у нас человека молчаливого, рабочего, остерегающегося высовываться, запугала еще более. Без этих собственников управлять государством невозможно, а прогнать их – что же останется от социализма?
Итак, ценз по собственности и ценз партийный (чистка партии – проверка ценза) – вот основа прошлого и нового строя. Но ценз партийный есть уже позднейшее наслоение, вначале в основе строя был «беднейший» (комитет бедноты); этот строй рушился, потому что в массе (в бедноте) не оказалось социализма. Была введена, как ценз, степень убежденности, которая доказывалась, во-первых, давностью принадлежности к партии, во-вторых, активностью. Этим путем был создан чрезвычайно деятельный («чрезвычайка») аппарат управления.
Но самый факт активности в жизни каким-то образом оказался враждебным социализму, актив наш оказался кто? кто может убить, кто может реквизировать (разорить), кто может пытками взыскать чрезвычайный налог, кто может повоевать с «бандой» и т. д. Дело в том, что в понятие собственности входит понятие творческой производительности – вот эта творческая производительность и не входит в ценз партийный. Сложилось так, что при партийном человеке состоит еще «спец», который и восполняет отсутствие знания и таланта, в большинстве враждебный партийному, работающий под кнутом, тайно саботирующий – это земский «третий элемент», но уже совершенно забитый («выжатый лимон»). Такое положение допущено временно, пока не явятся ученые из большевиков (в университет принимают почти только партийных), и таким образом образовательный ценз прибавится к цензу по убеждениям. Но это дело будущего далекого… (школы стоят).
Собственно говоря, следовало бы ввести ценз по социалистической производительности, т. е. кто больше бы произвел продуктов при социалистической организации производства, взять представителей от коллективных хозяйств, артелей и т. д., но таким путем ничего не производится, и если есть деятельные люди, то их деятельность проявляется не в том, чтобы произвести, а в том, чтобы раздобыть для коммуны.
Словом, социалистический строй не удается, потому что к нему нельзя перейти, если бы перешли, тогда бы все пошло, напр., если бы существовало социалистическое производство, то можно было бы установить ценз. «Переворот», оказывается, должен быть гораздо сложнее: он должен быть, когда у рабочих есть определенное сознание, техника нового и т. д., словом, дело тут в духе самом, а не в факте завладения орудиями производства.
Возвращаемся к основному вопросу: основной вопрос социализма есть вопрос об изменении отношения массы к вождям (общества и личности), о что всякие попытки осуществления социального заказа разбиваются, и под флагом социализма складывается обыкновенная конструкция общества, т. е. личность, превращенная массой в кумир.
Значит, не разгадана еще тайна явления личности, и все таинственное обоготворяется, и потому надо расшифровать эту тайну и превратить личность в «спеца». Теперь это сознается и подчеркивается, напр., введение понятия «спеца» или «шкраба»: каждый из нас, образованных людей, получив ярлык спеца или шкраба, в свое время был подавлен, потому что чувствовал себя обезличенным в спеце или в шкрабе. С другой стороны, массовое, человеческое начало входило в понятие «беднейший из крестьян», то и другое подчеркивает стремление превратить личность в механизм (спеца), в homo faber.
Индивидуальные отличия между людьми, поскольку они интересуют социалиста, сводятся к специальности, если остается что-либо сверх специальности, то это остается общественно неактивно, это жизнь «про себя», которая уже не социализуется, которая бесполезна, как сновидение. Мы можем теперь перевернуть всю систему и, признав истинно-важной стороной «жить про себя», – отнести деятельность homo faber, как будущий рабочий механизм, полезным для себя.
28 Января. Мистерия семьи: отец и мать – актеры, а дети – публика.
Лева заболел (психостения). Он лежит целую неделю в полусне со стоном и бредом: так я когда-то вернулся из «Америки». Ефр. Павл. отказалась везти его к доктору, а у меня температура, трясет. Повез его… После с 4-х до 10 веч. в шубе сидел перед печью.
Сады и особенно парки – то же, что благоустроенные кладбища: кладбища – воспоминание по жившим тут людям, парки – воспоминание о бывшем тут когда-то и срубленном лесе.
29 Января. Миша из дома ушел {132} , пусть это останется для детей тайной, и для всех. Пока Лева не выздоровеет совершенно, каждый день я буду начинать дневник этой таинственной фразой: «Миша из дома ушел».
Каким несчастным я видел себя в эту ночь, как близко было то черное существо, неминучее, около которого мы живем, – как черви на колесе телеги, тронется колесо – и нет нас!
30 Января. Миша! будь тверд, слюни не распускай, но не выходи из себя. Представь себе эту женщину объективно со всеми ее достоинствами и недостатками и всегда следи за ней: трудно это, но делать нечего. «Пусть дети погибнут – дети мои!» – «Какие же твои обязанности?» – «Никаких, найми прислуг, я буду распоряжаться и больше ничего: хочу быть барыней!» Ее можно попросить, и она будет, как собака, загонять зайцев и уток на болото, мужик может ее выгнать на работу: «Хрузка, иди молотить!» – побежит, но принципиально подчиняться она не может и никогда (органически) не может перемолчать, и спорить об этом – значит доводить ее до белого каления.
Леве вчера было лучше: улыбнулся на Ярика, крикнул по-своему властно во время игры в короли. Сегодня лицо его начало входить в свои очертания.
1 Февраля. Лева заболел в Крещенье 6 Янв. 3 дня бессонница и после сон.
В среду я ходил к ст. Д. за сахаром, Лева ходил в Дурово с письмом. В пятницу возил его к доктору. Во вторник ходил в Д. и в среду привез доктора.
2 Февраля. Над гробом Отто Ивановича.
Отто Иванович был сын рабочего, и сам он как землемер – скромный, никому не известный труженик. Он простудился при обмере земли в Ставковкове при исполнении своих служебных обязанностей. Сам он говорил мне, умирая, что он жертва времени. Бедный Отто Иванович, он, умирая, не верил в то дело, из-за которого в наше время приносится столько жертв. Хорошо тому умирать, кто знает, за что он умирает. Но Отто Иван., обмеряя землю, не верил даже в пользу своей работы. Свою солидарность с трудящимся населением Отто Ив. выражал не громкими воплями о грядущем счастье всего человечества. Не знаю предыдущей его жизни, но месяц тому назад, когда он уже хорошо знал, что скоро умрет, он занимался изучением глинобитных построек, жилищ для тружеников. По одному этому интересу накануне смерти можно видеть, куда направлена была любовь О. И-ча: к трудящемуся человеку.
Этот скромный труженик проявил себя настоящим героем в борьбе со смертью. Я был у него за неделю до смерти, он мне сказал, что умирает. «Боитесь?» – спросил я. Он замялся. «Страх смерти, – сказал я, – охватывает, когда теряются силы». Ему очень понравилась моя мысль, он живо сказал: «Меня мучит, что придет день, и я не в состоянии буду подняться и убрать за собой». Вот какой был сильный человек, он боялся лишь стать в зависимость от других. Он думал о постройке жилищ другим, но других для себя стеснять не хотел.
Знаете, мы рано или поздно все умрем, и каждый из нас, если только не имеет твердой веры в Бога, непременно станет одинокой душой перед смертью. Родные, близкие тут не помогут: их дело жить, а умирать будешь непременно один. Дай Бог, чтобы каждый из нас мог так твердо стать перед лицом смерти и перенести все мучения с достоинством человека. Мир праху его. Со святыми упокой.
Левина болезнь. 5-го Января, в крещ. сочельник Лева ездил в Батищево… и, вернувшись, жаловался на боль около сердца. На другой день боль перешла в плечо (под мышку), мы опять поехали в Батищево. Боль продолжалась и перешла в правый бок. 7-го мы вернулись в Иванихи, Лева продолжал чувствовать боль и ночь не спал. 8-го то же самое, 9-го тоже. 10-го в понед. фельдшер дал ему какую-то микстуру, и ночью Лева потихоньку от нас выпил ее очень много. 11-го спал долго днем и проснулся с бредом, лицо серое и сказал: «Папа, мама, вы здесь, как хорошо, что вы здесь». После этого началась спячка. 14-го в пятницу возили его на ст. Дорогобуж к врачу Смирновой, после чего ему стали давать капли (?), яйца, молоко, сахар. Улучшение питания не улучшило здоровья, сон увеличился, дрожание рук усилилось. В среду 19-го привез доктора, после чего перестали Леву вызывать на прогулки и к столу, он лежит. С вечера 19-го стали класть ему на голову пузырь со льдом. 20-го с утра положение улучшилось: улыбался, шутил с Яриком, читал больше часа Кольцова, в течение дня много беседовал с нами и днем спал мало. Самочувствие: говорит, что через две недели встанет. 21-го – как вчера, разве чуть-чуть хуже: заснул днем и только вечером проснулся с восклицанием: «Разве это не утро?» Ночь спал тревожно, с бредом, вероятно, потому, что переспал днем. 22-го почти весь день не спал и читал, лежа, книжку. Ночь спал глубоко.
5 Февраля. Лева просыпался медленно, но когда проснулся, быстро встал и вышел к чаю. Появились обычные резкие движения руки, улыбался, рассказывал про охоту, глаза приобрели обычное осмысленное выражение и вообще был утром за чаем похож на мальчика, на прежнего Леву. Полная надежда, что ужасная советская болезнь миновала – подарок мне в день рождения моего: 49 лет. И сам я видел в эту ночь сон хороший, будто бы в нашем старом доме я с мамой перехожу из комнаты в комнату, и так мне хорошо, будто становлюсь на свое место, как-то очень ладно прихожусь ко всему, и все вокруг детское: и звук веялки, и распоряжения Ивана Мих. Особенно понравилось в комнате Лиды – тут жить! Мать сказала: «Вот мы все думали, как велик для нас дом и как он теперь уменьшился; дома от времени всегда уменьшаются, вот посмотри, какой он будет маленький лет через двадцать пять».
О «Мише» все больше выясняется, что все иллюзии изжиты, и, если устроить ее, то одной ей будет много лучше, что я ей в тягость.
7 Февраля. Пишет Разумник с торжеством, что Ремизов раскаивается, что убежал за границу.
Дорогой Р. В. {133}
6-го Января (Крещение) мы с Левой собрались уезжать, он в Москву продолжать ученье, я в Питер к Вам, и вот вдруг Леву задергало, и он уснул и спал непробудно две недели. Теперь он встал, жизнь его, кажется, вне опасности, но совершенно разбит, и лечить его придется очень долго. Это болезнь на почве голодания в Москве <1 нрзб.>– неизвестная в медицине, новая советская болезнь «спячка». Не знаю уж теперь, когда мне удастся выбраться. Ехать вообще риск – по нашей дороге свирепствует тиф. Но я бы ни на что не посмотрел, если бы имел в виду большее, чем издание «Чертовой Ступы» (ведь когда-нибудь все равно издадут) и драгоценного свидания с Вами и Питером. Что же это большее? Это очень трудно объяснить после 5-ти летнего перерыва в наших беседах, но я попробую. Видите что: земля наша лежит без связи (недаром же и крестьяне стали индивидуалистами и разбегаются на хутора); есть в нашей жизни какое-то чудище, перед которым всякая попытка связать что-нибудь, соединить кажется мне, человеку на границе старости, – наивной. Отчего у меня и перо выпадает из рук, отчего и Ваши Вольфилы и проч. (вся Ваша Петербургско-эмигрантская жизнь) кажется дымом. Вообще вас всех, ученых, образованных и истинных людей в Петербурге, я считаю людьми заграничными, и вы меня маните, как заграница, как бегство от чудища. (Что Вы спорите с Ремизовым, где быть, в Питере или за границей, мне кажется делом вашим семейным.) Много раз я пытался уехать за границу (или в Питер), и каждый раз меня останавливала не мысль, а чувство, которого я выразить не могу и которого стыжусь: оно похоже на лень, которую Гончаров внешне порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало, однако, и больше «лени» этой: Чудище имеет в себе змеиную притягательную силу, всматриваешься в него, и тянет, а там, за границей – шоколад, чай с сахаром, сигары, Вольфилы, издания, щекот свободы и самолюбия и главное, что при госуд. пайке возможность соединять мыслью миры, подумаешь о загранице, и как будто трудно пасьянс сложить. Вы не думайте, что в этом состоянии я погиб окончательно, нет! я надеюсь найти выход в опыте, вот, думаю, поеду к Вам и найду там то «б о́льшее», чего я не вижу здесь, потому что, в конце концов, с головы же мысль идет, а не с брюха. Ничего не значит, что все, кто приезжает от вас к нам (например, я видел летом Б. М. Энгельгардта), только подтверждают бессвязность и оторванность вас, – мои глаза совсем другие, я могу увидеть такое, что вы сами не видите (т. е. это такие мои мечты, а не гордость). Другое утешение мое чисто обывательское, я думаю, что рано или поздно Чудище «кончится» и мы все свяжемся. Почему же, спросите, я не думаю, чтобы кончить Чудище? видите, это нельзя сделать одному, я все пробовал, нельзя писать, – я говорил так, что дети бежали учиться в Москву, как мы, дети, бежали в Америку, – и возвращались разбитые, в 70 лет старики, как мой Лева говорил, на могилах – все плакали, а возвратясь домой, напивались самогону и опять смеялись, я все пробовал – не соединяются. А если в этом житейско-тайном и обыкновенном деле люди не соединяются, то как я могу говорить о соединении на поверхности (разные там партии и т. п.). Вот почему я не пробую Чудище кончить и мечтаю, что оно само кончится. В этом смысле только я и ценю, напр., слухи об изданиях и что можно продать пьесу и т. д. Получишь от Вас письмо, обрадуешься – еду, еду, еду! потом раздумаешь о Вашей двойственной природе (Андрей Белый и курсистки) – нет! подумаешь, Вольфил, издания – это у него курсистки, а внутри – темно для меня; потом я знаю, что Вы человек практический, пчелиного свойства, и я нужен для Вашего улья, это хорошо и метко и я тут могу: Ваш улей я вижу, но не вижу пасеки. Что, если бы Вы хоть два слова написали о пасеке, как бы Вы меня обрадовали.
С переездом в Иваники создалось так, что у меня нет ни одной книги (кроме Ключевского и детских учебников), нет ни одной газеты (даже «Известий», даже сельскохозяйственной), нет ни одного человека, мало-мальски меня понимающего (кроме больного Левы), – можете себе представить, как я радуюсь письму. А еще, если бы книжки прислали от какого-нибудь автора в подарок, как раньше делалось?
Задумал я, было, составить книгу под общим заглавием «Чертова Ступа» – первой поместил бы сцену (пьесу), потом показал бы все пережитое (многое написано в отрывках), да поработаю, поработаю и оборвусь – нецензурно выходит (напр., как опускают в прорубь мужика при взыскании чрезв. налога), скажут, что это я против существующей власти выхожу, а не против Чудища. Между тем я против существующей власти не иду, потому что мне мешает чувство моей причастности к ней. В творчестве Чудища, конечно, участие было самое маленькое, бессознательное и состояло скорее в попустительстве, легкомыслии и пр., но все-таки… власть эта уже, так сказать, последствие, нагар, пустяковый шлак, всплывающий наверх (кто не засыпал, читая экономические фельетоны Ленина, кто не смеялся над Луначарским и над селянским министром), не в этом, конечно, дело.
Итак, я жду, что Чудище кончится, и жду от Вас узнать, во-первых, отличаетесь ли в этом ожидании, по существу, от меня, а если не отличаетесь, то, во-вторых, нет ли каких признаков нового времени. Чрезвычайно интересует меня затея Ремизова, не могу понять, – что его гонит из-за границы и что его туда погнало, кажется, человек умный и с бухты-барахты ничего не делает. Микитов нам писал, что там очень хорошо зарабатывать и жить можно, – а разве это мало? Если тоска по родине, так Петербург современный та же эмиграция и отвлеченность (Вольфил). Если Вы мне ответите, то я напишу Вам следующее письмо в защиту социализма, потому что я уверен, что в Вашем улье многие считают провал советский – провалом идеи социализма.
Знаете, меня так подмывает, что я, может быть, и не дотерплю Вашего ответа и примчу.
Второй присест
8 Февраля. Метель занесла пути, так что даже нельзя за 1 ½ версты дойти снести письмо, делать нечего, продолжаю о пасеке Вашей. Когда Вы пишете, что вот такой-то писатель написал замечательную книгу (Есенин, Белый и др.), то я не придаю этому, как раньше, большого значения, потому что зима, пчелы не летают и все происходит в Вашем улье при подкормке сахаром. Во всей огромной стране, кроме Вашего Петербургского омшаника, снежное кладбище, в больницах нет лекарств и дров, школы не учат, фабрики не работают, крестьяне пердят на печках, чиновники воруют и лгут, ни одного честного человека вокруг себя я не вижу (кроме докторши Смирновой, – но она стонет).
Третий присест
Вся интеллигенция страны собралась в два гнезда – за границей и в Питере, одно эмигрантское, другое академическое, и спор идет между этими двумя обществами, вся остальная страна живет про себя. Попасть туда, наговориться, начитаться – как хорошо! и если при этом не забыть себя со своей пустыней, то может быть и очень даже полезно. Непременно надо поехать… почему непременно? а если заняться этой агрономией и остаться навсегда, как Энгельгардт?
10 Февраля. После многих дней метелей сегодня глянуло солнце, и в час-два все деревья покрылись густым инеем. Был сверкающий полдень, и тепло от солнца было очень приятно, мы долго грелись на солнце. Отгоняю мысль о необходимости ехать – очень опасно ехать, свирепствует тиф, умерших раздевают и голых выбрасывают из окон, ну, как тут ехать!
12 Февраля. Газеты выписаны, но не получаются, потому что говорят, что по дороге выкуриваются. Ничего не знаем, но без газет известно, что в Генуе будет продаваться Россия. Чудовищно звучит, но есть утешение, что и мы бы, став теперь во власть, делали бы то же. Еще мы знаем, что прошлый год управляющий Совхоза получал паек 2-й категории, а рабочий 1-й, теперь управляющий получает ровно вдвое против рабочего.
15 Февраля. Сретенье.Дня три уже стоит оттепель, ворона кричит, скоро весна.
Продолжение «Мать земля»:
«Перебили меня писать, оторвался, посмотрел со стороны и оторопь нашла: ну, что я описываю, какие это „герои“ {134} , из обыкновенных обыкновеннейшие люди, дети моей милой старушки Ник. Мих. и Лид. Мих. Алпатовы…»
Конец статьи об Энгельгардте {135} .
– Он был предтечей будущего строительства той обыкновенной жизни земли, которая бывает землей героев, чем сильнее эта земля, тем сильнее и герой, так или иначе, прямо или косвенно, только всякий герой, всякая личность нуждается в этих питательных соках земли. Нужно быть снисходительным к этим миллионам людей, которые размножаются и хотят непременно быть счастливыми на земле, нельзя называть это обыкновенное чувство жизни буржуазностью или мещанством, подменяющим Бога кумиром, но если все привыкают к этим словам и они дают вам понятие о силе жизни земли, росте ее населения растительного, животного и человеческого, то пусть будет по-вашему, и я скажу, что Энгельгардт был предтечей идеи буржуазной революции в России.
16 Февраля. Во вторник, третьего дня, Лева пришел весь мокрый – много бегал на лыжах, на другой день я заметил в нем перемену к худшему: нервность, затемненный взгляд и сосредоточенность, сегодня утром появился характерный признак его болезни – руки с опущенными ладонями и спех: хватил чаю и на улицу и т. д.
История купеческой шубы.
Смерть Лиди: тиф, больница, кладбище и город.
18 Февраля. Н. М. был человек очень хороший {136} , но, как все хорошие люди, он не знал, что хорош, и всю жизнь свою мучился, что он не такой, как настоящие люди. Где эти настоящие люди, кто они такие? в жизни он едва ли видел, но настоящий человек был ореолом его личного существования; после в самые тяжелые минуты своей жизни он недоуменно меня спрашивал: если все кругом так безобразно, то откуда же пришло к нему, что есть какой-то светлый человек?
Из жизни его в это тяжелое время, когда преступление стало на место закона, у нас с ним был такой разговор:
– А как же Бог?
– При чем тут Бог, – сказал я, – как это у тебя Бог вспомнился, ты же Богу никогда не молился.
– Как не молился, – ответил он, – я всю жизнь свою постоянно молился, только и занимался этим, что Богу молился.
– Ты не веровал.
– Да кто тебе сказал, что не веровал? Неужели веруют и молятся только в церкви.
– Хорошо, но ты это в себе не сознавал.
– А зачем это нужно сознавать, это и нехорошо сознавать.
Мы сидели на лавочке. Я поднял с земли пуговку штамповочную с тонким рисунком на ней, я думал, сколько тут было лишней работы, и над чем, над пуговкой, тут и художник трудился, и литейщик, и фабрика, и конторщица, кто-кто только ни работал, и над чем, над пуговкой!
– Совершенно лишняя работа! – сказал я.
– А я разве не понимал всегда, что это все лишнее, и разве я за это сержусь, за то, что они против этого идут? и против попов и дворян.
Еще из его жизни: теперь, когда я привожу в порядок свои записки, приходится мне упомянуть и про четверть спирту, зарытую нами на огороде, как она росла в цене, и Н. М. время от времени высчитывал: до 1000 р. дойдет! Бедный! теперь он в земле, и четверть его в земле, и цена ее по последнему моему подсчету уже 4 миллиона. Он копал в подвале яму в макинтоше и в нем же встречал на дворе комиссаров с улыбкой и любезностью мужика к барину. В последние дни носил на себе шесть пар белья.
Как подумаешь иногда, усталый, каких маленьких людей собираюсь я описывать, – оторопь берет: зачем, кому это нужно, и бросишь. А потом соберешься и думаешь, и опять за свое: большие люди, думаешь, сами расписываются на страницах истории и у них имеется множество слуг, которые не дадут им исчезнуть. Но тихий, скромный человек так-таки и сходит на нет, такой хороший, милый мне человек – и вот нет никому до него дела. Досада вызывает новые силы и думаешь: а вот нет же, не дам я тебе от нас исчезнуть. Живи, любимый человек, живи!
Мы расставались с Левой на перекрестке, он шел в училище, а я на базар, расставаясь, целовались, и он мне говорил:
– Ну, папочка, смотри, не продешеви.
Я шел на базар и вдруг, смотрю, он бежит ко мне.
– Что ты?
– Давай еще раз поцелуемся (мальчик возвращает отца своей матери).
Сегодня ночью я проснулся с мыслью о возрождении, и долго-долго думал об этом в связи с прошлым России, и вспомнил Мережковского. Слышу, Лева бредит во сне: «Возрождение, возрождение». Бредил ли я раньше пробуждения и так он подхватил это слово? Не знаю, как объяснить иначе?
Богатство правительства заключается в свободе граждан и свободе мнений – это мера общего запаса свободы. Наше правительство теперь самое бедное в мире.
20 Февраля. Февраль – Весна света, март – воды, апрель – земных покровов, май – деревья.
Газеты не получаются, потому что по пути выкуриваются, ничего не знаем. Сын кузнеца, Миша, рассказывал, что англичане представителей Ленина не приняли, а пожелали иметь дело с самим Лениным, и Ленин согласился было, но конференцию отложили до марта. А Вл. Сем., семинарист, учитель, другое рассказывал, будто мужики ездили в Смоленск на собрание, и там вышел какой-то седой и спрашивал мужиков: довольны ли они нынешним правительством?
– Как же быть нам довольными, – отвечали мужики… (перечисление болезней и пр. бед).
– А желали бы царя?
– Как же нам не желать…
– А будете платить подати?
– Будем.
– И будете…
– Будем… и т. д.
– Ну, так будет вам царем великий князь Константин Константинович.
На письмо Семашки:
Благодарю Вас за милое письмо, Ник. Алекс., только что-то Вы ничего не пишете о лекарстве (Phitin), которое я просил. Впрочем, теперь не беспокойтесь, я узнал, что Phitin продается на рынке в Москве, и с оказией заказал. Что это вздумалось Вам называть меня саботажником и еще несчастным – я, во-первых, служу агрономом на знаменитой Батищевск. Опытной станции, во-вторых, и пописываю, а что не печатают, то это не по моей вине, мои произведения, с одной стороны, считаются контрреволюционными, а другой стороной, их за свои сочтут лишь враги. Для образца и памяти посылаю Вам свое последнее произведение. А что касается «Шиповника» {137} и пр., то друзья по перу давно уже зовут меня и вот как стараются, что я сделал было весною глупость, собрался было недавно и выехать и ездил в Дурово целую неделю и не мог попасть на поезд: ну, битком, битком и драка какая. Так ничего не добился и плюнул. Тут еще знакомая врачиха про тиф наговорила (у нас все возвратный). Трудно это. И чем жить в Москве, даже остановиться негде, больной любимый мальчик на руках, жена больная, ну невозможно! Конечно, если Вас хорошенько бы использовать, то можно бы все сказать, да ведь Вы догадываетесь, какой я насчет помощи капризный (порошку, лекарств – это можно, ну, а о водке – ни полслова). Пишете, что я «несчастный». Как все, дорогой мой, порядочные люди, часто по глупой честности. Вот и Вы тоже, как подумаю про Вас другой раз ночью, какой Вы, должно быть, несчастный, так и твержу до утра: счастлив твой Бог, Пришвин, вот как счастлив! <Далее зачеркн. 8 строк>.
Ну, привет мой, позвольте еще раз назвать <3 нрзб.>, вот потеплеет, поубавится зараза, прицеплюсь на поезде к буферу, и в утренние часы мы с Вами побеседуем, – просто беда! токи подходят, а порох весь.
22 Февраля. Все эти письма к Семашке кончились следующим деловым:
Пользуюсь Вашим предложением устроить моего сына Леву в санаторий: после «спячки» у него осталась психостения, и его необходимо показать врачам в Москве, потому что здешние не знают этой болезни. Вместе с тем я охотно прекращу свой литературный «саботаж», если Вы дадите мне возможность побывать в Москве: в Дурове я две недели не мог сесть на поезд и получил притом ушиб в нос. Итак, вот что мне нужно от Вас: пришлите мне удостоверение, адресованное в Дорогобужский жел. дор. приемный покой, что сын мой, Лев Михайлович Пришвин, назначен для излечения от психостении в такой-то санаторий и Вы просите оказать содействие отцу его, М. М. Пришвину, доставить его по назначению.
Еще надо сказать, но как, это я не знаю, чтобы я мог на несколько дней приткнуться и кормиться, напр., вместе с сыном в том же санатории, так как у меня до продажи моей литературы нет никаких средств существования. Через три дня пребывания в санатории я поеду в Петербург, где удобно при <1 нрзб.>мою пьесу, и через две недели вернусь и захвачу назад в Дурово своего сына. Следовательно, кроме удостоверения в Дор. приемный покой, нужна еще какая-то записка от Вас, открывающая двери в Москве. Или я в этом поезде захвачу непременно тиф, от которого вымрет вся моя семья.
Ни в учительстве, которым я занимался, пока не замерла школа, 1 ½ года, ни в агрономии (теперь), ни в литературе субъективного саботажа («злостного») у меня не было, и его вообще нет: дайте возможность работать, и никакого саботажа не будет.








