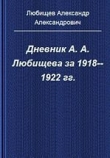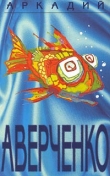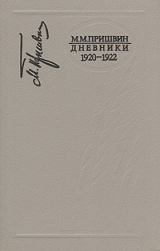
Текст книги "Дневники 1920-1922"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
Почему это так? вот второй странный вопрос.
Странный?
Очень, потому что это беспутные наследники расточают богатство отцов, а у меня все сердце об отцах изболелось.
Земля наша вся растрескалась, покрылась оврагами, рождая великих людей, наших отцов, земля устала, мы, наследники величайших творцов духа, должны вернуть земле ее утраченное, а мы об этом не думаем и сами все метим в великие люди.
А что получается?
Вижу большую дорогу нашей печальной страны, и по ней едет обоз, впереди на солнце блестят кресты церквей, звонят к обедне; мужики звон не пропустили, перекрестились, но и заметили, что из города навстречу им бежит собачья свадьба, и один, подумав, сказал: «Кобели за сукой бегут, а мы, братцы, за какою сукой бежим?»
И я тоже спрашиваю вас об этом, братья писатели, за какою сукой бежим?
24 Декабря. Христос как данное из пережитого, церкви, родины, культуры, семьи – что это? Слова матери: «Не знаю, а мне кажется, Христос был очень хороший». Клавд. Вас. сказала: «А мне кажется, что нет лучше… что может быть лучше русского человека? ха-ар-рроший человек». В этом Христе все, что привыкло, смирилось, помирилось, сошлось в чем-то, тут много жалости, сострадания, милостыни и «по человечеству».
Импровизатор Зубакин Борис Михайлович:
А там, на севере, олени
Бегут по лунному следу,
И небеса в своих коленях
Качают нежную звезду.
25 Декабря. Именины Разумника – читал ему «Раба».
Зеркало – все погубило: какая-то надмирная женщина (звезда) – одна, она родная, но она и надмирная, это не просто женщина, женщина с кривыми чертами лица, и только глаза прекрасные – женщина, товарищ и друг, а если просто женщина, за которой ухаживаешь и которая достается на счастье этой жизни, – тут зеркало и губит: ты не такой, как все, и она тебе не достанется!
26 Декабря. Читали изумительную пьесу В. Гиппиуса. Мысль ее: путь человеческого рода, начиная от семени Авраамова, движется жертвою: человек жертвует и тем продолжается. Самое близкое человеку, его любовь, приносится в жертву Богу, и за то род продолжается по пути создания существа, которое в состоянии всем пожертвовать и соединить в духе с Богом весь род человека и тем кончить путь. От времени Авраама автор пересматривает материалы жизни в двух образах: св. Девы и жены. Так он подходит к Иосифу Прекрасному, который поддается соблазну, обрывает жертвенное излияние семени, насыщает народ хлебом и становится не рабом Божиим, а вождем материальных вожделений народа. Это произведение – первая (единственная) попытка стать на вершину пирамиды современности и так посмотреть sub specie aeternitātis [17]17
С точки зрения вечности ( лат., выражение из «Этики» Спинозы).
[Закрыть]
Мистерия была прочитана в обществе людей, бесконечно потерявших всякое религиозное чувство, совершенно растерявшихся, заблудившихся своей эмпирической индивидуальностью, разбитой, разорванной на клочки жизнью. Были такие, что дико рычали, как собаки, воющие на луну от тоски, рычат, когда слышат приближение шагов человека. Были ученые, смиренно ломавшие голову над решением какой-нибудь трудной шарады. Были самодовольные московские, которым нужно, чтобы вынь да в рот подай.
В этой вещи все изумительная, сила чувства, интеллект, талант, мастерство, и только нет чуда такого, чтобы мы, мертвые, пробуждались. Рев этих мертвых был так силен, что и меня заразил, и негодование кипело у меня в душе – на кого, на что? Я не знаю.
Любовь к девушке длинно-томительная окончилась совокуплением, и девушки больше не стало. А любовь к женщине, случайная, короткая, превратилась в настоящую любовь на всю жизнь, потому что понравилась, захотелось еще к ней прийти, привязалось, и стало жалко бросить друга.
Разумник любит в Мстиславском перманентного революционера, то есть человека, который сегодня говорит «нет», и завтра «нет», и послезавтра «нет», и никогда не складывает это «нет» в сумму. «Нет!» – чтобы на нем отдохнуть и повластвовать.
Я влюбляюсь, Разумник любит, Мстиславский не любит, поэтому: я – художник, Разумник – моралист, Мстиславский – революционер (редакция «Основ»).
А Ольга Форш – чумичка и кривляка.
Власть является у людей, когда они делают не свое дело (заключение по поводу председательства Мстиславского на чтении пьесы Гиппиуса), – а свое делоесть и Божие дело, не свое дело – не Божие. Человек власти – всегда ограничен. Если люди понимают друг друга, то исчезает и то, что отличает власть – насилие одного над другим. Понимание дается вниманием, внимание – любовью.
В эту ночь мне хотелось устроить остальную свою жизнь где-то в столичной келье, в ней отказаться навсегда от всякой мечты о своем счастьи (чтобы и мысль не приходила в голову) и открывать сокровища любви, скрытые в разных незаметных личностях.
Хорошая тема: люди возле книги, те святые слуги культуры, перенесшие свое религиозное чувство в дело культуры (вот почему человек-убийца пошел теперь вместо монастыря в университет).
1-й пример: Степан Ильич Синебрюхов из «Колоса».
(Анкета: прошу вас вдуматься поглубже в те жизненные обстоятельства, которые привели вас к занятию по книжному делу, и дать ответ автобиографически.)
Комментарий
Начало 1920 г. застает Михаила Пришвина на родине в Ельце, где он работает вначале библиотекарем, а затем преподавателем словесности в бывшей Елецкой мужской гимназии (из которой был исключен в детстве). В июне он уезжает в Смоленскую губернию, на родину жены, где снова учительствует и занимается организацией музея усадебного быта в бывшей усадьбе купцов Барышниковых в селе Алексино Дорогобужского уезда. Бытовая жизнь писателя в это время исключительно трудна. Дневник не только остается единственной формой его литературной работы, но и тем единственным, что связывает его с жизнью («Мои записочки в эту книжку – последние признаки жизни»).
В 1920 г. изменяется масштаб осмысления Пришвиным революционной действительности. Если в 1918 г. революция обсуждается в дневнике как социальная катастрофа, которая ведет к уничтожению всех форм материальной и духовной жизни, а дневник следующего, 1919 г. представляет собой, может быть, уникальную попытку художника найти выход – творческий и экзистенциальный, актуализируя традиционные принципы старой культуры, то в конце 1919 г. становится очевидным, что преодолеть трагедию реальной жизни ему не удается.
В дневнике 1920 г. Пришвин выявляет глобальные процессы, которые охватили весь мир и получили в России после революции небывалое ускорение: уничтожение девственной природы, гибель культуры, распадение человека. Он рассматривает теперь революцию с точки зрения судьбы культуры, в контексте кризиса гуманизма в целом («весь христианский мир в тупике»).
В дневнике продолжается диалог с Александром Блоком, начатый в 1918 г. полемикой по поводу статьи Блока «Интеллигенция и революция». В 1919 г. в докладе Блока «Крушение гуманизма» (опубликован в 1921 г.) получает дальнейшее развитие органическая концепция культуры, отождествляющая природу и культуру («Культуру… несет на своем хребте разрушительный поток»). Пришвин, выключенный из столичной литературной жизни, касается того же круга проблем.
Так же, как и Блок, Пришвин рассматривает революцию как следствие нарушения равновесия между природой и культурой, однако соотношение природы и культуры у них различно. Для Блока важен пафос могущества природных стихий, природа для него – источник творчества и мощная творческая сила. Понимание природы у Пришвина более дифференцировано: природа может обернуться и оборачивается своей деструктивной стороной, ее победа становится началом космического разрушения. Революция связывается с идеей уничтожения культурного начала и победой стихийного, разрушительного. Эта идея выражена в дневнике в образе зверя: революционная стихия не только несет в себе принципиально внекультурное начало, но и приводит к обнажению страшной внутренней природы человека («революция – освобождение зверя от пут сознания»).
В поисках истоков захлестнувшего жизнь «стихийного зверского начала» Пришвин обращается к глубинам народного сознания. Надо сказать, что в разные годы в дневнике, начиная с раннего (1905–1913), Пришвин отмечает характерное обращение народной души к идее самобытной автономной жизни: сознание, претендующее на самодостаточность, не только в определенной степени агрессивное всякому культурному построению (науке, книге), но и принципиально независимое от традиции, культуры, веры. Тема возвращения к «давно забытому старому древнему», «к вопросам первобытных времен» появляется и в дневнике 1914–1917 гг. Революция обнажила это начало, лежащее под культурной оболочкой и сдерживаемое культурой. Пришвин видит в борьбе с культурой соблазн русского сознания идти своим путем, обойти культуру, пренебречь ею, видит неизбывную мечту о самобытном пути России. Теперь, в начале 20-х гг., он записывает: «Существующее положение: организация воров и разбойников, отстаивающих самобытность России».
Писатель обнаруживает в современности воспроизведение мифологического сюжета, связанного с представлением о табу на убийство зверя («зверь, убитый в природе… переселяется в душу человека»). Он понимает, что зверь был хорош как оппозиция культуре («культура вопросы ставила, и мы к зверю шли за ответом – зверь все знает»), однако в контексте русской революционной действительности образ зверя указывает скорее на недостаточность прежней культуры, которая оформляла внешнюю жизнь, забыв о внутренней природе человека. Происходит выплеск животных сил, уничтоживших весь культурный слой – в дневнике возникает целый ряд образов: свинья, бесы, обезьяна как проекция человека в природу («Горилла вырвалась из клетки»). Сама логика развития культуры приводит писателя к необходимости понять и объяснить причины нарушения гармонии между человеком и природой. По Пришвину, развитие культуры не внесло принципиальных изменений в первобытный характер связи человека с природой («Почему наш крестьянин не сажает деревьев – он боролся с лесом и сейчас борется: лес – бес»). Человек продолжает видеть в природе «могучего, страшного противника», что с неизбежностью ведет к уничтожению природы («как давно мы покорили природу, загубили леса, распугали, разогнали птиц и зверей»). Революция стала мощным катализатором этого процесса («в один-два года эта могучая пустыня покрылась паутиной исполкомов „организованного пролетариата“, лес, вода, земля – все изгажено»).
Пришвин видит, что происходит не только «поглощение» природы человеком («только в ранние утренние часы еще можно подслушать ее… понять то прекрасное, что осталось еще вне человека»), он обнаруживает параллельный процесс нарастания зла в самой человеческой природе («ты, человек, покоряешь природу и воспитываешь в себе небывалого зверя, имя которому Легион»).
Новый статус природы («теперь природа умоляет о защите», «она как малое дитя») требует глобального изменения в отношении к ней человека – требует культуры. В современной России история идет вразрез с этим требованием («разрыв с общемировой культурой и остановка»), и на этом фоне «европейская мещанская культура» оказывается единственной культурной традицией, противостоящей разрушению.
В 1920 г. Пришвин большое внимание уделяет анализу государственной власти, характер которой определяется природой революции («кто взялся за государственную власть, должен действовать и как животное, и как зверь»). Новая власть, провозгласившая идею служения человеку и построения прекрасного, гармонического общества, на деле лишь бесконечно углубляет кризис гуманизма и отдаляет «мечту поставить человеческое дело над государственным» («гуманизм… остается в воздухе как апокалиптическое пророчество»).
Надо сказать, что Пришвин далек и от идеализации монархии. Он отмечает преемственность между старой и новой властью в России («насилие над обществом совершается в одинаковой мере»), между крестьянской общиной и коммуной («коммуна есть детище общинной деревни»). Этому писатель противопоставляет не укладывающееся ни в какое государственное устройство «отличие… каждого Ивана от другого», неисчерпаемость и богатство личности, которая, «отдавая Кесарю должное», принадлежит иной силе – «Бога истинного мира». Пришвин полагает, что принципом организации государства должно быть не насилие, а охрана собственности, в которой выражается индивидуальность («чувство страха за свое и потребность оберегать его создает государство»). Новая власть, аккумулирующая все хаотическое, деструктивное, становится преступной, и мотив преступления связывается с Достоевским: Пришвин в это время читает роман за романом («Пересмотреть всего Достоевского для уяснения Ленина»).
Хотя новая власть для Пришвина абсолютно неприемлема и враждебна ему («Коммунизм – это система полнейшего слияния человека с обезьяной»), он не может не видеть, что идеи коммуны глубоко проникли в народную душу («Существует представление о настоящем большевике», «дали хороший идеал коммуны, только не выполнили»). Одну из причин этого Пришвин видит в склонности русской души «создавать легенду, обманываться – заменять Христа Антихристом». В дневнике 1914 г. творчество легенды связывается с категорией женского, со стихией бессознательного. Теперь легенда относится к сфере мужского творчества и оборачивается утопией («Сказка о голоде – это сытая коммуна», «создадим теперь новую величайшую сказку о голоде»).
В результате культурной катастрофы утрачивается идентичность личности («я – не я»), происходит распад субъекта культуры и тем самым уничтожается сама возможность существования культуры, основанной на свободной личности («свободная личность получила отставку без пенсии»). Пришвин не умозрительно постигает результаты разложения человеческой личности на всех ее уровнях, а чувствует и переживает это лично («почему нет дела и все стоит… я не может быть не я ни одного мгновения, если оно не я, то и спросу быть не может»). Писатель более не чувствует себя деятелем культуры («я – вполне краснорядец, возвратился в лоно отчее») – возвращение «к отцам», как и любая регрессия в прошлое, невозможна, так как приводит к утрате культурного статуса.
Распадение личности становится звеном в глобальном процессе распада целого, который писатель наблюдает в России начала века и о котором пишет и в раннем дневнике, и в своей книге «У стен града невидимого. Светлое озеро» (1909). Этот процесс, связанный с ростом индивидуальной свободы, не компенсировался в России ростом общественных связей, приводил к освобождению глубинных природных инстинктов человеческой души и возвращению к мифологическим схемам поведения, к архаическим, примитивным формам жизни.
Народное и сектантское сознание начала века поражало Пришвина разделением на плоть и дух, жизнь земную и небесную, так, что одно не мешало другому. После революции этот же процесс дальнейшего дробления («разделение в самом человеческом») приводит к полному умалению личности: трансформация человеческой души становится условием возможности жить («у них души нет, и оттого они действуют», «души давно умерли», «душа, как холодная печь»). Речь идет о гибели фундаментальных ценностей христианской культуры; размываются и опровергаются самой жизнью ее основные принципы, повсеместно побеждает сознание левого разбойника – сомнение или неверие («если ты Сын Божий, спаси себя и нас», «неверие – состояние души», «Храм забит»). Революция становится вехой в процессе «крушения гуманизма», и в дневнике 1922 г. писатель уже подводит этому некоторые итоги: «Кризис гуманизма? – почему? Потому что он не может. Выход из всякой беды – дело».
Жизнь становится тем критерием, с точки зрения которого подвергаются сомнению основы культуры, выявляется ее внешний, формальный характер («жизнь существует вопреки логике»). Введение критерия жизни, формально не определяемого, указывает на разочарование в рациональном характере старой культуры: она сдалась под напором жизни, и результат не замедлил явиться («В наше время царит обезьяна, осуществляющая идеалы Христа»), а на месте личности обнаруживается «социальная вошь с теорией классовой борьбы».
В этой связи в дневнике воскрешается дух Розанова с его «страшными» вопросами к христианству и христианской культуре («Может быть, Евангелие – самый страшный губитель жизни»). Пришвин развивает розановскую традицию в литературе, ориентирующуюся не на уход от действительности, а на реальность разлагающегося бытия и поиск современным сознанием ответов на вопросы, поставленные жизнью («не задумываясь, я дал бы пощечину тому, кто сказал бы мне, что „не единым хлебом жив человек“»).
В свете совершившейся трагедии переосмысляется как классическая русская литература («ну, Толстой, Достоевский? Ну, Пушкин? вставайте же, великие покойники, какие вы в свете нашего пожара, и что есть у вас против него»), так и литература начала века («Символисты утратили чувство жизни»).
В это же время Пришвин обращает внимание на два основных мотива русской жизни, которые также подвергаются трансформации. Первый из них традиционно связывается со странничеством («постранствовать… Богу помолиться… попытать счастья на новых местах»), второй – с возвращением в отчий дом («вернуться в дом родной, к родному уюту и сесть на доброе дело» – ср.: Г. П. Федотов «Русский человек»). Судьба России и русского человека, как уже не раз в дневниках Пришвина, соотносится с евангельской притчей о блудном сыне.
Пришвин понимает, что революция не просто разрушила жизнь – произошло уничтожение географического пространства России («будто частая сеть накинута на все это пространство… окна выбиты, двери растащили… один прохожий остановился на углу, помочился, другой за ним остановился… поганое место»).
Один из важнейших символов дома – наполненность бытием – меняет знак на противоположный: наполненность небытием («мой флигель стоит в глубине двора по-прежнему… ничего ему не будет, и он есть ничто»). Оппозиция бытия и небытия выявляет метафизический характер происходящего.
Тем не менее именно в эти годы Пришвин, лишенный дома в прямом смысле слова – в Хрущеве и дома в России, приходит к ясному для себя выводу, что родина – такая, какая она теперь есть, – все равно его дом. Несколько необычно для себя, скорее по-розановски, отмечает он в дневнике, где пришла ему в голову эта мысль: «Возле Кремля. Казалось, я пролетарий, у которого нет ничего, и вдруг представилось, что не добровольно, а насильно я должен покинуть родину, и оказалось, что родина – дом мой, и мне предстоит новое разорение».
Задача поиска и обретения дома связывается с исторической судьбой России; речь идет теперь не о доме, данном человеку в обжитых пространствах своей родины, как было прежде, а о доме соз-данном – жизнь поставила задачу обретения, а в конечном счете, может быть, спасения дома, природы, родины.
Анализ категорий дома, пространства и времени связан с попыткой осознать новое положение человека в мире. Рушится вселенная как нечто родственное и понятное человеку: понятие дома Лишается содержания («пустое межпланетное пространство, пустое время, пустые дома»). Разрушение пространства и времени, так же как и распад личности, разрушает творческое основание жизни и саму возможность творчества («Наша жизнь безобразна – безобразна»).
В форме революции шел в России процесс распада традиционного общества – до уничтожения не только последних основ жизни, но и самого мира как целого («падают на землю старые небеса»). В этом контексте очень важным оказывается архетипический образ матери-родины, возникающий в дневнике. Сначала это сновидение, в котором в некоем мистическом единстве появляется мать, географическая карта и «внутренность чрева земли», а затем весь род преобразуется в равнину («И мать моя, и родня вся лежит как равнина»). Спустя некоторое время мотив родства, возникший во сне, развивается, и Россия, тоже умершая, оказывается в одном ряду с умершими родными («мои покойники родные начинают связываться со всей покойной Россией»). И под историческим развитием России подводится какая-то незримая черта («Россия-Эллада»), она становится идеалом далекого, невозвратного прошлого, то есть осмысляется как утраченная родина («Россия кончилась действительно, и не осталось камня на камне», «мы холостые граждане, у которых нет больше отечества»).
В дневнике этих лет подспудно развивается тема реабилитации понятия интеллигенции, обозначенная уже в предыдущие годы.
Пришвин, который пережил в молодости духовный переворот, связанный, в частности, с осознанием роли интеллигенции в русской истории и отделением от интеллигенции себя («я не интеллигент»), видит, что теперь, в обстановке складывающейся диктатуры атеистического государства, объективно возникает необходимость оппозиции власти: срабатывает некий закон духовной жизни, по коему именно русская интеллигенция, которая на протяжении своей истории всегда находилась в духовной оппозиции к власти, снова оказывается в своей исконной роли.
Еще в первые послереволюционные годы Пришвин отмечает расслоение в среде интеллигенции. Теперь оно оказывается принципиальным: интеллигенция, борющаяся за власть, соединилась с низшими слоями общества («нужны были особые условия для отвлеченной мысли, чтобы русский интеллигент подал руку уголовному»), а творческая интеллигенция причем она становится качественно иной («Теперь больше нет интеллигенции: она превращается в специалистов») – компенсирует явление зверя в новом обществе. Даже пресловутый атеизм интеллигентного человека перестает быть абсолютным («и вдруг у неверующего интеллигента православный порыв – откуда это?»). К этому он сам тоже причастен («В утренней молитве скрыта вся сила грядущего дня»).
В тексте дневника 1919 г. важную роль играет мотив молчания, с которым связан образ сфинкса («народ сфинкс»). В России традиционно носителем молчания, таящим в себе Слово, был народ. Теперь народ заговорил, причем заговорил варварским, первобытным языком («взяли верх самые дерзкие и заставили молчать всех других»), а интеллигенция замолчала («ни одной песенки не спето»). Революция оказывается гибелью природы, родины и народа – органической целостности, тождественной понятию России. Народ как носитель материального начала погибает, то есть оказывается втянутым в разрушительный поток революции. И этому писатель находит причину в недостаточности старой культуры («ему [народу – комм.] не хватает чувства вечности (небо)»). Хранителем духовных основ жизни становится интеллигенция («новый сфинкс», «сфинкс интеллигенции, может быть, что-то есть в ее молчании»).
В начале 20-х гг. Пришвин выступает в дневнике как историк культуры, отражая объективно ситуацию, в которой культурная история определяет жизнь каждого человека и России в целом.
Историческому процессу Пришвин находит аналогию в фундаментальных законах бытия. Он соотносит происходящее с онтологическим законом космической жизни: за революцией стоит нарастание хаоса, энтропии, и этому противостоит космос как явление личности, нарастание отличия, сложный порядок. Космос для человека утрачен – все внешнее разрушено, и мир теперь не пространство, где человек жил, мир становится более субъективным. На пустом месте начинает писатель поиск пути – для «морального человека», которому в революции «нельзя участвовать», для художника, для жизни в целом («начать что-то совсем новое, как будто нет и не было прошлого и только вечно новое начало жизни»). Это чувство жизни связывается у Пришвина с весной – вечно новым началом года.
Но речь идет не только о поиске пути в этом мире, но и о самом человеке. Роль человека во вселенной, весь смысл его существования заключается в противостоянии хаосу. Между тем выплеск мощных хтонических сил – выявление страшной внутренней природы человека – приводит к небывалому усложнению личности, смешению двух разнородных начал («обезы и челозы»), нарушению гармонии внутри человека. Вопрос о новом человеке, о сознании новой сложной личности стоял объективно («крушение гуманизма»), новая культура требовала нового идеала человека, реальной была потребность в новой концепции личности, которая у Пришвина вытекала из принципа ее органического роста. Из-за разрушения всех связей («Россия – клубок оборванных нитей») и враждебности окружающей среды личность уходит в себя и поиск человека обращается к глубинам собственного «я» («иногда пытаешься уйти в такие слои своего Ego, где действительность не властна»). Речь идет о новом типе человека, являющем собой образец строительства культуры внутри себя.
В этом свете понятен тот интерес, который испытывает Пришвин к философии Бергсона и Джемса, с их обращенностью к внутренней жизни человека и деятельному, прагматическому началу в нем («думал о прочитанном вчера у Джемса, о потоке сознания, и параллельно этому мне пришло в голову, что в сущности наш XIX в. был всецело занят исследованием внешнего мира, можно предполагать в результате этого нагромождения материальных ценностей пожар их (война), страшный духовный бунт (внутренняя сущность социализма) – все это в XX в. обратит ум человека внутрь себя», «Чтение Бергсона и Джемса… научные открытия путем интуиции. Не знаю, верно ли учение прагматизма, но я, не зная этого учения, именно им пользовался», «почему… повседневное называется низшим? не вся ли это тема революции»). В дневнике идет переосмысление интуитивизма и прагматизма, которые в первую очередь привлекают Пришвина тем, что вводят в философию понятие жизни как первоначальной реальности, некой органической целостности. Для Пришвина в это время жизнь – тоже единственная реальность: утрачена личность, но не утрачена радость жизни («Кто отымет у меня эти часы? какая власть, какой труд, какие заботы, голод – нет ничего на свете такого, чтобы лишить меня этой единственной радости»), не утрачено чувство ее абсолютной значимости.
В дневнике возникает целая гамма первичных интуиций о жизни – утрате и возрождении («может быть, идея бессмертия возникла как обобщение чувства жизни – рода, что один умирает, другой рождается», «Весна – вечно новое начало жизни»), об утре как рождении дня, о свете как рождении весны. Отношение к метафизическим глубинам бытия определяется переживаниями, связанными с понятиями жизни и природы («С природой возвращаются в жизнь краски и свет»).
Пришвин полагает, что новая культура должна строиться на иных принципах отношения к природе нового сложного субъекта. Культурная традиция, в которой природа была образом человеческих страстей, не смогла преобразовать их, и они отразились на природе и на душе человека. У Пришвина начинается разоблачение этого реликта мифологического сознания. Культура склонялась к внешнему нормированию жизни и вела к разделению на плоть и дух. В ней самой таился обман, который позволил человеку в конце концов уничтожить эту невинную природу и вырастить зверя в себе. Писатель отказывается от понимания природы как носителя низкого, зла, небытие оказывается не вовне, а внутри человека. В понимании Пришвина происходит отделение человека от природы. Мир человека и мир природы в дневнике противостоят друг другу, причем вину за это, вину за кризис культуры Пришвин возлагает на человека («мир здоров – я болен»).
В связи с понятием жизни возникает в дневнике и вопрос о бессмертии («Бессмертие есть самочувствие жизни», «жизнь есть горение, во время которого показывается бессмертие и Бог»). Проблема бессмертия рассматривается как фундаментальная проблема, первичная составляющая новой картины мира. Для культуры важно не то, как решает ее религиозное сознание – в религиозном сознании она решена, важно, как решается она в конкретной культурной ситуации. Пришвин обращается к такому качеству жизни, где смерти нет («один умирает, другой рождается; так юноша живет как частица бессмертной жизни, и вдруг его укололо, и он разорвался с чувством бессмертия жизни, и тут возникло „Я – смертен“ и после переделалось: „все смертно – я бессмертен“»). Встает вопрос о дискретности и непрерывности мира. Жизнь непрерывна, ее суть не время, а длительность – трансформация идей Бергсона в осмыслении культурной и исторической ситуации в России очевидна. Смерть существует с точки зрения сознания, а с точки зрения самого жизненного процесса смерти не существует («Мать, заготовляющая сундук для приданого дочери, – бессмертна, а сын, сказавший „я – есмь!“, смертен»). Эта непрерывность возможна в природе и в душе человека. Природу Пришвин осмысляет теперь как Божий мир и обнаруживает в природе процесс, также осуществляющий борьбу за бессмертие, совпадающий с культурным («опушки старых лесов покрыты, как щеткою, молодою порослью: старые передали молодым дело борьбы за жизнь, и молодые так живут, будто они родились совершенно бессмертными»). Это соединение происходит в сознании личности («Идея бессмертия – это личное сознание мировой борьбы за существование, это сознание личности»).
На новой глубине сознания писатель ищет такое равновесие между природой и культурой, в котором природная составляющая будет реабилитирована – в этой точке и произошел «бунт обезьяны». Речь идет не о смене мировоззрения, а об изменении всей картины мира и поведения человека в нем. Пришвин осознал, что природа, которая внутри человека, – это не та природа, которая вокруг нас, что нельзя нагружать ее грехами человеческими. Теперь он увидел природу в родстве и саму по себе, природа становится для него равным партнером, а отношения человека с природой – более бескорыстными, из них уходит борьба и «взять от нее…». «Никогда не был так близок к природе» в этом контексте означает скорее, что так он ее никогда не видел – без человека («Как хорошо уехать из города и не видеть, и не слышать человечишка», «И так он противен, человечишка», «Чистик прекрасен тем, что недоступен вторжению человеческих хищников»).
Хотя ситуация в России в значительной степени осложняется тем, что кризис гуманизма разрешился здесь в крайней форме революции, которая безжалостно смела культуру в целом, Пришвин полагает, что смысл культурной истории искажается не только гибелью культуры, которую в начале века все предчувствовали, и даже не столько формой этой гибели, сколько идеологией, ложью революции («Если бы говорить правду, то гибель назвать гибелью, распад распадом, то этот путь бы привел к Богу»). Однако происходит противоположное: «правда становится виноватой» («Почему вы молчите, когда слышите, что лгут и ложью вызывают на кровь, и затыкаете себе уши и вовсе уходите прочь со сборища, или правда может быть виноватою? Виноватая правда»).