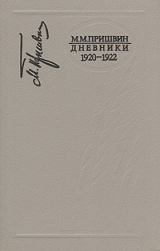
Текст книги "Дневники 1920-1922"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Так, дорогой мой, я, как словесник, большой ценитель игривости и эфирности Вашего таланта, в этом отношении я не сравнюсь с Вами, я этнограф, тележный человек, но раз уж Вы затронули тупики, то позвольте Вам сказать окончательно: в своей телеге я приезжаю в тупик и задумываюсь: как быть? а вы на своей верховой лошади просто повертываете в сквозную улицу – что же из этого? тупик с телегой остается как факт. И этот факт людям не нравится.
Едва ли пошлю.
8 Сентября. Какой-то Устинов в «Известиях» накатал статью, что беленький Пришвин получает паек, а пролетарских поэтов исключают, и еще, что разные Пришвины, не успевшие сменить своих «вех»… Вероятно, это отклики на чтение новой повести. Написать про писателя в газете «белый» – значит донести на него, поставить под надзор и даже ссылку… ну, вот: какая подлость! а человек он очень, может быть, хороший, вроде Орешина, и еще, может быть, больше: при таком «обществе» жизнь всех в отношении друг к другу меняется к лучшему. Вчера сидел на бульваре и наслаждался лицами молодых людей, смелыми, гордыми, прямо викинги какие-то взялись, куда девалась прежняя сонливость, как будто новая порода людей вывелась.
Шапирштейн – какой-то неуловимый дух, которого нужно искать по всему городу, чтобы получить гонорар. Мы с Мандельштамом (сверхчеловек) шли к трамваю ехать в «Красную Новь» ловить Шапирштейна, и вдруг Мандельштам с криком «Шапирштейн!» бросился бежать по бульвару и долго, не сгибая своего позвоночника (аршин проглотил), подхватив ручкой ручку, бежал. Я не мог за ним угнаться, и оказалось, не Шапирштейн, а Лежнев (Альтшуллер). В редакции «Красная Новь» Шапирштейна тоже не оказалось, служит здесь Мариэтта Шагинян, полуслепая, полуглухая, с очень добрыми армянскими бровями. Рассказывала про свое прежнее божество Гиппиус, какой она написала плохой дневник о революции, и что это вышло, верно, оттого, что они (Мережковские) люди властные, привыкли к комфорту, и революция всего этого их лишила. У нее в руках был журнал «Биокосмист», орган анархо-… кажется, спиритов, куда вошло и воскрешение отцов Федорова.
Вошел Воронский и, взяв меня за руку, провел в пустую комнату и там передал ответ Троцкого по телефону о моей повести «Раб обезьяний»: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». Я ответил на это Воронскому: «Вот и паспорт мне дал». Между прочим, Пильняк – единственный, кто предвидел ответ, сказав мне: «Нечего ждать от Троцкого чего-нибудь, он ограниченный человек, спец в своем деле, но в литературе неумный».
Паспорт, во всяком случае, дан, и тут мне с необыкновенной ясностью наконец стало видно, что нэп вовсе не реальная сила и вовсе нет у большевиков декаданса, что большевики международная сила, и пока там, где-то в межнародстве, не будет согласия, они останутся при всей своей кажущейся фантастичности единственной реальной силой у нас.
Еще я понял, что я в России при моем ограниченном круге наблюдений никогда не напишу легальной вещи, потому что мне видны только страдания бедных людей и еще теперь – торжество богатых и властных, что я под игом никогда не обрету себе в душе точки зрения, с которой революция наша, страдания наши покажутся звеном в цепи событий, перерождающих мир. В лучшем случае, если даже мне удастся совершенно очистить свою душу от эгоизма, у меня останется одна тема: Евгений из «Медного Всадника».
Между прочим, Мариэтта Шагинян мне рассказывала о Блоке ужасные вещи, будто бы Блок умер не от физических, а от духовных причин, что в последнее время его все вокруг убивало и никто из окружающих не понимал, что его убивало.
Все время, пока я вот уже месяц в Москве бегаю, мне кажется, что это не я бегает и устраивает, что это существо живучее, проворное, жадное старается, как все, приспособиться, это какой-то действительно цинический сменовеховец или барон Кыш, все время я чувствую себя не только в обезьяньем мире, но и порождающим обезьяну.
Душа раздвоена: по самому искреннему хочется проклясть всю эту мерзость, которую называют революцией, а станешь думать, выходит из нее хорошо, да хорошо: сонная, отвратительная Россия исчезает, появляются вокруг на улице бодрые, энергичные молодые люди. Встает ужасный вопрос: не я ли это умираю, как умирал Блок со своею Прекрасной Дамой? и тут непоправимо: если я не умираю, а живу и радуюсь, то чувствую в себе рождение обезьяны. Но не будь этого умирающего (уходящего) «я», то это вновь рождающееся существо и не казалось бы обезьяною. Проживу-то я еще, может быть, до 70 лет, но проживу непременно с обезьяною.
Чувство масс
Чувство природы, которым обладают в большей или малой степени почти все художники слова, легко может развиться в чувство народа (и не надо это даже объяснять, почему), а чувство народа, если хорошенько поработать над собой, можно не «милостью Божьей», а вполне сознательно использовать для изображения масс.
А как это нам теперь нужно!
Выдвинулась на сцену истории огромная масса, и вчера мы были свидетелями этого события воочию, так что можно было вложить персты в язвы, и все-таки «Лагерь Валленштейна» и «Ткачи», пришедшие из чужеземной литературы, почти единственная (и, надо сказать, малоудачная) попытка изображения масс {150} .
Вот почему неудачны все попытки изобразить массу: художник чувствует индивидуум (тип), потом складывает это с чувством другого типа, третьего, и тип у него получается только соединенный арифметически плюсами.
А нужно чувствовать вперед не отдельные существа масс, а всю ее, как лицо, и это лицо чтобы стало героем, и из этого лица после выделились сами собой отдельные лица.
Я писал всегда так свои «этнографические» книги, в свое время их очень хвалили, критики вскрывали художественное содержание из-под их этнографической оболочки, но все уговаривали меня перейти к личному началу и даже называли бесчеловечным писателем.
Упорствуя в своем и оглядываясь теперь на сделанное, я очень хотел заразить своим примером молодых писателей, но как это сделать – вот большой вопрос для меня. Я однажды уговорил одного молодого человека уехать с собой на север, поделил весь север на две половины, – Карелию отдал ему, Лапландию взял себе, у меня вышла книга «Колобок», а он завяз где-то в болоте и не только ничего не написал, а дал слово никогда больше не ездить в глухие места.
С тех пор я никого не учил, но сейчас я нахожу необходимым это сделать, потому что силы мои в одиночестве теряются, и, главное, не силы, а чудовищная бездна выдвинувшихся материалов давит меня, и сотрудничество стало необходимым.
Два секрета мои раскрываю: первое, надо научиться не думать, вернее, не искать в новом ничего от себя, забыть совершенно себя и отдаться.
У поэтов это выходит само собой, но я не могу достигнуть этого иначе, как не уехав в новое место. И по-моему, это можно рекомендовать всем, кто начинает писать: новое место есть новый факт, новая данность, новая уверенность, и признаки ее выступают отчетливо.
Я ловлю эти признаки слухом (ритм) и глазом (пейзаж), мускульное чувство (когда много ходишь) странным образом выводит (хотя версты считаешь) из пространственных измерений, пространство становится эфирным, и время без газет, без правил дня идет только по солнышку, тогда без времени и пространства мне видно: земля пахнула своим запахом, и все вокруг становится так, будто слушаешь сказку мира: в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе и так далее. Одним словом, человек заблудился, а ведь это-то и нужно художнику для восприятия реальности мира.
Так я записываю былины и вдруг начинаю чувствовать по отдельным словам сказителей какую-то неловкость, в речах их попадаются городские слова, – что это такое? Оказывается, приблизился к району действия какой-то народной школы: началась ломка языка, памяти народной, слова пошли обыкновенные, и то чувство народной массы глохнет. Я не против школ и города, но у меня от близости их чувство массы теряется, совершенно ясно представляю, что если бы я взял предметом своего чувства город, то оно потерялось бы при соприкосновении с лесами.
Недаром сказка начинается смешением времен и пространства: в некотором царстве, при царе Горохе, она выводит нас из категории времени и пространства для того, чтобы представить нам вещь, как она существует без этого, или, как говорят философы, в себе.
Иначе говоря, нужно посмотреть на вещь своим глазом и как будто встретиться с нею в первый раз, пробил скорлупу интеллекта и просунул свой носик в мир. Это делает художник, и первые слова его – сказка.
История русской литературы отведет много страниц жизни и творчеству писателя, который в смутное время русской литературы устраивал себе окопы из археологии и этнографии, доставая из родных глубин чистое народное слово, и цеплял его, как жемчужину, на шелковую нить своей русской души, создавая ожерелья и уборы на ризы родной земли.
Это, конечно, Ремизов, никто, как он такой. Замятин, Соколов-Микитов и, в последнее время, молодой Никитин – это все его ученики, а таких учеников, которые у него научились и грамоте и пошли своей природной кондовой дорогой (Шишков, напр.), и не перечесть. У Ремизова была любовно открыта дверь для всех, и валил валом к нему народ литературный, для всех тут была безвозмездная студия.
Немудрено, что теперь пошла Ремизовская школа, и когда скажешь так – всякий понимает. Каждый удивится, если сказать: школа Леонида Андреева, Мережковского, а Ремизовская школа – всякий поймет, есть такая школа Лескова – Ремизова.
И очень хорошо, что так: слово сохраняется, слово открывается. Но все ли это?
10 Сентября. В Госанонсе, где печатается «Понедельник», спешил уехать на дачу вылощенный брюнет, к нему приставали просители, и один интеллигент в серой поношенной одежде сидел с женой.
– Сегодня денег не будет, – сказал ему вылощенный, – вам сколько?
– 21 миллион.
– За двадцать одним миллионом вы ходите двадцать один раз!
– Что же делать!
– Приходите завтра.
И ускакал в автомобиле.
Познакомился с Лебедевым-Полянским вот по какому случаю: завед. изд. Френкеля сказал мне, что договор об издании «Колобка» он подпишет, если только я проведу его через цензуру, потому что есть сомнительные места, напр., в одном месте сказано: «С Божьей помощью». Я прямо так и сказал Лебедеву-Полянскому, что книга моя – путешествие на север, совершенно невинная, но в одном месте сказано: «С Божьей милостью». Лебедев ответил: «Ничего, мы вычеркиваем о Боге, только если он бывает предметом агитации». В рукописи он обратил внимание на фразу: «Старуха похристосовалась с коровой», поморщился и сказал: «Суеверие».
Из деревни приехал К. и рассказывал про злобу в связи с продналогом (в 6–7 раз больше, чем раньше) при истощении деревенской жизни и разорении.
– Я, – сказал он, – из-за одного этого держусь большевиков, ежели мужики прорвутся, то все перекрушат.
– Ну, а не жалко вам их?
– Жалко, да я устал от войны, мне самому жить хочется.
11 Сентября. Вчера мы ездили в Бутырки к Влад. Ив. – коммунисту. Разговоры наши вертелись около революции, о тех элементах ее, которые можно взять и культивировать, можно сцепиться с ними, как с чем-то бесспорно прекрасным, где эти элементы? Нет их, но надо попробовать смотреть на детей. Только не ищи разрешения этих вопросов в партии. Там никто не действует сознательно и не верит дельно. Это со стороны кажется, что партия – это сплоченная сила, окопалась на войну со всем миром, может быть, это и так выходит, но только не из сознания партии, – партия была всегда глупее стихии, и всегда для нее все выходило, как бы приходя со стороны. И смотреть нужно в сторону, а не в центр. Партия ведь всего насчитывает 600 тыс. членов, причем из них огромное большинство недобросовестных (евреи губят коммунистов). Если пресса ежедневно забивает голову обывателя грядущей мировой катастрофой, то это не значит, что катастрофа близка. Коммунистом быть теперь так же трудно, как при царе: поступи в коммунисты – все некоммунисты отвернутся, a ⅞ партии пойдут на тебя, чтобы выжать тебя из партии. В партию может завлечь только желание «быть», воздействовать на массы. Роковой вопрос, который открыто не становится в партии, но существует: обладание властью государственной или подпольное существование – что лучше для сохранения идеи коммуны: крестьянин потому идет против коммуны, что он идет против власти.
Комсомол – коммунистический союз молодежи, школа правоведения для иерусалимского дворянства.
Мариэтта Шагинян угощала меня пирожными и говорила: «Мне особенно трудно работать с большевиками (в „Правде“), что я христианка, я все думаю соединить это свое с ними, как соединяется Новый завет с Ветхим. Меня выгоняют отовсюду, но я не обижаюсь, у меня большой запас любви. Я христианка, но сознаю, что христианство не могло удержать людей от катастрофы, значит, надо как-то искать других путей, вот я ищу…»
Она просто очаровательна, умна, полна ласки для встреч по сердцу, – хорошая, но почти глухая, почти слепая.
Василий Сергеевич рассказывал, что их Алешка, умирая, попросил посошок, выпил чашку и сейчас же умер. Мы долго говорили о мужиках и решили, что рано или поздно засилье евреев кончится (напряжение национального чувства мало-помалу подводит нас всех к вражде к евреям).
Проводя целые недели в беготне за Шапирштейном в обществе Мандельштама, Альтшуллера, все время как бы ищу светлый тон, куда бы смотрел я так, что все происходящее казалось необходимым звеном. Сейчас думаю о молодежи, – не сюда ли надо смотреть?
Зайцев Петр Никанорович заказал для своего издательства рассказ листа в два с условием, что оплата будет после установления цензурности.
– Так очень трудно писать, – сказал я, – едва ли возможно.
– Возможно: писатель теперь должен быть дипломатом, возьмите в пример Пильняка.
14 Сентября. Третьего дня с «федоровцем» был у Серг. Тим. Коненкова, и очень он мне полюбился. Это настоящий художник, с религиозной философией, когда говорил об этом, то совсем как религиозные люди из народа, и чувствуешь, что народ наш религиозен. О воскрешении отцов Федорова он сказал, что это очень хорошо, но по Христу все-таки должно быть, что не мы, а Он сам, в конце концов, их воскресит.
Отчего у Коненкова в скульптуре нет человека, а только лес и стихия? Ищите женщину (не собрал себя в любви к одной – да! но отчего же он не собрал?). Его статуя женщины «Кривополенница» заросла грибами-поганками.
«Раб обезьяний» оказался не повестью, а частью повести из середины. Нужно ее написать так, что герой ее, Алпатов, исповедует веру в пролетариат {151} , но вдруг в душе его происходит катастрофа на почве любви к женщине, и он как бы против себя бежит с пролетарского фронта: революция идет вперед, контрреволюция стоит на месте (она во имя застоя, но никогда во имя прошлого), а его тянет в прошлое.
В Маркса поверил Алпатов когда-то до того сильно, что знал будущее, и если кто-нибудь говорил о своей вере, то он боролся с этой верой и вообще с верой и на ее место ставил знание.
Он знал, что пролетариат непременно разрушит этот мир, совершенно прогнивший, а после того все будет новое (и жил так, как на станции в ожидании поезда), главное, женщина: сладковлекущее чувство, какое вспыхивает теперь иногда к женщине, – теперь оно враждебно, и этому нельзя теперь отдаваться, это надо отсечь: а тогда это будет святое чувство, и женщина будущего станет царицей мира, а не проституткой, в угоду которой работает весь капиталистический строй.
Потому Алпатов избегал и таился общения с женщинами: мужчина – брат, друг, товарищ, отец – старый дедушка, хозяин и мать, как у крестьян богородица со скорбью, жалостью к бедным людям, вот куда смотрел Алпатов. Но женщины смотрели на него часто, в детские глаза его, в детские губы, а над детскими глазами прекрасный лоб, под детскими губами крепкие челюсти, заглянут и отпугнутся: нет! нет! – было печатно написано на лбу.
(Так, бывает, ток бежит по кабелю, и никто не видит, как он бежит, но бывает, разорвется кабель, и свет блеснет, и все видят глазами, что ток бежит по проволоке.)
И до двадцати пяти лет не было встреч. И так жил этот детски наивный Алпатов с мужчинами и Марксом в ожидании мировой катастрофы.
Вот и весь портрет – достаточно? Я сам был немного такой, но два мои друга юности были именно такими, один сохранился в этом виде до сих пор, по-прежнему твердый марксист, народный комиссар, встречу с женщиной умел обойти, женился на вдове убитого в революцию 1905 года товарища из жалости к детям, потом полюбил ее девственной своей душой навек, свои пошли дети, – человек очень добрый, неглупый, но книга у него одна – Маркс во всех видах, и терпеть он не может никакого искусства. Другой мой друг сорвался и пошел не по шири житейской, как корабль, рассекая волну, а в глубину, завороженный морскою царевной.
Я хочу вам описать этого моего друга с морской царевной, и в событиях новых, и в душевной правде этого человека, мне хорошо известно, я отражу события нашего времени. Чем проще писать, тем, конечно, труднее, но я всех богов прошу помочь мне прийти на помощь и быть как можно проще. Раскрываю вперед вам свои материалы.
Алпатов, главный герой, вы его уже знаете, и другой похож на него, но с иною судьбой, доктор, не знаю еще, как его назову. Множество людей других войдут сами, когда условимся о месте и времени. Морская царевна останется, верно, за сценой, как рок в древней трагедии, ее описать и невозможно, потому что в той действительности, которую мы мерим и считаем, едва ли есть она. Но я знаю ту женщину, которую любил Алпатов, для меня она самая обыкновенная девушка, каких множество, и если бы Алпатов смотрел проще, был бы, как все, то она стала бы, наверно, его женой. Но ведь Алпатов, как мы уже говорили, ждал женщину будущего, и если бы такая женщина явилась, то с нею, как приданое, должно бы явиться и все будущее. Он хотел от нее всей шири земной, а она хотела быть единственной и влекла его от шири земной в глубину морскую – морского царства!
(У бабушки завелись в животе лягушки, она пила от них ссачки с Боговым маслом.)
21 Сентября. Жизнь проходит в погоне за Шапирштейном. В субботу и воскресенье был в с. Талдом (гор. Ленинск), снял там у Клычкова квартиру за 300 милл. на 2 ½ года. В понедельник приехал Лева. Вчера, слава Богу, хоть паек получил. Жизнь отвратительная, не лучше, чем в глуши, даже газеты невнимательно читаю и все думаю, как бы поймать Шапирштейна. На днях поэт Орешин напился пьян, ругал жидов так, что собрался бульвар к нам на двор, ругал блядью свою тихую жену.
Видел сон, будто нас где-то уплотнили до такой степени, что из нашей плотности выдавилось существо, почти стальное по плотности, и это был Наполеон нашего времени. Этот сон соответствует жизненному соприкосновению с тупой жестокой силой.
Орешина портрет нужно сделать штампом на меди, и то, что отдавится наизнанку, – будет Орешин. Итак, Орешин взбунтовался на весь Тверской бульвар, шум, что долой жидов. Клычков сказал: «Если бы это кричал не революционный поэт, а мы с вами, так едва ли бы мы уцелели». Орешин вселился в квартиру коменданта с угрозой жида, <1 нрзб.>шел против начальства. Тот позвал милицию, и, когда милицейский вошел, Орешин стих. «Партийный?» – спросил милицейский. Орешин не ответил, но поцеловал его и сунул ему свою революционную книгу. Утром он просил извинения у Свирского и целый день «ловил рыбу» в Госиздате: так он сидит там часами в ожидании какого-нибудь нужного человечка (наверно, тоже какого-нибудь Шапирштейна).
25 Сентября. В субботу явился в Москву Иван Сергеевич, рассказал мне горькие вещи о Ремизове, что он заблудился, и напомнил мне о брате Николае. В воскресенье приехал в Иваниху.
Письмо Ященке
Дорогой кум! Иван Сергеевич Соколов-Микитов передал мне Ваше предложение – написать что-нибудь в Ваш журнал, и прежде всего автобиографию. Выполняю Ваше желание и прошу Вас прислать вместо гонорара трубку и английского трубочного табаку, если же английский и у Вас очень дорог, то, наверно, теперь немцы научились хорошо его подделывать, – пришлите немецкий.
Так что автобиография… ну, хорошо: родился я в том самом уезде, про который много писал Бунин, мой земляк, – Елецкий уезд Орловской губернии. Родители мои, отец – коренного купеческого рода из города Ельца, а такая весьма странная фамилия Пришвин происходит от слова пришва, часть ткацкого станка, верно, думаю, деды мои были, токари или торговали этими пришвами. Отец мой хозяйство вел в небольшом имении, доставшемся ему по разделу в селе Хрущево («Хрущевские помещики»), был человек жизнерадостный, увлекался лошадьми, садоводством, цветоводством, охотой, поигрывал в карты, проиграл имение и оставил его матери заложенным по двойной закладной, да и нас пятеро: мне было восемь лет, когда он скончался.
Мать моя была тоже коренного староверческого купеческого рода Игнатовых из Белёва (литерат. критик из «Русских Ведомостей» Илья Николаевич Игнатов мой двоюродный брат). Вот она-то, могучая женщина, оставшись вдовой в 35–40 лет, и вывела нас всех в люди, и, замечательная хозяйка! выкупила имение. Скончалась она семидесяти пяти лет в 1914 году и оставила мне на г о́ре 30 десятин.
Собрался я с силами, выстроил себе дом на своем клоке, завел хозяйство, но тут подошла революция, пришлось все бросить, говорят, теперь на моем клоке новая деревня сидит. Но я не горюю, оттого что любил я у себя только сад, и жить хотелось отчего-то в лесах таких вот, как на родине моей жены в Смоленской губернии, откуда я Вам и пишу сейчас это письмо.
Эта жена моя, Ефросинья Павловна, странствует со мною уже давно, скоро будет двадцать лет, она крестьянка, и от нее узнал я столько всего про деревенскую жизнь.
Учиться я начал в Елецкой гимназии, и такой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого же класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в Америку). Розанов Василий Васильевич (писатель) был тогда у нас учителем географии и спас меня от исключения, но сам же потом из четвертого класса меня исключил за пустяковину. Нанес он мне этим исключением рану такую, что носил я ее незажитой и не зашитой до тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свидетелях каялся и просил у меня прощения («Впрочем, – сказал, – это Вам, голубчик Пришвин, на пользу пошло»).
Плодовитый был все-таки наш Елецкий чернозем: я был в первом классе, а из четвертого тогда выгоняли Бунина, в восьмом кончал С. Н. Булгаков – это писатели, а по-другому занятых людей и не перечесть, напр., народ, комиссар Семашко был моим одноклассником, первейшим другом (и посейчас из всякой беды выручает он, чуть что – к нему, очень хороший человек, честнейший до ниточки).
Вас. Роз. ухитрился выгнать меня с волчьим билетом, так что кончать уже пришлось в Сибири в Тюмени реальное училище на иждивении дяди моего Игнатова, богатого человека, пароходовладельца на реках западносибирских.
Потом я учился в Риге в Политехникуме химиком четыре года, и тут я уверовал через книгу Бельтова (Плеханов) в марксизм, состоял в организации подготовки пролетарских вождей, переводил (Меринга – ?), шесть раз прочел с рабочими «Капитал». Я был рядовым, верующим марксистом-максималистом (как почти большевик), просидел год в одиночке, был выслан на родину, сюда же, в Елец, одновременно был выслан Семашко, мы соединились и, кажется, за два года еще раз по шесть прочли «Капитал».
После окончания срока высылки я уехал в Германию, изучал здесь все и кончил курс агрономии в Лейпциге. По окончании курса попал в Париж и встретился с ней(как у всех бывает), – отсюда все и пошло (но это непередаваемая история). Мой фанатический Марксизм владел мною все-таки лет десять всего, начал он рассасываться бессознательно при встрече с многообразием европейской жизни (философия, искусство, танцевальные кабачки и проч.), сильнейшую брешь ему нанесла встреча с нейи окончательную то чувство самости, которое охватило меня, когда я после нескольких лет агрономической деятельности в России нашел в 30 лет свое призвание в литературе. Только тут впервые я понял, что значит жить самому и самому за себя отвечать. Я вернулся к своему детству, когда меня дразнили, что я бежал в Азию и приехал в гимназию, стал путешествовать, и родная Россия мне стала той самой заповедной Азией, в которую я когда-то хотел убежать. Встретился опять с В. В. Розановым, гениальным писателем, с Мережковским, Ремизовым, Блоком, так и пошло, и пошло. Встреча со своим призванием была мне, как вот теперь в России, после большевизма (у нас теперь не большевизм, а коммунизм – разные вещи) у огромного большинства встреча со своей самостью (каждый занялся чем-то своим). Не пройди я путь максималистского большевизма ранее, я стал бы в Октябрьскую революцию непременно большевиком, но я в то время уже окончательно устроился в себе и не мог примкнуть психологически к Октябрьской революции и хотел для России революции просто буржуазной. Никак я не мог себе представить, что мой индивидуальный путь станет общим путем и какой-нибудь Елецкий телеграфист тоже будет временно веровать в «Капитал», как в Евангелие. Теперь я вижу ясно, что, как и я после своего марксизма, все встречаются, в конце концов, со своей самостью, и это приведет к буйному возрождению страны, се буде, буде!
Дорогой кум! как видите из этой биографии, тем для писания у меня непочатый край, и я Вам еще много напишу, если Вы мне ответите, – что больше всего нужно для Вашего журнала. Не забудьте одновременно с письмом прислать трубку и четверку табаку «Capoton».
1 Октября. Гусиный перелет. Ночью темной летел, изредка покрикивая, дикий гусь, потерявший свою стаю…
Скворцы вернулись из лесов перед отлетом в скворешники и поют.
Грачи вечерней зарей огромными стаями совершали свои стратегические упражнения.
Старичок маленький, нужненький медведя убил. (Чудовище сидит на дереве, пустил заряд и бежать, а когда пришли: под елкой медведь лежит.)
Небо то закроется, то откроется, то солнце над горящим золотом лесов, то дождик. С подсолнухом в руке хожу по саду и думаю: как я ушел от себя с тех пор, как весь кричал от боли, когда меня в дороге обыскивали негодяи, и все сваливал на советскую власть. Теперь герой моих дум – идеальный большевик, распятый во власти, которому нужно принять на себя весь грех и лжи и убийства: «Что же вы думаете, дурак я, и когда брал из рук Смердякова власть, и я действительно считал его „пролетарием“? Я ему лгал, чтобы захватить его в свои руки для работы на действительного пролетария, человека будущего. Но и ложь моя, и убийства мои все легли бы на вас, все это я взял на себя, и вы остаетесь чистыми и проклинаете меня за то, что я взял неизбежное зло на себя». Словом, я хочу теперь стать на точку зрения большевика (идеального – и такие есть, ими и держится власть), чтобы ясно увидеть ошибки.
Бывает, когда после гипноза дела, намеченной цели все выполнено, все вещи собраны в корзине и зашиты сверху и перевязаны веревками, – все кончено, я двигаюсь, еду, вдруг из себя против этого становится сила вроде пораженческой в войне: а возьму и не поеду, и ничего не буду делать, и день будет мой. И не еду. Тогда необычайный покой охватывает душу, как будто лежишь в гробу в незасыпанной могиле и видишь березки золотые, и ветерок их мирно шелестит, чуть-чуть покачивая ветви, – это весь мир, и сам думаешь, думаешь свободно… Вот истинный отдых.
Почему с-зм, порожденный пафосом протеста живой личности обезличивающему началу капитализма, сам душит личность в своем технически цивилизаторском коллективе?
После перелета гусей 18-го сентября вернулись из лесов скворцы в свои скворешники и распевают себе, прощаясь, на золотых березках. Но и скворцы улетели.
Ранним серым утром частенький дождик идет, серый дятел сидит на березе возле скворечника и прислушивается и поджидает, час, два проходит, пока осмелился: юркнул в скворечник. И оттуда, чуть стукнет, нос свой длинный выкажет, так он долго привыкал и теперь смело сидит, выходит на березу и стучит по ней морозным утром, будто гроб кому-то колотит.
Чуть полегчает в столице, паек дадут академический, или торговлю объявят, или разрешат журнал, сейчас же начинают писать, что Россия воскресла. Сидя в глуши, так странно читать о воскресении, и задумываешься над этим: почему это, откуда берется? Другие откровенно пишут, что их радость происходит из трагедии, раньше, мол, было скучно, а теперь трагично. Ну и что же хорошего? Разве можно смаковать трагедию? Вот Степун пишет: «Только в эпохи, подобные той, что дарована нам благосклонной судьбой, возможна настоящая чеканка жизни и душ, возможна установка всех чувств и мыслей на незыблемых метафизических основаниях» («Шиповник»).
Хороша – душа наша, а где отцы, умершие вчера? достойно ли нам на вчерашних могилах радоваться тому человеку, через смерть отцов получающему наследство?
Конечно, я как писатель очень обогатился за революцию, я, свидетель такой жизни, теперь могу просто фактически писать о ней, и всем будет интересно, потому что все пережили подобное, я теперь богач, наследник богатый. Но вокруг меня все так обеднело материально, мне жаль этих миллионов обманувшихся людей, и как я буду на этом фоне бедноты радоваться исполнившейся трагедии. В молчании показывается трагическое лицо. «Помолчим, братие», – говорил Добролюбов болтунам литераторам {152} .
5 Октября. Вчера приехал в Москву. Грязь, дождь. Перед самым моим приездом в общежитии писателей была драка. Как будто и не уезжал.
Лева все больше и больше погружается в беспорядок, заимствуя стиль моих несчастных приятелей-бродяг – Савина, Соколова, Клычкова, начал потягивать носом и в сторону женского пола. Линяет.
Когда ссорятся, бесятся, даже дерутся двое-трое русских людей – то это вовсе не значит, что кто-нибудь из них дурной человек, нет, если смотреть на них как на одно существо в разных лицах, а так вообще нужно смотреть на человека, то это не злоба, не война, это скорбь одного существа так проявляется: человек скорбит.
Завтра еду в Талдом устраивать Леву, закупить на зиму: 1) хлеб, 2) дрова, 3) керосин, 4) картошку, 5) капусту.
хлеб – 200 милл. = 20 пуд.
картошка – 100 —»– = 100 пуд.
бурак, капуста – 100 —»– = —»—
Лева: отправить письмо, купить стекло лампе. В Госиздат. Взять в Талдом.
На улице в темноте встретил кто-то, назвал меня по имени и поцеловал меня, я узнал голос, но чей голос, не знал.








