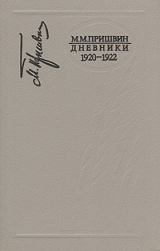
Текст книги "Дневники 1920-1922"
Автор книги: Михаил Пришвин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Первая встреча (по календарю) весны 2-го Февраля, вторая 1-го Марта, третья 25 Марта, первая – голубая весна света, вторая – водная, рыбы – птицы, третья – травы и листьев на деревьях, четвертая – май – цвет, песня, танцы.
Слухи: из Петрограда приехали рабочие, говорят, будто им предложено было выехать ввиду бомбардировки города из Кронштадта. А там будто бы ведет дело вел. кн. Влад. Павл.
Большевики создали систему управления посредством декретов и чиновников, которые образовали разные корпорации воров с дележами добычи, так, напр., Продком, Совнархоз, Уземотдел и проч. чертовщина.
Ничего не сделано, даже самый главный вопрос в России – земельный – и не затронут.
Вспоминал слова В. И. Филипьева: все наиболее талантливое в России вобрала в себя бюрократия; казалось мне тогда, какие неисчерпаемые силы были в обществе, а теперь приходится признать справедливость слов Виктора Ивановича. Подумать только, что такая бездарность, как Семен Маслов, поднялся до министра земледелия!
21 Марта. Утром валил мокрый снег огромными хлопьями и потом весь день в тумане что-то моросило.
Дошел слух: Кронштадт взят обратно красными {89} . Теперь новая гекатомба кровавому богу, и он за это еще немного поддержит нашу власть.
Зачитал «Фрегат Палладу» {90} .
Жизнь, как в океане в мертвую зыбь. Часто встречаешь многое очень известное как неизвестное, напр., вот негры – «Какие же они внутри должны быть?» – задаешь себе вопрос – и как будто видишь их и отизвнутри, люди же хорошо знакомые постоянно повертываются невиданной стороной, вернее, так сказать: раньше видел стороны, внешнее, а теперь дух этих людей. Как-то задал себе вопрос: «А если Учредительное Собрание и поднимет земельный вопрос, какой я дам ответ?» Конечно, думаю, земля должна быть государств, собственностью и отдаваться трудящимся людям в аренду. Потом вспомнил, что и сейчас земля государственная и даже народная собственность, между тем поди-ка подступись к ней! Каждый имеет право на землю, и дадут после многих хлопот какую-нибудь совершенно бесплодную землю, а лошадь где, плуг и прочее? Спрашивается, какая же разница для бедного и честного человека? (кажется, честным человеком можно назвать такого, который трудится и не занимается местной политикой при помощи самогона).
22 Марта. С о́роки. С утра пасмурно-туманно, снег мокрый, а потом весь день переменно. Говорят, сильно сбывает вода.
Я сижу дома и смотрю, как в парке все больше и больше темнеют круги возле деревьев и пестреет земля.
Подтверждается, что Кронштадт усмирен, и пишут, что мир с поляками подписан.
В лесу я находил не раз сооружения для изготовления самогона, оказывается, что везде зимой и летом это делается в лесу, причем прячутся не от начальства, а от своих (всё выпьют). Начальству же все самогонщики хорошо известны, оно просто берет с них дань.
23 Марта. Утром пасмурно, в обед солнце, к вечеру сильный ветер и свежая заря. Видели двух уток на Рясне.
24 Марта. Строгий восход с перистым хвостом на полнеба, немедленно по всходе солнца было закрыто. Девицы почуяли Март, как кошки, стали жеманиться, похихикивать, наконец, чему-то вдруг во время класса хором смеяться.
После обеда стало совсем туманно, холодно-сыро, неприятно и пошел дождь.
25 Марта. Ночью был ветер и дождь. Утро насквозь – сырое, туманное и мельчайший дождь – осадок.
Видел ночью, будто Разумник летал под звездами с завязанными глазами, я думал: «Какая польза летать и не видеть».
К лекции по краеведению: собирать предметы нужно красивые и полезные.
Вспоминал И. Рязановского: «провинциален», обмозгованное сладострастие; как его всего, весь его сундук мудрости и всего накопленного в Петербурге разобрали литераторы.
Кронштадтские события мигом рассеяли мечтательную «контрреволюцию».
Вечером солнце выглянуло хорошее, ветер стих и было очень хорошо на опушке сидеть на поваленной березе.
26 Марта. Рассвет чисто золотой на все небо и скворец свистит.
В нашей жизни нет примера, образа, которому должно следовать, и потому жизнь безобразна, безобразна.
О расколе: домишко, сбитый кое-как бедняком на последнее, разрушили и пустили его на произвол судьбы, и бедняк не мог простить это…
27 Марта. Золотым оставался весь вчерашний день. Ночью подморозило, и лунное небо покрылось стайкой облаков, в глубине леса заяц орал.
В 6 по архиерейскому (в 4 ч.) я был уже на Мартинковском поле с Серг. Васил. Мы шли то по ледяной лесной дороге, то по полю межами, поле совсем уже растаяло, и чтобы не мазаться, мы держались какого-то плотного гребешка. Лужи замерзшие с треском, как стекло, разлетались, ходьба неудобная. На востоке была светлая узкая полоса, все небо было заплотнено. Не успели сесть по шалашам, как раздалось хлопанье крыльев и потом тетеревиное бормотание. Долго в темноте я принимал один кустик шагах в 300 от меня за близко сидящего тетерева и тетерева шагах в 100 за черный пёнушек, очень далекий. На восходе солнца рассмотрел, что куст не тетерев, из лощины подскакивает вверх с чуфыканьем тетерев, и потом некоторое время остается видимой его голова, а что черный пёнушек, что тетерев тоже с раскрытым хвостом петушится вокруг себя, бегает, как заводной.
В это время раздались шаги и кто-то с ружьем прямо шел на мой шалаш, я крикнул: «Здесь караулят!» – «Кто?» – «Убирайся к черту!» И неизвестный малый отступил в кусты.
Тетерева все бормотали. Тогда появились у шалаша витютни, я стал взводить курок – вдруг сорвалось и выстрел раздался, весь шалаш окутан дымом, витютни улетели, а тетерев все бормотал на месте: один все ходил вокруг себя, как заводной, смешно раздуется, другой подпрыгнет, и шея его торчит некоторое время и чуфыкает. Опять новая партия витютней прилетела к моему шалашу, я прицелился в двух, и в это время раздался выстрел Серг. Вас. по тетереву из винтовки. Все взлетело. Наши два тетерева переместились немного подальше, заметили друг друга и начали смешно наступать: один наступает, другой отступает, все отступает, наконец, собрался с духом и тоже стал наступать. Прилетели еще три тетерева и расселись на деревьях. Я с замирающим сердцем ждал момента, когда в первом солнечном свете сцепятся бойцы: очень красивы они, и вокруг все так пустынно-таинственно! Но тут опять прилетела большая партия витютней к моему шалашу, я колебался: стрелять или подождать, чем кончится бой, хотел ждать, но вспомнил, как мы нуждаемся в мясе, прицелился уже, взял на мушку трех здоровенных витютней, ¼ сек., и все три были мои, но вдруг все, и витютни, и тетерева, и даже вороны, улетели. Возле моего шалаша опять стоял с дурацкой мордой тот малый, охотник. Не знал, вот не знал, что могу так мастерски, чисто по-мужицки ругаться, как он удирал от меня, как улепетывал и как хлестала его моя трехсаженная матерная картечь.
Тетерка с квохтаньем перелетела в болото и уводила за собой все дальше и дальше в глубину недоступных болотистых хвойных лесов бормочущих косачей. В Чистике все еще сильно бормотали. Утки орали все утро на разливе. По архиерейскому времени был десятый час.
28 Марта. Ночь была чистая, лунная, с морозцем меньше вчерашнего. Но заря запала в хмарь и на восходе дул противный холодный ветер. Сильно орали утки. Захлопали крылья в лесу, и два тетерева в полумраке сели возле самого моего шалаша. Треснул сухой сучок, они улетели. Токовал внизу бекас (ка-чу-ка-чу). Протянули три гуся.
Когда стало совсем видно, заяц по морозу с крепким туканьем пробежал, спеша, мимо моего шалаша через поле в другой лес: загостился, очень спешил.
Когда солнце выбилось из хмары, откуда ни возьмись два черных, матерый и поменьше, с гуркованием обежали Левино место (Лева продремал) и расположились к бою шагах в 150 от меня, матерый бился снисходительно, младший скоро убежал, сел на дерево, а сильный петух, распустив перья, стал кокетничать с солнцем. Сколько в его движениях чего-то ненужного практически и только для красоты, для спектакля и рыцарства. Говорят, это свойственно романским народам: рыцарство, зрелище и пр. И то же самое проделывают петухи: как они вытягиваются, растопыривая хвост, повертывая его во все стороны и как вдруг поднимаются во весь рост, подскакивают, выкрикивают свой боевой лозунг: чувш…ш…ш! на бой, на бой! всех зову на смертный бой! В лесу откликаются рыцари теми же звуками, но очень холодно, ветрено и хмаро. Солнце скоро совсем исчезло, и белая муть от неба и до земли прочно, кажется, на весь день засела.
После обеда, когда хорошо ободнялось и потеплело, пошел первый теплый дождь, над нашим двором летели с криком кряквы. Был слышен первый гром.
29 Марта. Оледенило. Сквозь тучи пробует солнце выйти и не может.
Так было весь день. К вечеру солнце укрепилось. Сказали, что начали тянуть вальдшнепы. Я вышел на вечернюю зарю, но солнце село в тучу, стало холодно, неприютно, и я вернулся, чтобы не пропустить ужин. Видел цаплю.
Пусть мои судьи находят смягчающие мою вину обстоятельства, я сам могу судить только себя и как существо совершенно свободное: не внешние обстоятельства причина моего несчастья, а мое неуменье – причина несчастных внешних обстоятельств.
30 Марта. Ночью был дождь, и утро настало безморозное, теплое, влажное. Небо все в пестрых облаках, местами синими грядками, будто вспаханная нива. Утром до чаю я прошелся по извилинам речки, три пары крякв одна за одною поднимались с криком, по одной я неудачно стрелял (далеко). Слышал при слиянии двух речек в кустах первое пение воды. Жаворонки доверчиво спускались почти к самым моим ногам, другие поднимались и пели над головой. Старые березы у дороги стояли, как дойные коровы, возле каждой почти было ведро, чугун или корыто, наполненные за ночь березовым соком. Грачи всей своей деревней кричали, заглушая отдаленное токование тетеревей. Дерзкий свистун скворец свистал. Красовались на липах полногрудые снегири. Сегодня было первое неморозное оживленное утро.
Сколько ни наблюдаю природу, и все для меня остаются неизвестными некоторые голоса в лесах, в полях и на болоте, и неизвестные цветы я постоянно нахожу всюду. А естественник все знает: мне кажется, тогда неинтересно.
Кириков был сапожник, жил при усадьбе, земли у него не было, потому дети в земледельческой работе не использовались, и надо было их учить, и выучились.
День разгорелся до +10 в тени, и стало видно, до чего стройно-прекрасная вышла весна в этом году. Мы стояли на крыльце с учениками, увидели большую белую птицу, вдруг белое оторвалось и полетело вниз, а из-под него вылетела галка, оказалось, эта галка тащила газету в гнездо.
– Вот какой день! – сказали, – галка газету тащит в гнездо.
– Такие газеты, – отозвался другой, – только галкам на гнездо.
– «Беднота», – прочитал третий название упавшей газеты.
После обеда пошел в Хотунь ждать вальдшнепов. Дорога местами уже подсыхает. Кое-где в лесу только осталась на дороге твердая, как камень, ледяная корка. Орех цветет, ольха. Комарики мак толкут. Заяц выскочил совсем еще белый, Флейта его долго, упорно гоняла и бросила на четвертом кругу. Заря была совсем весенняя, пел черный дрозд и пеночки и должен бы вальдшнеп быть непременно, а вот не было. После заката кричала сова.
Психология ворчания – психология бессилия. Злость – это найденный выход бессилию. Напротив, доброта – это цвет силы.
Последняя мужняя раба лучше, чем дешевая блудница (это о России царской и советской сказал некто).
1 Апреля. На перевале рассвета вышел на Рясну. Сильно подмостило, по лужам идешь, как по стеклу, но Рясна бойко бежит. Собаки сковырнули уток, их крик долго приближался ко мне, и вот они взлетели с воды передо мной, пара чирков, мое новое ружье опять само хлопнуло (спуск слаб). На рыже-сером непаханом пару вскочил русак. Солнце всходило кровяно-красное, вся болотная долина засверкала своими замерзшими лужицами, как стеклами. На канаве с криком от собаки поднялись кряквы и прямо на меня, но оглядели, завернули растерянно, я не сдержался и, хотя было очень далеко, пальнул зря два раза. От выстрелов поднялось множество чибисов. Тетерева бормотали слабо в Чистике, сильнее на Пузиковском поле. Один косач, видно, оттоковавшись на Мартынкове, возвращался в Чистик. Видно, или не будет совсем общего тока, или будет позднее.
В восемь (по-старому) солнце грело совсем хорошо, в аллеях усадьбы светло-празднично, тепло, поет множество зябликов, много чижей.
После обеда явился Лева с кряковой уткой. Построил шалаш у Рясны, посадил Леву, а сам пошел на тягу, но испугался тучи с запада, грома и вернулся домой. Лева поздно пришел и рассказывал, что горностай кинулся на нашу утку, что дикие кряквы прилетели и вместе с нашей орали весь вечер.
Какой вышел день необыкновенный, словно мирно разделенный зимою и летом, вместивший в себя и зиму, и весну, и лето, и осень: до восхода морозило и ковало воду, как зимой, когда взошло солнце и засверкали, как стекла, все лужи болота, было, как осенью в первые морозы, и только пение весенних птиц давало знать о весне, потом, когда разогрело, сразу наступила Апрельская весна, и к вечеру стало душно, как летом (10° в тени), надвинулась синяя грозовая туча и шел слегка (тучу пронесло) теплый летний дождь.
2 Апреля. День пестрый, то солнце, то тяжелые тучи, и град, и крупа, и дождь. В Шарапинской роще стерег вальдшнепов, не тянули, и оборвалось ожидание дождем.
Слышал о подробностях взятия Кронштадта. Видимо, в обществе рухнули все надежды на обновление жизни. Интересны эти надежды народа на какую-то внешнюю силу, и в то же время полное «непротивление злу».
3 Апреля. Мертвый день: холодно, пасмурно, ветер, то дождь, то крупа, то хлопок снега пырхает.
Искусство занимается избытками жизни (Гончаров, Литерат. вечер), ненужным. Там, где жизнь состоит только в нужном, – не может быть искусства. И потому у нас теперь его быть не может.
<Далее текст, зачеркнутый М. М. Пришвиным>:Как бедна жизнь Пушкина! И еще вот что: создав, как никто в России, он под конец не знал, чем жить. Наивному сознанию кажется это очень странным, кажется, вот поработал сколько, и как хорошо оглянуться на сотворенное и сказать: как хорошо! Сказать: «Я памятник себе воздвиг» и тут же искать смерти, как будто всего отдал себя и ничего от себя себе не оставил и нечем жить стало. Стало быть, есть какая-то деятельность вся на благо другим и только во вред себе: стало быть, искусство во вред себе? Тут обман: думается, все для себя, но потом оказывается, что для себя-то как раз ничего и не делал. И лишаешься моральной заслуги: ведь для себя старался! Раздать все свое богатство и остаться ни с чем? Нужно раздать во имя Христа, и тогда остается Христос. Пушкин же просто роздал на великом пиру и, раздав, увидел себя бедным и одиноким. Гоголь потерял себя в этом вопросе, Толстой вовремя спохватился (хотя всегда был с запасцем), но Достоевский, вот диво! Он как будто лишь обогатился и, кажется, проживи еще 100 лет, все полнее и глубже были бы его романы, он не старел! (Розанов тоже богател от писания.)
(Пример обеднения – бегство Толстого – конец идиллии Левина с Катей.)
Лежат мои тетради и книги, и я редко могу победить отвращение, чтобы заглянуть в свои труды, часто думаю, как еще хорошо, что я не раздулся в какого-нибудь Максима Горького! Некоторую маленькую известность, которую получил я в литературе, я получил совсем не за то, что сделал. Трудов моих, собственно, нет никаких, а есть некоторый психологический литературный опыт, и мне кажется, что никто в литературе этого не сделал, кроме меня, а именно: писать, как живописцы, только виденное – во-первых, во-вторых, самое главное – держать свою мысль всегда под контролем виденного (интуиции). Я говорю «никто» сознательно, бессознательно талантливые люди делают так все.
Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями, как крыльями. Однажды повязка спала с моих глаз (не скажу, почему), и я очутился на земле. Увидав цветы вокруг себя, пахучую землю, людей здравого смысла и, наконец, и самые недоступные мне звезды, я очень обрадовался. Мне стало ясно, что интеллигенция ничего не видит, оттого что много думает чужими мыслями, она, как вековуха, засмыслилась и не может решиться выйти замуж. Объявив войну чужой мысли в себе, я попробовал писать повести, но они мне не дались все по той же причине: мешали рассуждения. Тогда я попробовал умалить себя до писания детских рассказов, после многих опытов один мне удался, но случайно, неудачи были все по тем же причинам: я вкладывал в рассказ много «смысла». Пропутешествовать куда-нибудь и просто описать виденное – вот как я решил эту задачу – отделаться от «мысли». Поездка (всего на 1 месяц!) в Олонецкую губернию блестящим образом разрешила мою задачу: я написал просто виденное, и вышла книга «В краю непуганых птиц» {91} , за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке. Только один этнограф Олонецкого края Воронов, когда я читал свою книгу в Географическом обществе {92} , сказал мне: «Я вам завидую, я всю жизнь изучал родной мне Олонецкий край и не мог этого написать и не могу». – «Почему?» – спросил я. Он сказал: «Вы сердцем постигаете и пишете, а я не могу». Так я стал этнографом, а благодаря еще тому, что двоюродный брат мой Игнатов стал помещать в «Русских Ведомостях» мои заметки (я писал их исключительно для заработка, в них нет ничего моего), стал «известным» этнографом. И с тех пор слово этнограф пристало ко мне, как черт к Ремизову. Вскоре после первого опыта я решил сделать второй и буквально с грошом в кармане, с ружьем и удочкой отправился в большое летнее этнографическое путешествие по Белому морю, на Северный океан и вокруг Норвегии, в котором я уже почти совершенно ничего (кроме слов) не записывал, а отдавался вполне интересу самого «путешествия». Новая книга моя «За волшебным колобком» вполне бы разрешила мою задачу дать бездумную картину природы, если бы не висел на ней груз все-таки путешествия. Сказочные рассказы «Крутоярский зверь» и «Птичье кладбище» {93} , написанные по впечатлению от летний охоты в Брыни, впустили, наконец, меня в область искусства, художественные журналы раскрылись для меня, а звание этнографа позволяло собирать гонорар с газет. Между тем новая гроза нависла над моей свободой, распростившись органически с материалистически страдающей интеллигенцией, я сошелся с Мережковским – Розановым и всем этим кругом религиозно-философского общества {94} . Под влиянием этих «идей» я поехал в Заволжье и написал книгу «Невидимый город» о сектантах {95} . Если устранить из нее некоторое манерничанье стиля в начале и романтическую кокетливость, то книга эта еще больше, чем «В краю непуг. птиц», удивляет меня, как я, абсолютно невежественный в сектантствоведении, умел за месяц разобраться и выпукло представить почти весь сектантский мир. И все это благодаря борьбе моей с мыслью, моему методу бездумности. Я встречал профессоров, просидевших годы над диссертациями о сектантах, и с удивлением видел, что знаю больше их. В кружке нашем приняли мою книгу чрезвычайно благосклонно, и я слышал не раз, как маститые мистики сочувственно меня называли «ищущим». Под влиянием их я целую зиму провертелся в Петербурге среди пророков и богородиц хлыстовщины {96} , написал <1 нрзб.>религ. повесть «Саморок» {97} . И вдруг почувствовал, что опять погибаю в чужедумии среди засмысленных интеллигентов с другой стороны. Я опять рванулся в путешествие в Среднюю Азию к пастухам и написал «Черного Араба» {98} , для которого я столько изведал, что мог бы написать о Средней Азии десять таких книг, как в «Краю непуганых птиц». И вот эти научные материалы я пожертвовал для коротенькой поэмы в два печатных листа! Только комнаты жалких квартирок на Охте, на Песочной знают, каких невероятных трудов, какой борьбы с «наукой», с «мыслью» стоили мне мои писания, которые для всех остаются только картинами природы, пейзажными миниатюрами. В этих пейзажах, однако, скрыто огромное индивидуальное усилие за свободу, и тем, только тем они мне ценны до сих пор. «Вы на какой платформе? – спросил меня один из крупнейших поэтов, когда я пришел первый раз в рел. – фил. общество. – На христианской или на языческой?» – повторил он вопрос. А в чисто даже литер, кругах говорят: «Это у вас лирика, это надо бросить, нужен эпос, пишите большой роман». И вот думаешь над платформой, над романом. Я целый год потерял, отдавшись писанию романа, и написал за это время всего одну главу, в которой каждое слово вставлялось, как инфузория, щипчиками под микроскопом. Так я написал «Ивана Осляничека» {99} и напечатал его в «Заветах», но не решаюсь напечатать теперь. Опять новое усилие к безмыслию, и пишу в одну неделю повесть – «Никона Староколенного» {100} . И вот общий приговор и суд: «У вас нет человека, вы бесчеловечный писатель» {101} . Впрочем, кто-то раз обмолвился вскользь на страницах, кажется, «Нового Времени» {102} , что очень хорошо это, и не нужно, надоела человечина.
4 Апреля. С морозцем пасмурно и днем мало теплеет. Весна на несколько дней приостановилась, как будто хозяин весны занялся по хозяйству и не до того: нужно сохи изладить, бороны. Воды вошли в свои берега, дороги подсыхают. Жду вальдшнепов.
С полудня показалось солнце и подтеплило, но не совсем. Перед вечером солнце ушло в синее холодно-тяжелое облако, но у самой земли на западе осталась полоска в аршин от облака до леса, и мы ждали, когда появится тут солнце; оно большим шаром, хватающим краем от облака и до леса, показалось; лес на несколько минут стал малиновым, сережки ольхи и ореха золотились, но птицы мало пели: прохладно. Заря на узкой полоске оставалась очень долго. Возле Лыткова, сказали мне, протянул один вальдшнеп.
Можно разделить людей на четыре разряда: 1) Люди добрые вообще, но злые в частности (обозленные), таких огромная масса, «обыватели», 2) Злые вообще и добрые в частности (революционеры, интеллигенты, Семашко, Разумник и др.), 3) Добрые вообще и в частности (цельные люди, встречались среди земских докторов, очень редко), 4) Злые вообще и в частности или просто злые (вероятно, такой Троцкий).
Самогон (материалы к бытовому очерку).
В. И. поскорее отдал барду свиньям {103} (в ожидании обыска), свиньи напились, и комиссары встретились с пьяными свиньями.
В лесу изготовление. Прячутся от своих, а начальству известны все кабаки. Изготовляется для начальства. «Первак, Другак и остальные». Запах сильно хлеба, а когда выпьешь, то всею мерзостью внутренней комиссара. Пьет начальство (для защиты от него) и на семейных праздниках: наивная старуха и милиционер предатель.
Любовь. Что значит «любите друг друга» {104} . На севере говорят: вместо любят «понимают», о животных (каких?) говорят: «понимаются». Ничего нет общего между любовью-желанием и любовью-пониманием. Бывает любовь к отдельному существу и действует вспышками, но что такое любовь к общему существу и как постоянное действие? Любовь – привязанность, когда любят свои удобства (любовь-привычка). Любовь как эстетическое чувство. Любовь-жалость. Из всего этого вывод, что словом «любовь» выражается связь. Любите друг друга, значит, соединяйтесь, но как? неизвестно. А что общее между христианским любить и половым, это показывает брань матери русского народа словом, имеющим происхождение несомненно от слова любить (любить, юбить, ебить; люблю – ебу). Однако на заре юности то и другое чувство смешаны в одно, одинаково заслуживают этого нежнейшего слова, и пути бывают открыты в ту и другую сторону. Только в марте, когда все голубое и губы сложены смешными сосочками, и можно сказать: люблю. Только девственно чистая натура может сказать: любите друг друга.
5 Апреля. Серо и тепло, манит на охоту. На Рясне вылетел вне выстрела селезень, у меня мелькнуло: может быть, вылетит утка, и в этот момент я приготовился, и в тот же момент она вылетела и подстреленная стала спускаться к воде, Флейта ее перехватила. Ура! На Петино рождение утка. Добрался до Чистика, спугнул тетеревиный ток, токует много бекасов, свистят кроншнепы, чибисы.
Вечерняя заря чистая, солнце садится за холмом, потемнели сначала нижние елочки, бор стал малиновым; последняя самая высокая вершина одной гордой сосны померкла при пении черного дрозда, бор заснул могилою, закричала сова.
Бывало, ходишь так на тягу, стоишь, прислушиваешься: какая могучая тишина, какая богатая пустыня! и страшно было думать, что через сто (сто!) лет эти немые богатства русской земли будут раскопаны, везде будут железные дороги, фабрики, фермы, заборы, нельзя будет пойти во всю ширь с котомкою, страх за сто лет! и вот в один-два года эта могучая пустыня покрылась паутиной исполкомов «организованного пролетариата». В один-два года леса были так исковерканы, завалены сучьями и макушками, что цветы и трава не выросли и за грибами невозможно пройти, озера опустели – всю рыбу повыловили, птицы куда-то разлетелись, и только волки да лисицы заполонили округа; лес, вода, земля, все изгажено, и только небо, общее всем и недоступное, по-прежнему сияет над этою гадостью.
Спросишь себя: чего хочу? и отвечаешь первое: чаю с сахаром.
Милый, не ты ли был таким врагом европейской мещанской культуры, не ты ли так боялся, что в твоей могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут предлагать в ресторанах чай с сахаром и кофе со сливками?
Что же это был за страх? Кажется, страх выйти из того состояния, когда человек видит в природе могучего, страшного противника… Далеко погасшие романтические зори! Теперь природа не вызывает на борьбу человека, а умоляет его о защите, охране, и такой охраной является европейская мещанская культура.
6 Апреля. Весь день непрерывно шел мелкий теплый дождь. На уроке один ученик отпрашивался говеть.
– Говеть? – спросил я.
– Ну да, будет он говеть! – сказал Алексеев.
– Молчи, ты, коммунист! – закричал говельщик.
По этому поводу я прочел им хорошую лекцию о свободе совести. Вот в том-то и беда, что этот «коммунизм» держит в своих кровавых лапах и все наши свободы, он ограбил империю и дух народа, как попы держат в церкви Христа.
Огромные массы людей исполнены самых добрых намерений, но неудачники и обозлены на каждого человека в отдельности, таких любит изображать Достоевский (Катер. Ивановна, Мармеладов) и они вообще составляют главную массу людей чающих, или управляемых, или «обывателей». Напротив, обещающие или которые управляют государством вообще злы, потому что они честолюбивы («эгоцентричны»), хотя всегда говорят про общее благо, но, будучи удовлетворены в себе самих, они бывают великодушны и добры к отдельным людям. Совершенно же добрых и совершенно злых людей очень мало.
7 Апреля. Снились русские хороводы. Опять серо-ветрено, как вчера, дождик покрапывал еще до обеда, а после обеда был ливень с каплями, как градинками. После до вечера капало и тепло от дождя не стало.
Все-таки снились же мне хороводы. И потом в полусне пробуждения на эти хороводы легло рассуждение о патриотизме, что это есть иначе самость, такое чувство: мы сами.
8 Апреля. Благовещенье. Чуть ли не с Рождества берегли птичку – выпустить на Благовещенье {105} . Сказали ей напутственное слово свободы, пустили, а она упала в грязь, видно, крыло себе в клетке помяла. Эх, свобода! Держали за уши – уши освободили, за хвосты схватили.
День продержался до вечера серый, с нависшими тучами и ветром, вечером после заката шел дождь и ночью всё слышались капли. В Чистике мне встретился шатун с обломком ружья в руке. «А жирны утки! – начал он разговор и все выболтал потом, как он укрывается от военной службы, в заключение сказал: – Ну ка, хлопни! – и вытащил из кармана бутылку самогона. – Хлопни, хлопни! – упрашивал он меня, – а то пойдешь потом рассказывать, что встретился с плутом и он тебя не угостил».
В болотах под мохом еще лед. На березах почки отпустили чуть заметные зеленые хвостики. Озими сильно зеленеют. Стада в полях. Вечером на одно мгновенье при закате было солнце и на минуту вспыхнули малиновым светом верхушки лесов. Наконец видел вальдшнепа, пролетел беззвучно. Есть подснежники. Кричат лягушки. Щуки нерестятся.
Опыт рассказа о животных
В утином царстве, и у гусей, и у лебедей, и у всех водяных птиц идет старинный спор, как лучше беречься человека, на открытых водных местах, или в густых тростниковых зарослях. На открытых местах все видно и можно, завидев издалека человека, подняться в воздух, кружиться до тех пор, пока он не уйдет. А в зарослях не видно, зато и человеку не видно, и можно спокойно спать, но всегда есть опасность, что он неслышно подойдет на расстояние выстрела. В зарослях покойнее, но опаснее, так думает теперь большинство, и спор, собственно, возникает только между бодрыми и ленивыми. «Ну, плыви, плыви в тростники, если тебе хочется спать, – сердито говорил селезень своей подруге, – а я не хочу подставлять свои крылья под заряд кузнеца». – «Если ты сердишься, я могу и остаться», – ответила утка и стала обирать, очищать ему перышки на шее, укладывая одно к одному. Селезень очень любил это, затих и скоро, спрятав голову под крыло, уснул. Этого только и ждала его подруга и поплыла в тростники – не спать, нет, не спать! Она была гораздо осторожнее селезня и говорила ему о тростниках только, чтобы оправдаться на случай, если он хватятся потом, тогда она ему скажет на вопрос, где была: «Тревожно здесь, на открытой воде, плавала отдыхать в тростники». Оглянувшись на спящего селезня, утка повернула в тростники и долго там пробивала себе путь, чуть шевеля тростниками.
9 Апреля. К вечеру разъяснело. Стоял на тяге. Стрелял вальдшнепа. Лисица выбегала на дорогу.
10 Апреля. Рассвет безоблачный. Флейта гоняет русака. Много уток по канавам. В разных местах горячо токуют тетерева. Пробрался с большим трудом в Чистик, все это круглое моховое болото кипит весенней жизнью: кричат журавли, бекасы барашками рассыпаются, свистят кроншнепы, а тетерева, мокрые, блестящие на солнце, шипят и подпрыгивают, весь Чистик прыгает и шипит. На краю болотного леса под соснами в рост человека я долго любовался и сам по-тетеревиному шипел. К удивлению моему, на шипение мое, жалкое по сравнению с настоящими тетеревами (я – тетерев!), с двух сторон стали отзываться и подходить две тетерки. «Почему же, – думал я, – они не пользуются вон теми рыцарями, блестящими в солнечном свете, вступившими в бой за обладание самкой? Почему выбирают отдельного и слабейшего?» Я заметил это почти как правило, что во время боя на поле где-нибудь на опушке робкий или хитрый токует один, и этого самки предпочитают. Не потому ли, что те, раз вступивши в бой, уже и не заботятся о самке, забыли даже, из-за чего они бьются. К ним и подойти теперь страшно и, может быть, даже стыдно, как женщине к деревенской сходке и драке. Правда, из-за чего сходка и драка, в конце же концов, все эти общественные дела сводятся к личному интересу каждого и личный интерес в деревне к питанию своей семьи, к размножению. Но потому и есть общество, что исходный личный интерес забывается, и так создается поле общего дела, честолюбие, самолюбие бойцов создает специалистов по этой части, управителей и бойцов. Как дикие петухи, они, распустив хвосты, вытянув шеи, при солнечном свете красуются, повертываются вокруг себя, вызывают на бой. А в то же время петух, который чувствует себя отдельно, потому ли, что от рождения был слабее или побитый выбыл из строя, и этому отдельному, хотя, быть может, слабейшему, достается обладание, он силен своей отдельностью, он уже индивидуальность.








