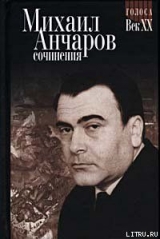
Текст книги "Как птица Гаруда"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Это верно, что хватит… А как не пустишь? Под подол спрячешь? Это, Клава, не нам одолеть. История.
– История? История?!.. Плевала я на вашу историю! Озверели Зотовы. Заморочили голову себе и другим тоже… Нет никакой истории! Кто устроился – тот живет, кто не устроился – не живет! Вот и вся ваша проклятая история! Нет, Петр Алексеич, давай головой верти – как Генку спасать! Черт с ним, с институтом. Надо Генку на военный завод устроить. Оттуда не возьмут. Анкета у него чистая, отец в Великую Отечественную погиб, ты воевал и в эту войну, и в гражданскую… Генка из потомственной рабочей семьи. Рабочий класс.
– Вот это номер, – отвечает Зотов. – Клавдия про рабочий класс вспомнила! А беда прошла – опять наперегонки? Кто лучше устроился?
– А ты забыл, что он тебе внук единственный?! Забыл, как сына в войну потерял?! Забыл?!
– Не кричи, пожалуйста, – говорит Зотов. – Про сына не кричи ни слова.
Тут дед выходит, потом бабушка тишайшая.
– Что за шум, а драки нет?
– Зотовы, Зотовы… Ну, Зотовы! – говорит Клавдия. – Дедушка Афанасий, у тебя знакомые большие люди, у тебя связи, сделай что-нибудь?…
– Чего это она?
– Да боится, – говорит Зотов, – что Генка в Корею загремит, если что начнется.
– Ну?
– Хочет его из института на завод устроить, на военный.
– Ишь ты… Клавдия, а ну как войны не будет – мы опять тебе не родня? Или как?
– Да вы звери, что ли?! – орет Клавдия. – Это же сын мой! Сын!
Тут бабушка говорит:
– Погоди, Клава. У меня верное слово есть… Я тебе скажу, а ты запоминай.
– Бабушка, может, ты что подскажешь?… Женщина женщину всегда поймет!
– А как же, – говорит бабушка наша тишайшая. – Запоминай… Оболокусь я облаком, обтычусь частыми звездами…
У Клавдии глаза на лоб.
– Это что? – спрашивает. – Заклинание?
– Ты слушай, – говорит бабушка. – Серега вот тоже не слушал… Три сестрицы прядут шелк. Выпрядайте его, на землю не роняйте, с земли не поднимайте, а у раба Геннадия крови не бывать… Три раза повтори, и будет жив.
– С ума вы тут посходили… – говорит Клавдия. – История… заклинания… классы… А за сына моего кто слово замолвит? Или никто не замолвит?
– Замолвить? – говорит дед. – Это можно.
– Ну?
– Пошла вон, – сказал дед. – Вон пошла! Вот и все слово.
– Ты, Клава, на нас не сердись, – сказала Таня. – В каждой семье по-своему живут. У нас так.
– Я не сержусь, – сказала Клавдия. – Я запомню.
И ушла.
Лето стояло тихое. Трава высокая.
Но ярость в Зотове какая-то появилась. А на кого – сам понять не может.
Войны начинаются, потому что кто-то этого хочет. А хотят этого всегда – бывшие. Бывшие – это те, кто отстаивает способ жить, который уже не годится.
30
«…Московское время ноль часов… Начинаем…»
– Не начинай, – сказал я и отключил радио. Ноль часов. Времени не было. Но я снова вернулся в 51-й год, с которого я начал свое повествование. Помните? Помните?
Я очнулся.
И тогда заговорил вдруг Витька Громобоев, а он говорил редко:
– Да, похабства не уменьшается, – сказал он. – Слушайте, дед и отец, слушайте, леди и джентльмены!
– Где ты видишь леди? – спросил Генка.
– Леди – это ты, – сказал Витька. – Поскольку ты еще порядочная баба.
Генка подскочил, но я ухватил его за штаны, и он сел обратно.
– Мне кажется, я сделал чрезвычайное открытие, – сказал Громобоев. – Я проверял его десятки раз, и оно десятки раз подтверждалось.
– Какое открытие?
– … Я назвал его «принцип гусеницы»… Отец, помнишь, как еще в тридцать девятом, на Оленьем пруду, ты подглядывал за мной?
– Я не подглядывал, – хмуро сказал я.
– Ты подглядывал, когда я смотрел на гусеницу, которую тащили муравьи.
И я вспомнил, как Минога зажгла костер неблагополучия и исчезла в брызгах, и как Витька смотрел на гусеницу, и как он потом сказал женщине в темноте: «А кто будет провожать нелюбимых?»
– Я смотрел на свою гусеницу, а не на твою, – сказал я. – Короче, в чем открытие?
– Муравьи тащут гусеницу к муравейнику… – сказал он. – Как ты думаешь, почему они ее дергают в разные стороны?
– Потому что ума нет, – говорю. – Догадались бы тащить все в одну сторону – тащили бы быстрей и не тратили бы сил попусту.
– Ты так думаешь?
– А ты не так?
И тут он сказал простое и удивительное:
– Если бы муравьи все тянули в одну сторону, гусеница вообще бы не сдвинулась.
– Почему?
– Потому что они тащат не по заранее проложенной дороге, а через буераки и колдобины… Если бы все тянули в одну сторону, то гусеница застряла бы у первой травины… Тащить в одну сторону можно, только если предварительно проложена дорога. А если дороги нет, то надо дергать именно в разные стороны. И тогда если гусеница упрется в препятствие, которое погасит усилия тех, кто тянул прямо, то именно те, кто тащит вбок, сдернут гусеницу в сторону, и она обогнет препятствие. Но так как цель у всех одна – муравейник, и они знают, где он, и все хотят туда, то все усилия все равно приведут их куда надо.
Мы сидели, притихнув, и думали. Выходило, что он прав. Элементарно прав. До смешного. Ай да муравьи! А мы их кретинами считали и хотели учить заносчиво.
– Допустим, – сказал я, – это наблюдение… Так в чем же твое великое открытие?
– В том, что в светлое будущее тоже не проложена дорога… Поэтому если у людей разные цели, то «гусеница» ни в какое светлое будущее не попадает. А будет очередная драка. Если же у людей одна цель, но все действуют одинаково, то «гусеница» тоже туда не попадает, потому что все упрутся в первое непредвиденное препятствие… Если же все будут действовать по-разному, но будут иметь единую цель, то «гусеница» туда попадет, потому что будет огибать неожиданные препятствия… Потому что «принцип гусеницы» есть способ добраться до единой для всех цели… А не драка за кусок или тупо упереться всем в неведомую травину.
Все молчали. Ветра не было.
– Если мы не догадаемся, как себя вести, то с человечеством случится ужасная история, описанная в английской песенке, которую перевел Маршак, детский писатель.
– Какая история?
– «Два маленьких котенка поссорились в углу… Но старая хозяйка взяла свою метлу… И вымела из кухни дерущихся котят… Не справившись при этом – кто прав, кто виноват».
Последнее было настолько серьезно, что каждый думал о своем, а все вместе – об общем.
– Старая хозяйка – это бомба? – спросил Генка.
– Да, – сказал Громобоев. – Гибель планеты.
Страшный суд уже был в войну выигран, но воскрешение из мертвых, видно, придется, как и все на свете, делать собственными руками.
Что ж, подергаем каждый в свою сторону, имея общую цель.
Позади мертвая, ядерная, дерганая злоба, но впереди встает живая, ласковая заря, с перстами пурпурными Эос.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Пункт встречи
Глава пятая
Синица и журавель
Великое людей содружество
Впервые стало намечаться.
Асеев
31
Человек рано или поздно начинает думать: зачем живу? Не как жить, а – зачем?
Гонит от себя эту мысль – уж больно она неудобна и требует перемен в твоей жизни, а перемены часто разрушают то, что есть, и ничего не гарантируют. А как знать, какая перемена Добро, а какая Зло? И как быть?
Гонит человек от себя эту мысль, а она приходит. Заполняет он чем-то свою жизнь, а она приходит: зачем я живу?
Говорят, будто в трезвом двадцатом веке эта мысль чаще приходит русскому человеку и есть всего лишь болезнь. Америка хочет разбогатеть, Азия – выжить, Африка – проснуться, а Европа жить спокойно. Что-то не очень верится. Но если оно и так, то временное это дело. И если мысль – зачем я живу? – наша болезнь, то это высокая болезнь и человечество ее не минует.
Говорят, лучше синицу в руки, чем журавля в небе. И каждый как-то решает: что лучше? Одни согласны с пословицей, для других все же лучше журавль, третьи считают – кому что, одним журавли, другим – синицы, четвертые хотят, чтоб каждому по журавлю и по синице. И никто не доволен.
А дело в том, что без журавля в небе синица в руке дохнет.
Потому что без высокого мотива поведения, который просвечивает сквозь нужды и помогает их вынести, освещает и освящает их целью, остается только короткий жизненный путь неистовой толчеи, среди которой мечется человечек с зажатой в руке мертвой синичкой.
Жизнь состоит не только из того, что есть, но и из того, что будет, и ее надо поддерживать, чтобы она развивалась. Если ее не поддерживать, нечему будет развиваться, если ее не развивать – нечего будет поддерживать.
Это только в голове их можно разделить – поддерживание жизни и ее развитие. В реальной жизни их не разделишь. Нельзя вначале поддержать жизнь, а потом решить, что пора уж и развивать, или наоборот – сначала развивать, а потом заняться ее поддержкой. Все происходит в одно время, знает об этом человек или нет, согласен или не согласен. Машину можно выключить, потом включить, а выключенное живое – умирает.
Это только разделение труда привело людей к тому, что одни добывают продукт, а другие сочиняют перспективы. Но и теперь человек-рука и человек-мозг существуют только в теории, на самом же деле это просто инвалиды и к «целому» человеку предстоит еще вернуться.
Но долог этот путь, а жизнь коротка, и человек нет-нет да и завопит: зачем я живу, и неужели жизнь – это черточка, тире на памятнике между годом рождения и годом смерти моей?
Жалкий отрезочек пути, где более или менее понятны причины и следствия тире – вот и вся твоя дорога. Ни более отдаленных причин, ни более отдаленных следствий я не знаю, но неужели я как тень?…
– Дед! – крикнула Настя. – Клуб кинопутешествий показывают! Про океанские острова! Ты любишь!
– Настенька, – сказал Зотов. – Не кричи… Тебе нельзя.
Она улыбнулась, большеротая, потом сомкнула губы, потом снова улыбнулась, как будто она таитянка.
А там на островах, над хлябями, голос диктора разносится, отделяет землю от неба…
«…Сегодня жена мастера Аюна намекнула ему, что неплохо бы скорей закончить птицу Гаруда, чтобы можно было ее продать на ярмарке и на вырученные деньги починить крышу. Но мастер Аюн сказал ей: „Ты видишь, что птица Гаруда еще не окончена?“ И снова погрузился в размышления. По всему видно было, что починка крыши волнует его меньше, чем окончание птицы Гаруда…»
– Бедный Аюн, – говорит Зотов, – оказывается, и у них так.
– Дедушка, дедушка… – бормочет Настя.
И он слышит благоухание ее волос, тонких, как летящая паутина осеннего сада.
Грузчики топают подкованными сапогами, вытаскивают из квартиры библиотеку, собранную за полтораста лет и состоящую из книг, написанных за две тысячи лет. А в тех книгах слова заключают мысли людей за бездонное количество лет.
Этой библиотеке стало тесно у Зотова, и книги везут в дом, который есть начало несчастий его жизни и ее счастливый венец.
Потому что венец это начало жизни духа, а не окончание, и венчают на царство и на свадьбу, надеясь на мудрое и счастливое продолжение.
«Я, Зотов Петр Алексеевич, восьмидесяти пяти лет от роду, по философским убеждениям материалист, хронист и оптимист, гляжу на ослепляющий венец своей жизни, и слышу благоухание волос, и снова догадываюсь, что я прав.
А грузчики топают ногами – потише, ребята, потише, жизнь перетаскиваете, а не транзисторы».
– Дед, ну дед… – говорит Настенька.
На стене висит старое зеркало.
Зотов глядит в это зеркало и радостно думает: «Я дурак, слава богу, значит, еще жив, и вовсе не пора умирать».
В жизни нет пустяков, а есть жизнь. Из двух клеток родится человек. А если уж и он пустяк, тогда можно закрывать лавочку.
32
В пятьдесят втором году окончил Генка институт – Клавдия пир горой. Собрались у них в Измайлове выпускники песни орать и по последней пропустить перед разлетом по белу свету, и нас, родню, вниманием не обошли.
Ну, потолкались мы среди них, подурачились, как умели, попели песню про кузнечика зелененького – коленками, коленками, коленками назад – и про чемоданчик: «а это был не мой чемодан-анчик». Немому стало нелюбопытно, и он двинулся с вечерухи, и Зотов с Витькой за ним. Таня спрашивает:
– Куда это вы?
– Продышаться.
– Мама, все в порядке, – отвечает Витька Громобоев.
А погода сказочная голову кружит, из мокрого леса запахом арбузов тянет, ветерок легкий, вечерний, а Генка-балбес песни поет: «Тзер из тзе герл ин тзе харт ов Мериленд», в переводе значит: «Есть девушка в сердце штата Мериленд» и песню «Мери Лу» неизвестно про что – видно, тоже про любовь. А где она у него, любовь? Жена его – Оля-теннисистка на Немого смотрела, а он на бутерброды под названием «тост».
Витька спрашивает:
– На Олений пруд?
– А как же! Куда же тебе еще? Думаешь, не помню, как ты за купальщицами подглядывал?
– Нет, – говорит. – Только за одной. Но теперь там меня Сапожников дожидается. Мы сговорились.
– Зачем это?
– Он мне нужен.
Нужен так нужен.
Они сразу отыскали – бессмертный Анкаголик песню орал, а Сапожников, радостный почему-то, когда подтягивал, а когда на небо глядел.
– Этот слущщай был вы городи Риме, – поет Анкаголик. – … Там служил карыдинал маладой… Днем абедыню служин оны во храме… По нощщам на гита-ри играл…
– Где ты его подхватил? – спрашивает Зотов.
– Сам прилепился, – отвечал Сапожников.
– Мелкий дожжик прошел в Ватикане… Собралыся карыдинал по грыбы… Вот приходить он к римыскаму папи… Папа-папа! Мине отыпусти!
– Пошли, что ли? – поднялся Сапожников. – По грибы… Я теперь большой специалист по грибам.
– Ну что? – спрашивает Громобоев. – Я так понимаю, что ты ответ получил?
– Идите одни, – говорит Анкаголик. – Погода хорошая, а у меня еще есть. Немой, хочешь?
И вышли они на бывшую Владимирку, давно переименованную в шоссе Энтузиастов.
Сумерки. Ни машин, ни велосипедистов. Машины по дачам разбежались, велосипедисты по вечеринкам.
– Что за ответ? – спрашивает Зотов. Сапожников смотрел на него с глубоким интересом.
– Понимаете, – сказал он. – Если живое – это не мертвое…
– А что? – удивился Зотов. – Есть сомнения?
– А как же? Говорят, что если мертвое вещество долго перебалтывать в колбе или, к примеру, кипятить, то получится живое.
– Получится суп, – говорит Зотов. – Или уж сотворилось у кого?
– Пока что только у господа бога, и то по слухам – взял прах, дунул и оживил. А академики все еще кипятят.
– Ну ладно. Давай объясняй по-своему.
– Если живое – это не мертвое, – сказал Сапожников, – то, значит, у живого все другое, и значит, законы другие и искать их надо по-другому, чтобы по-другому ими пользоваться… Нужен какой-то иной подход… Живое хочет, а мертвое – нет. Может быть, окажется, что главное отличие – все неживое вращается, а живое нет. Тянется к чему-то. И тогда причины у неживого – позади, а у живого – впереди.
– Да уж. Это точно. Тянется, – сказал Зотов.
Они все втроем – Зотов, Сапожников и Громобоев – уходили все дальше от Клавдии с дохлой синицей в руке, ища журавлей, которые не прилетели еще.
Посвежело. С шоссе унесло пыль.
– Обратно, что ли? – спросил Зотов. – Как бы дождь не хватил.
– Нет, – сказал Громобоев. – Дождя не будет.
У Громобоева было удивительное свойство – когда с ним говорили, то вспоминали, что он есть. Как будто он истина, которая под носом, но ее мешает разглядеть чванливо задранный нос.
В поте пашущий,
В поте пишущий.
Нам знакомо иное рвение.
Легкий огнь,
Над кудрями пляшущий,
Дуновение вдохновения —
сказал Сапожников.
– Это женщина сочинила, – говорит Зотов. – Я читал.
– Марина Цветаева, – сказал Сапожников.
– Тебе так не сочинить, – сказал Зотов.
– Другой бы спорил, – сказал Сапожников. – А знаешь, я письмо Сталину написал.
– Как это? – спросил Зотов.
Сапожников, конечно, понимал, что самому Сталину это письмо читать недосуг, может, кто из помощников в двух словах доложит, но и это вряд ли. Возможно, перешлют его на консультацию к специалистам. И тут уж хочешь не хочешь, специалист должен ответить по существу, получив сапожниковское письмо из такой инстанции.
Ну а дело в следующем.
Академик Павлов открыл у человека две сигнальные системы. Первая – зрение, слух и прочее, вторая – заведует речью. Сапожников додумался до третьей. Она, дескать, заведует вдохновением. Что такое вдохновение – не знает никто, но что оно особенное состояние, ни на что другое не похожее, – может подтвердить всякий, с кем это случалось. Ну и приводились в письме цитаты – от Пушкина до Менделеева, от Шопена до Авиценны. А главное, в этом состоянии что ни делает человек – все получается богаче и крупнее, чем без оного. И стало быть, надо это состояние изучать, и выращивать для человечьего интереса и пользы.
Написал Сапожников подробное письмо и послал.
А через месяц пришел ответ из Академии наук, подписанный членом-корреспондентом. Письмо-ответ было тоже длинное, но сводилось к следующему: во-первых, третьей сигнальной системы не может быть, потому что у Павлова их всего две, а во-вторых, мысль о третьей сигнальной системе не нова, ее высказывали академики Быков и Орбели, но после критики ученых они от этой мысли отказались.
И Сапожников понял, что дело в шляпе. Во-первых, потому что, поживи Павлов дольше, он открыл бы и третью сигнальную систему, поскольку к этой мысли пришел Быков, ученик именно Павлова. А ежели кому-то после смерти Павлова открывать новое стало лень, то это ихнее личное дело и к природе и науке отношения не имеет. А во-вторых, если такие экспериментаторы, как академики Быков и Орбели, к этой же мысли пришли, то, стало быть, у них для этого были основания не умозрительные, и, стало быть, для дальнейшего изучения открывается экспериментальный простор.
А больше Сапожникову ничего и не было нужно – немножко поддержки и догадка о том, что он не вовсе болван. А вдохновение Сапожников, по слухам, научился вызывать у себя по желанию. А более ничего и не нужно. Так как выяснилось, что в этом состоянии что ни делай, все к лучшему. И значит, мысль Пушкина, что гений и злодейство несовместны, подтверждается экспериментально. А больше ничего и не надо.
И безответственный Сапожников долго ликовал – есть, есть вдохновение, природное свойство человека, не то забытое, не то неразвитое, есть вспышки красоты и истины, есть природное вдохновение, при котором что ни делай, все к лучшему.
Что же касается члена-корреспондента, который ответил Сапожникову насчет вдохновения, то он оказался большим специалистом по грибам.
Последнее обстоятельство почему-то больше всего обрадовало Витьку Громобоева, который щелкал сапожниковскими подтяжками, хохотал и вел себя крайне несерьезно.
– Уймись… – говорил Зотов, прикрывая глаза от летящего и крутящегося под ветром песка. – Уймись!
Но Громобоев не унимался, ветер выл в горние трубы, песок летел, и Зотову с Сапожниковым трудно было даже стоять на ветру, на шоссе, а ведь надо было еще идти.
Однажды Зотову пришло в голову: кто такой устаревший? Это кто делает то же самое, когда пора уже делать другое. Устаревший – это автомобиль, который едет прямо, когда дорога завернула вбок.
Устарели два тысячелетия потому, что идет третье. Вот и все.
Деление на тысячи, конечно, условное, но устаревание безусловно. Устареет и третья тысяча лет.
Не Разум устарел, не Вера, а их отношение к творчеству.
Их отношение к творчеству уже сейчас глубоко провинциально.
33
Таня умерла… Таня умерла… Таня умерла…
Пятьсот лет назад родился Леонардо да Винчи, и недавно человечество справляло его юбилей. Но и он не придумал, как не умирать.
Даже когда букашка на земле умирает, меняется что-то на земле, меняется…
…Я внес Таню домой и уложил на диван.
– Кто тебе сказал?… Лежи, лежи…
– Клавдия.
Я вспомнил, как в саду еще услышал: Таня на кухне вскрикнула, как выскочил красный Генка, как Оля села на гамак и малолетний Санька наяривал морковку.
– И ты после… еще возилась с ее посудой и супчиками?
– Она меня пожалела, Петенька… а ты не пожалел.
Я пиджак скинул, галстук, ботинки. Таня говорит тихо-тихо:
– Петя, распусти мне волосы… Петя, Сереженька наш убит в сорок первом году. Клавдия сказала, что ты извещение хранишь…
– Она сука, – сказал я и задохся. – Сука гнойная…
– Она меня пожалела, – говорит Таня. – Почему ты не сказал, Петя?
Пожалела, думаю, она же ее убила!
– Не смог, поверь… Я сам узнал недавно…
– Нет, Петенька, ты узнал в сорок третьем еще, – сказала Таня. – А я только сейчас.
Сколько лет я один маялся знанием страшным, за Таню боялся, врал, что, может, в плену где-нибудь в иностранном мается. Думал, так и будет потихоньку смиряться, а вышел я – злодей.
– Ты кури, Петя, кури… Петя, хочешь я тебе семечек куплю… как тогда, в двадцать первом?…
Что я отвечу, если я злодей для нее?
– Опять вышел злодей…
– Нет, – говорит Таня. – Ты хотел как лучше… И ты меня жалел и берег… Только от этого моя война затянулась… Вот и моя война закончилась…
И Танечка сказала:
– Пойду Сережу искать, сыночка моего. Может, и встретимся. Может, я перед ним виновата…
– Ни перед кем ты не виновата, – говорю. – Все перед тобой виноваты… И я первый… Не уходи, Танечка.
– Я тебе о Марии скажу…
– Таня!
– Видно, ее права наступили… Намучилась она.
– Таня… Таня… Таня…
– И себя не мучай… Не надо… Мы счастливо вдвоем начинали… Всю жизнь вместе… И прощай…
– Таня! – крикнул я. – Таня!
– Что?
– Прости! – говорю.
– Что простить, Петя?
– Прости мне меня…
Бабушка потом меня увела и передала деду.
Если бы после смерти Тани я не получил письмо от Марии, я бы тоже умер.
Дело не в содержании самого письма, а в том, что я заспорил, занегодовал, – в общем, начал жить.
Не знаю, как другие, а у меня так: как начнешь отвечать за кого-нибудь, там и сам спасешься.
Оказалось, Мария жива и все про меня знает.
Вот из этого письма: «Слова „нищие духом“– все бестолково понимают эти слова, будто у этих людей нищенский дух и они убогие, серые люди. А все наоборот. Они ведь не духовно нищие, а дух им велит быть нищими. То есть их духовный принцип – не быть богачами. Потому что богатство растлевает. Дух этих людей богатства не приемлет. Им богатство и на дух не нужно. Неужели не понятно?!»
И далее она писала:
«Философией веру и не докажешь и не опровергнешь. За философией опыт и умозаключения. А они все увеличиваются числом и меняются, вырастая.
Либо верь без доказательств, либо не обижайся, если доказательства со временем окажутся ложными».
Маша, Мария… вот ты какая стала за свои полвека жизни без меня. Нет. За тридцать шесть лет. Точно. С 1916 года. Точно.
Я ей все же ответил:
«Вся церковь основана на страхе. Она переносит свободу в другой мир. А земной мир для нее – испытательный полигон, где смерть отбраковывает ей неугодных».
Она мне на это:
«Не будем о церкви. Церквей много. Но религия если и бегство, то бегство от страха».
И я ей на это:
«Машенька, не каждая религия есть бегство от страха. Может быть, она только твоя такая. К примеру, старая Германия, когда у них бог Один был. Тогда считали, что рай – это где всю дорогу рубят друг друга, только не умирают. Тебе такой рай нравится? Это же истерика».
Из этого видно, что Зотов опять неизвестно почему уцелел.
Его друг бессмертный Анкаголик теперь живет в доме напротив. Дом полукаменный, двухэтажный, частично обгорелый при пожаре в незапамятные времена. Пьяница он теперь – буйно-жизнерадостный, и как только слышит шаги по тротуару, скатывается по лестнице и предлагает выпить по сто граммов за здоровье тех, кого нет с нами.
От него спасаются кто как может.
Зотов было попал в его объятия, но его увел дед.
– Рассчитываешь до ста четырех прожить? – спросил Зотов.
– Как положено, – сказал дед.
И тогда Зотов написал Марии очевидное письмо.
«Бога не видели ни вы, ни мы. И вы и мы видели только церкви. Но и вас и нас тянет к чему-то высокому, и мы хотим иного.
Поэтому я не стану препираться о том, что ни доказано, ни опровергнуто быть не может. Но я хочу задать тебе один вопрос, Маша, любой ответ на который годится, потому что сблизит нас, так как иного выхода у нас нет – и это главное.
Если дела идут не так, как нам хочется, и льется кровь и злоба не уменьшается ни от религии, ни от науки, то этому даже у вас объяснение одно: пути господни неисповедимы. И как должен поступать человек, неизвестно, но человек должен как-то поступать, чтобы не быть уничтоженным. И если уже две тысячи лет бог не показывается, то это потому, одни из вас говорят, что надо все вытерпеть, а другие – что Он покинул нас с отвращением.
Но если пути его неисповедимы, то почему не допустить и третье? А вдруг он считает, что мы достигли того уровня, когда сами сможем установить на земле закон добра? Кто может доказать, что это не так, если пути его неисповедимы? Доказать это некому.
Но если это допустить, тогда получается, что наступили времена, когда даже для верующих вера в человека и есть вера в бога.
И тогда наступит век, когда люди станут радоваться неравенству равных, потому что оно будет не для насилия над остальными, а на пользу им.
И если ты веришь, что воля есть божье достояние и подарок человеку, то вера в людей и есть высшее проявление веры в бога, который считает, что теперь мы и сами выпутаемся. И еще раз спрашиваю: кто может доказать, что это не так?
И потому не надо мешать мне быть мной, а тебе быть тобой.
И если люди хотят узнать, кто они, – всмотримся. Мы отличаемся друг от друга лишь как ноты в строке.
Возвыситься можно только для равенства. Никакого другого возвышения нет. Все дело, до какого равенства возвыситься – до равенства убожества или до равенства великого духа».
И она ответила:
«На другой год приезжай. Поедем в Киевскую лавру. Подумаем окончательно. Мария».
«Когда Таня умерла, был такой ветер, что я понял, скоро приедет Громобоев, и он явился серым днем похорон.
Дед сказал Витьке Громобоеву:
– Уведи его.
И мы пошли пешком и шли долго. И пришли на Пустырь, окруженный армией бульдозеров в сером дыму, и бульдозеры дожевывали старое место.
И там я отыскал старое било – рельс на проволоке, еще с войны.
Рассказывали мне, что я бил в рельс булыжником, окровенил пальцы и одежды, безобразно не помнил себя и орал:
– Человек умер!.. Человек умер!..
И на меня смотрели бульдозеристы и не трогали».
34
Формальная логика, как и математика, это надежда, что допущенное обобщение пройдет безнаказанно. 1+1=2. А еще Асташенков знал, что стакан сахару и стакан кипятка дадут полтора стакана сиропа, а не два. А уж что касается живого, то один мужчина плюс одна женщина вообще неизвестно чему равняются – иногда семья, иногда враги, а иногда и банда.
– Что вам нужно? – спросила Клавдия. – Она вам нужна? Вот и возьмите ее себе. А нам она не нужна. А почему не нужна – должны сами понимать.
Итак, Оля переедет к нам. Я поглядел на Немого. Немой веселый и свистит.
– Не свисти… Денег не будет, – сказала Клавдия, уходя.
– Стой! – крикнул дед.
– Что вам нужно?
– Ключ оставь, стерва, – сказал дед. Клавдия вынула ключ из сумочки и швырнула на пол. Немой поднял.
Итак, Олечка будет жить у нас. И Санька, ее сын, мой правнук.
Санька умный мальчик, твердый. Во втором классе отличник по арифметике. Физкультурник. Клавдия не нарадуется, говорит, главное – здоровье и уметь считать. Поживем.
А потом был фарс развода, или драма пошлости – это на чей вкус.
Когда до Зотовых судиться очередь дошла, Петр Алексеевич голову в плечи втянул и только об одном думал – опозориться или нет, влезать во все, что ему на суде открылось, или все же в грязи не валяться? А пока он раздумывал в помрачении ума, судья-женщина из Анкаголика все и вытянула. Как он сюда на суд за нами проник и почему трезвый – есть вселенская загадка и тайна тайн, и Зотов перед ней с робостью отступил, однако на этом суде выяснилась Клавдина интрига, болотная и мерзко пахнущая.
Клавдия, оказывается, пришла разводить Генку-балбеса и Олю вовсе не из-за Немого, который любил Олечку безвинно и беззаветно. На это ей было наплевать – мало ли кто на чужую жену глаза пялит. А все как раз наоборот. Оказывается, перед разводом она подкинула Олю к нам жить в надежде потом Немого под подозрение приплести и на него сослаться. Да номер и не прошел. Анкаголик-то по любому навозному делу знаток и экспертиза, за день до Олиного переезда Немого к себе увел, растолковал ему что к чему, и Немой вовсе в деревню уехал. Да Клавдия об этом не знала. И когда на суде услышала об этом, то сказала, что вранье, мол. Но Анкаголик судье на стол справку – шарах! – из деревни, с места работы нашего Немого, и там число указано раньше, чем Олечка к нам приехала. Клавдии и крыть нечем.
– Есть документ из колхоза, – сказала судья. – И дата поступления на работу.
– Она за него замуж собралась! – шумит Клавдия.
А ей:
– Разберемся…
– Кто он по профессии? – спрашивает заседатель.
– Святой, – отвечает Анкаголик.
Судья засмеялась:
– А земная профессия у него есть?
– Разнорабочий.
Все опять засмеялись с облегчением.
– Как муж, по-видимому, неподходящий, – сказала заседатель. – И изменой не пахнет.
– А чем подходящий муж пахнет? – оживленно спросил Анкаголик.
И его, конечно, хотели из зала удалить, но он забожился, что будет тихий. А когда стали выяснять, из-за чего же такая мерзостная интрига, он все же среди людей просунулся и на весь зал:
– Клавдиному сыну загранпоездка светит, а такая жена им ни к чему.
– Какая? – спросила судья.
Никто судье не ответил, и она настаивать не стала, а только потупилась да вздохнула. А Генка от стыда за всю картину сказал от полной безвыходности:
– Да плевал я на всех вас…
– Проплевался, – говорит Зотов внуку. И Оленьке: – Не горюй, доченька.
Она кивнула.
Клавдия в бешенстве, идиотизм на идиотизм наехал, грязь на грязь, туман на туман – загранпоездка у Генки, похоже, треснула, развела без пользы, и имущество постановили поделить.
– Пускай кольцо отдаст с надписью! – крикнула Клавдия.
Оленька тут же кольцо сняла с латинскими литерами и – судье.
– Что за надпись? – спросила судья. Оленька перевела с латыни:
– «Я скаковая блестящая лошадь, Но как бездарен правящий мною ездок».
Генка оттолкнул Анкаголика и выскочил из зала.
– Ездок… – сказал Анкаголик ему вслед.
Немой дожидался нас на улице.
После развода он пришел проститься с нами, с Олей и Санькой-малолеткой. Но Оли не было, погода сорвалась внезапно ледяным ливнем, где-то прорвало трубы, и из крана в кастрюли даже вода не капала, а бабушка хотела варить картофель.
Бабушка молчаливая, а внук ее Афанасий и вовсе Немой. И бабушка открыла Немому, почему он зло победил. Он бессловесный, а против него бес словесный – нуль без палочки.
Дед хохотал так, что перехохотал погоду, и она изменилась к лучшему и потеплела, и из крана в кастрюлю потекла вода.
И в той воде бабушка сварила картофель в мундире, и мы чистили картофель краем вилки, и было желтое подсолнечное масло, и белая соль, и черный хлеб, и торная дорога по нашей зотовской тропе, где даже у бессловесного больше сил, чем у беса словесного, а уж словесные-то Зотовы любого беса переговорят, и потому не столь важно, какие ты слова говоришь, а главное – кто ты?








