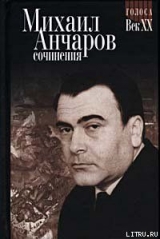
Текст книги "Как птица Гаруда"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
– Да уж, – сказала Минога и, потянувшись, выпятила попку. – А не шалить он не может?
– Не знаю, – сказал Громобоев. – Я попытаюсь.
– С какой-нибудь другой дурой, – сказала Минога.
И, наклонившись вперед, вошла в пруд, тяжело расталкивая воду коленями. Потом нырнула и вынырнула без брызг.
– Сиринга! – крикнул Громобоев. – Я пошутил!
– Да мне-то что?… Не шути! – крикнула она, исчезая в расплавленной полднем воде.
До вечера Громобоев лежал и смотрел в небо, и я лежал и смотрел в небо. И мы поврозь смотрели на облака, в которых видели что хотели.
До темноты Громобоев лежал и смотрел в землю, и я лежал и смотрел в землю. Он смотрел на муравьев, которые тащили гусеницу, и я делал то же самое. И муравьи тянули гусеницу все врозь и куда попало, и процессия двигалась еле-еле.
Потом он встал и в темноте пошел от лесного пруда по шоссе Энтузиастов в Москву, и я за ним – метрах в пятидесяти и по другой стороне.
Городская ночь у приемыша, у сыночка моего.
Я шел за ним по пятам и увидел, как он наконец догнал женщину.
Я думал, наконец проснулось в нем и себя ищет. Себя искать – это другого искать. Иначе как себя найдешь? И тут, смотрю, он ее под руку взял и говорит: «Я вас провожу… Дайте я вас провожу». – «Да ты же мальчик совсем, – она говорит. – Рано ты эти дела начинаешь». Тут они на свет вышли, и она его разглядывает. «Да нет, – говорит он. – Я вас только провожу. Мне надо, – говорит, – мне кого-нибудь проводить надо». – «Чудной ты, – говорит, – какой-то… Может, ты больной, а я с тобой иду? А может быть, ты убийца?» Тут он засмеялся и говорит: «Вы же сами видите, что нет…»– «А ты целовался уже?» – спрашивает она. «Один раз, – говорит он. – Не понравилось». Она посмотрела на него искоса: «А я знаю, почему не понравилось. Тебе показалось, что во рту как будто чернила». Он очень удивился. «Откуда вы знаете?» – «У меня у самой так было первый раз». Он говорит: «А я думал, что так только у меня… Значит, вы теперь меня не боитесь?» – «Нет, – говорит она. – Я теперь за себя боюсь. Ты какой-то не такой». А он отвечает ей: «Такой… просто, – говорит, – я такой. И все. Идемте, мне вас проводить надо». – «Я понимаю, – она говорит. – Это я понимаю».
Я видел, как зарождается жизнь. Потому что жизнь зарождается ночью. Утром она только просыпается, день омрачен бесплодием суеты, а вечер – печалью узнавания. И только ночью, когда тем, кто спит, кажется, что все спят, только ночью зарождается жизнь.
«Мне надо вас проводить, – сказал он. – Вы кто?» «Я работаю на складе», – ответила она. «Все мы работаем на складе», – сказал он. «Если ты думаешь, что я тебя пущу в постель к себе, ты ошибаешься», – говорит она. «Нет, – говорит он, – мне не надо. Я люблю другую». – «Тогда не надо меня провожать, если я не любимая». – «А кто будет провожать нелюбимых?» – спросил он. «Ну-ну», – сказала она.
А под мостом кипели тощие электрички, но их не было видно и даже было не слышно из-за гула в ушах.
Первый час ночи. Кто будет провожать нелюбимых? Наступило первое сентября. Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Через несколько часов этого проклятого сентября в Европе началась вторая мировая война.
Тысяча девятьсот тридцать девятый год.
Глава четвертая
Состоится защита
И горы, ужасные в наших глазах громады, могут ли от перемен быть свободны.
Ломоносов
21
…Тут финская кампания кончилась.
Вернулся мой сын Серега, ледяным ветром помороженный, снайпером-кукушкой простреленный, миной контуженный, и начал пить.
Попил, попил – перестал. Снова стал на тренировки ходить на стадион «Сталинец», но жить в семье не хочет. Клавдия его донимает – и такой ты, и сякой, и что тебе дома не сидится, дело мужа семью снабжать продуктами питания и три раза в неделю жену любить или даже чаще.
А он смотрит на нее, кобылу сытую, сына держит за белую макушку и говорит:
– Тоска мне от тебя, Клавдия. Хоть бы в артистки пошла, что ли.
А она – сыну:
– Гена! Гена! Видишь, как твой папа с твоей мамой обращается?!.. Вернулся, ни чинов, ни должности… Как был серый токарь, так токарь и есть… и остался ни при чем… Чему у тебя сын научится?… Как пальцем не шевелить, чтоб в люди выйти?… И разговор у тебя отсталый – учти… Сейчас не то что папанька-маманька, сейчас и отец с матерью не в моде, сейчас в моде папа и мама. Учти – сейчас и пыс-пыс не говорят, а пи-пи…
– Ну пи-пи, – говорит Серега, – так пи-пи… А скажи, Клавдия, знаешь кто такой Окба?
– Не начинай, не начинай… Опять хулиганничаешь?
– Окба, Клавдия, был арабский полководец. Завоевал всю Африку, влез с конем в Атлантический океан, саблю вон и говорит: «Господи! Ты сам видишь – дальше пути нет! Я сделал все что мог…»
– Если ты, зараза, еще раз схулиганничаешь… – говорит Клавдия. – Учти… Начитался, зотовское отродье, гулеван… Хоть бы пил, что ли…
– Нет, – говорит Серега. – С этим все.
А росла этажом выше девочка-соседка. Шестнадцати лет, звать Валентина, озорная, хорошенькая, прямо клоун какой-то. Отца нет, мать в типографии работает, в «Вечерней Москве».
И наладилась эта Валентина Сереге на этаже попадаться. Как он к Зотовым идет, так она сверху спускается, якобы за хлебом.
Ну, то се, стала в дом заглядывать.
– Тетя Таня, я в булочную. Если «жаворонки» с изюмом будут или другая сдоба, вам взять?
– Возьми.
– А если сушки?
– Можно сушки.
– А если с маком?
– И с маком хорошо.
Так и прижилась.
Однажды пришел Серега с ночной и заснул на диване, а эта Валентина тут как тут. Таня посуду моет, а Валентина эта тряпкой мебель наяривает и все мимо дивана – шасть-шасть. Тут звонок, Клавдия пришла и с порога блажит:
– У вас?
– А где же еще?
– Напился, стервец?
– Кто?
– Серега!
– Он не стервец, – говорит Валентина и тряпку к груди прижимает.
– А это кто такая? – спрашивает Клавдия.
– Соседка, – говорит Валентина.
– Соседка? Ну и ступай по соседству.
– Клавдия, уймись, – говорит дед. – Уймись!
– Дедушка, я вас не затрагиваю.
– А ты попробуй затронь, – говорит Зотов Петр Алексеевич.
– Не стервец? – уточняет Клавдия. – А кто же он?
– Герой… – отвечает Валентина.
– Если эта… еще раз меня оскорбит… – говорит Клавдия.
– А что будет? – спрашивает Зотов.
– Нет… видно, правды здесь не добьешься, – говорит Клавдия. – Надо в профком идти… или выше.
– Лучше выше, – говорит дед. – Выше надежней. Прямо к Михаилу Архангелу, – так и так, Михаил, у меня задница, как у твоей кобылы, а муж не трепещет, – накажи его, Архангел Михаил, как того змея!
Клавдия ушла. Посуда перестала звенеть. Серега глаза открыл и говорит из оперетты «Свадьба в Малиновке»:
– Дед, що я в тебя такой влюбленный?
– Какой я тебе дед? Я тебе прадед.
А Валентина на Серегу из угла во все глаза глядит – сидит с тряпкой в обнимку.
– А это что за чучело? – спрашивает Серега.
– Сами вы чучело… – отвечает Валентина.
– Ну ладно, – говорит Серега. – И правда, пора домой.
Ушел.
А как только ушел – Валентина из угла выскочила.
Она закричала:
– Не любит она его! Понятно вам?! Она ему врагиня!
– Я вот тя сейчас ремнем, – сказал дед. – А ну пойди сюда.
– Не имеете права, – отскочила она за стол. – Я вам посторонняя.
Щеки горят, волосы в стороны, на подбородке слеза повисла.
– Соплю вытри, – говорит дед.
– Это не сопля, – сказала она и вытерла подбородок.
– А он ее, – спрашивает дед, – любит?… Вот в чем загвоздка.
– А я откуда знаю?! – опять заорала она и рухнула на диван рыдать.
И на нее посыпались белокаменные слоны – семь штук.
Потом новогодние праздники подошли. Дед говорит:
– Надо всех собрать. Пусть все встретятся и запомнят, а то ведь 41-й наступает.
– Дед, а дед… – говорит Зотов. – Не смущай ты нас, не каркай.
– Петь, Петька, ничего уже не остановишь. Война назрела, как чирей на шее. Ее бы можно было на тормозах спустить, да Витька Громобоев у себя на шее чирей бритвой надрезал раньше времени. Одеколоном, правда, прижег, а все же раньше времени. Плохая примета. И по Нострадамусу на 43-й год конец света выходит и наступит разделение овнов от козлищ.
– Что же ты с нами делаешь, дед, с нечеловеческими своими приметами? – говорит Зотов. – Как после этого Новый год, веселый праздник, встречать?
– Я свое слово сказал, – говорит дед. – Но одному тебе. А ты – никому. Собирай всю семью, и ближних и дальних, и друзей ихних, – кто решится, и их возлюбленных. Повидаемся.
«Не забуду я того Нового года, до 12.00 сорокового, а через минуту – сорок первого.
Собрались все кто мог. В одной комнате – старшие, в другой – младшие. А в коридоре встречались, кто кому нужен. Отдельно.
– Простите меня, отец, – сказал Громобоев, – что я плохую примету принес. Но очень шея болела. Я и надрезал. Может, когда и лекарство придумают.
– Да кто ты такой! – говорю. – Щенок, чтобы из-за твоего чирея война началась?! У нас с германцами мир.
– Пойдем, отец. Дай Валентине с Серегой поговорить.
– Я ей поговорю!
– Нельзя ей мешать отец, сгорит она.
Мы с Витькой были в коридоре, а тут, гляжу, в кухне стоим, некрашеные половицы к закрытой двери текут, на окне цветы ледяные, а в коридоре за дверью, тишина.
Потом слышу, Серега говорит:
– Не надо, дурашка… Ты еще пацанка, подснежник весенний, а я уже битый-ломаный.
– Нет… Нет… – говорит Валька. – Нет… Так не может быть… Ты просто смерти не боишься, а жизни ты боишься…
– Ну погляди… – говорит Серега. – Видишь, всего меня слезами измазала… У меня сын и жена…
– Перворазрядник ты! – говорит она. – Всегда перворазрядник… Вот ты кто. Пойми, нет у тебя жены. Я буду у тебя жена. Неужели ты этого не жаждешь? Я буду у тебя жена! Через год… Мне Громобоев ваш сказал.
– Господи, а об этом откуда он знает?
– Такая у нас судьба… Я потерплю, и ты потерпи.
Эх, братцы…
Ну вышли мы с Громобоевым из кухни, в коридоре Серега на сундуке сидит и на косынку смотрит, на розовую.
Часы начали бить двенадцать раз. Пора стаканами греметь.
– Ушла? Серега кивнул».
22
1941 год начался тихо, для тех, кто не знал. Но в нашей семье знал дед, и это всех давило. И с марта месяца, как завыли коты, кто постарше, стали незаметно готовиться, будто прощаться.
Серега на тренировках носы сворачивал и сам приходил битый. И на лыжах стал ходить классно, опять первый разряд получил.
Немой со своей девчоночкой все в пинг-понг играл. Из комнаты его каждый вечер – щелк-щелк, цок-цок. Потом она смеялась. Она только с ним смеялась, а так тихая, хорошая девочка.
С Таней у Зотова было тоже хорошо. Он уж ей сколько лет не изменял, забыл даже, как это. Он ее спрашивает:
– Очень ты страдала?
А она отвечает:
– Гордилась… Только боялась, семью поломаешь.
– А чем гордилась, дуреха? Чем уж тут гордиться?
– Что у меня мужик, от которого бабы падают, а я ему хозяйка.
– Таня, – говорит Зотов. – Мне такие бабы, как ты, ни разу не попадались. Тань, прости меня, дурака.
А она:
– Какая же я тебе баба? Я тебе жена.
– Нет, – говорит, – Таня… Жены, они разные. Ты человек, Таня. Человек ты.
– Захвалишь…
– Не захвалю. Человек от похвалы расцветает.
Такое настроение пошло, что хоть снова начинай детей делать. Только уж некогда. Если в 41-м опять перемена судеб, значит, опять на грудного младенца судьбу наваливать. Хватит. Зотову на всю жизнь те проклятые семечки в память вонзились.
«Валька новогодняя совсем расцвела – хорошенькая такая стала, плясунья. В типографии работала, „Вечернюю Москву“ печатала вместе с матерью. Как перерыв – влезет на бумажный рулон босиком и из кинофильма „Петер“ пляшет – тири-тири-тири вундербар… тири-тири-тири вундербар, – умора. Прямо клоун Виталий Лазаренко. Или по-оперному закричит: „Са-а-лавей мой, са-а-алавей“. А то говорит мне: „Дядя Петя, я в натурщицы пойду. Голую меня рисовать будут, представляете?“ В самую пору девка вошла, а безнадежно по Сереге сохнет. У него тоже душа, видно, не на месте. Не иначе – перед ней совестно. А то бы сошлись, ясное дело.
А в июне Валька пришла однажды в выходной и стала с бабушкой нашей сундук перетряхивать от нафталина. А потом надела бабушкину фату, выходит к нам и спрашивает у Сереги:
– Правда, я в этой фате какая-то беззащитная?
Серега глядит на нее во все глаза и молвит так задумчиво:
– Может, мне на край света уехать?
А Валька:
– Вы подумайте, нас же больше всех людей на земле, а почему женщин не спрашивают? Может, нам не нравится, когда от нас уезжают?
А тут выходит Клавдия, оглядывает всех своими умышленными глазами и говорит, будто возвысилась над всеми:
– Обалдели вы все или нет, грамотные? Войну объявили, только что…»
А на следующий вечер прибежала к Зотовым Валька с «Вечерней Москвой»-еще краска не просохла:
– Можно Сереже позвонить?
– Звони…
– Это дежурный?… Позовите, пожалуйста, Зотова Сергея… Кто спрашивает?… Валя… Невеста…
– Правильно, Валька, – сказал дед. – А вы все – молчать!
А все молчат. Газету разглядывают и слушают, как их души прощаются.
– Сережа, ты?… Здравствуй, Сережа… Это я, Валя… Я не молчу… Хочешь, я тебе прочту, что у нас сегодня в «Вечерке»?… Она еще наполовину мирная газета. Еще в продажу не поступила… Почему «последняя „Вечерка“»?… Почему ты сказал «последняя»?… Сережа, не молчи!.. Сережа, а ты не можешь заехать проститься?… Может быть, удастся?… Сережа, я буду ждать у ворот… Сережа…
Вот она – «Вечерка» 23 июня 1941 года. Зотов из нее вырезки вклеил.
«…Ежедневно смотрите и слушайте художественные звуковые фильмы „Болотные солдаты“, „Семья Оппенгейм“, „Профессор Мамлок“, „Три танкиста“, „Богдан Хмельницкий“…»
«Мосгорэстрада. Эстрадный театр Эрмитаж. На днях государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением и при участии Леонида Утесова. Премьера – „Шутя и играя“. Постановка Л. Утесова и заслуженного деятеля искусств Н. Акимова. Открыта продажа билетов».
«Управление санаториями и домами отдыха продает курортные путевки на 41 год в Кисловодский санаторий, вновь выстроенный, хорошо оборудованный и оснащенный всеми лечебно-диагностическими установками. Путевки имеются с июня по декабрь 41 года. Стоимость 26-дневной путевки -830 рублей. Москва, Неглинная, второй этаж, комната 209».
…Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР, министра иностранных дел товарища В. М. Молотова…
«…Митинг на станкозаводе им. Орджоникидзе. На заводе „Калибр“, на фабрике „Дукат“, на заводе „Компрессор“, также голос советской интеллигенции: Чаплыгин, Вернадский, Хлопин, Манандян, Образцов, Маслов, Ротштейн, Каштаянц – академики…»
«Премьера „Ромео и Джульетты“ в филиале Большого театра, опера Шарля Гуно. Переполнившая зал публика горячо принимала исполнителей главных ролей – лауреатов Сталинской премии народную артистку Барсову и заслуженного артиста РСФСР Лемешева».
– Даже не верится, что так все было… – плачет Таня.
– Погоди, – просит Зотов. – Дай Сереже с Валей проститься.
– Сережа, я тебя люблю… Сережа, не молчи… Что читать? Сводку? Сейчас, Сереженька.
«Сводка Главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года.
С рассветом 22 июня 41 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в гродненском и криспинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки: Гальвары, Стоянов, Цыхоновец…
За правое дело, за Родину, честь и свободу советский народ ответит двойным сокрушительным ударом за неслыханное вероломное нападение врага».
– Проклятые… – говорит Таня. – Богом и людьми проклятые… Всю нашу любовь… Всю жизнь… Кровососы…
– Не надо, Таня.
– Я буду ждать у ворот!.. У ворот, Сережа!
Далее:
«Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам…»
Далее:
«Были проведены митинги: в Большом театре, на заводе „Электропровод“, на заводе им. Молотова, митинг полярников, в депо дороги им. Дзержинского, митинг писателей Москвы…»
Далее… Далее… Валька убежала давно…
– Дед, – говорит Зотов. – Послушай!
«2 июля 41 года в 14 часов дня на заседании Московского юридического института, Герцена, 11, состоится публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Г. И. Федоткиной на тему: „Роль правовых идей во время крестьянской войны в Германии в 1524–1525 годах“».
– Дед, – говорит Зотов, – смех сквозь слезы. Дед, когда по Нострадамусу конец света?
– В сорок третьем году… В день Иоанна Крестителя… Через два года.
– Ни хрена, – говорит Зотов. – Ни хрена… Состоится защита…
– Не победили они тогда в Германии, – сказал дед. – Вот теперь сказывается.
Потом вечер дымный и кровавый. У ворот стояли все Зотовы и Валька с матерью. Сережина колонна по переулку проедет, он так узнал.
Грузовики загудели, колонна вниз по переулку пошла, Валька с тротуара кинулась. Последняя машина остановилась. Серега соскочил.
Стали все его обнимать. Никто, кроме Клавдии, не плакал. Из машины кричат: «Пора!» Дед Клавдию увел. Серега сына поцеловал. Зотов говорит:
– За семью не бойся. Пропасть не дадим.
Он кивнул. Посмотрели они с Валькой друг на друга, и та ему на шею кинулась:
– А мне что делать, Сережа? Мне?!..
– Живи…
Оторвал от себя ее руки и в машину лезет. А с машины:
– Не забывайте! До свиданья! Не забывайте!
Валька крикнула:
– Никогда!
А с машины:
– Девушка! Давай с нами!
Мать Вали говорит:
– Валечка… идем домой.
– Домой?… А где он, дом? Мама, где он, дом?!
Завывает мотор, не заводится.
– Сережа, подожди! Сереженька!
Мать ее за плечи держит.
– Мама… прости…
– Валя!
– До свиданья, мама… Я вернусь!
Машина с места тронулась, Валька вырвалась, помчалась что есть силы и догнала ее. Схватилась за борт, цепляется, а машина-то все быстрей. У Сереги лицо потрясенное, а Валька не отпускает. Хочешь не хочешь, ее и втянули в машину-то.
– Мама, я вернусь! Вот увидишь!
А мама ее – только руками за виски держится.
Вот так. И умчалась их любовь. Чужую ненависть бить.
А через два дня Немой пропал со своей девочкой.
Вернулся один. В июле.
Где был? Где девчонку пристроил? Неизвестно. Думали, по военному времени ему что будет за это, – однако ничего не было.
С работы уволился, пришел домой с солдатским мешком. Поклонился Зотовым и ушел. А во дворе его Анкаголик ждет, тоже с солдатским мешком на плече.
– Ничего. Не волнуйтесь, – сказал Витька. – Все нормально… Так надо.
И повестку достает на свое имя. Таня крикнула:
– Сыночек!..
Немой ушел, сыновья ушли – Серега и Виктор, из братьев – Николай ушел, его старший ушел, Валька ушла. Хотел и я, Зотов Петр Алексеевич, но завод отказал: «Стоп! На тебя бронь. Будешь мальчишек учить. Тебе 46. Понадобится – отпустим…»
Знакомое дело, думаю, и в ту войну я не в первый год пошел.
Ладно. Поработаем пока и книжки спасем, какие успеем. На Кузнецком мосту, на лотках магазины нипочем продавали старые книги. Защита должна состояться, хоть ты тресни, а защита должна состояться.
Мчатся машины. Состоится защита.
Ну ладно.
23
Еще в сентябре 41-го прибежал Витька из казармы, уселся напротив меня и смотрит в окно на пустой двор.
– Я вот чего не пойму, – говорит. – Монизм признает, что у всего на свете есть одна причина. И идеалистический монизм и материалистический – у обоих одна причина для всего на свете, так?
– Ну так.
– А скажи… Дуализм может быть материалистический?
– Дуализм материалистический?… Погоди… Дай разобраться… Нет, – говорю, – пожалуй, дуализм материалистический быть не может.
– А жалко, – говорит он. – А то бы все складно получилось.
– Зачем тебе?
– Хочу понять, почему все со всем связано… Значит, дуализм материалистический не бывает?
– Нет, – говорю. – У него причины-то две да хотя бы одна из них обязательно нематериальная – ДУХ…
– А если доказать, что дух это тоже материя?
– Тогда опять будет не дуализм, а монизм… Причиной-то всего опять станет материя.
Тогда, не оборачиваясь от окна, он сказал:
– А если доказать, что дух – это другая материя, особенная, неведомая еще, на обычную материю непохожая, тогда что будет – материализм или опять идеализм?
– Не знаю, – говорю. – Похоже, что материализм, только какой-то чудной.
– Почему – чудной?
– Потому что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении.
– Так ведь и тут будет то же самое, – говорит Витька. – А сколько этих видов материи – хоть одна, хоть две, может, десять – не все равно?… Важно, чтоб они были на самом деле, а не выдумка, не мираж…
– Ну если так… – говорю.
На том разговор и окончился. Мне тогда было не до двух причин всего сущего, мне бы и с одной управиться – с работой, тело свое бренное кормить, страну вооружать. Однако разговор этот имел продолжение.
Перед тем как Витьке на фронт уходить, он прибежал из казармы в увольнительную и говорит, когда уж выпили отвальную:
– Отец, я Сапожникова встретил в Сокольниках, когда присягу принимал.
– Кто такой?
– Да ты знаешь. Из нашей школы. Он теперь в саперах.
– Ну и что?
– Помнишь, мы с тобой про монизм и дуализм говорили?
– Нашел о чем помнить… У тебя на сколько увольнительная?
– Погоди, – говорит. – Любопытное дело… Сапожников тоже считает, что мину разобрать можно, а потом собрать, хоть вслепую… А человека или даже блоху – разобрать можно, а обратно сложить нельзя – в принципе.
– Это уж точно, – говорит Зотов. – Который месяц разбирают, а еще ни разу покойники не оживали.
– Ладно, вернемся с войны – разберемся.
– Вот это ты дело говоришь. А вернешься?
– Вернусь.
Тут его стали со двора звать и окликать.
– Эх, Витька, кабы знать, кто вернется…
– Ничего, – говорит. – Ты вернешься, и я вернусь, и немой Афанасий вернется.
– А Серега с Валечкой?
– Иду! – крикнул он в фортку. – Иду!.. Ну, до свиданья, отец. Жди.
Обнялись мы, а он рюмку-лафитничек задел и на пол опрокинул.
– Ничего, – говорю. – К счастью… Ну, беги.
Он выбежал. Эх… к счастью… Машина загудела. Я выглянул – «ЗИС-101», лимузин со двора пошла. Вот на каких машинах Витька теперь ездит. Похоже, приглядели его для надобностей.
Тишина во дворе настала. Кто в эвакуации, как Таня с дедом и бабушкой нашей тишайшей, кто на войне, кто в дороге, кто на работе. И мне в ночную идти.
Так и не успел Витька ответить насчет Сереги и Валечки. А писем все нет и нет.
«Не знаю, как в философии, а у войны этой точно две причины – живая и мертвая. Живая ищет согласия и товарищества, а мертвая прет на нас, чтобы загубить людское согласие на веки веков и придавить его мертвой могильной плитой…
Если будущее мне будет, то будут и записи, а не будет – Таня старые сохранит, или дед, или еще кто.
До февраля 42-го я на номерном заводе вместе с пацанами точил снаряды и мины. Утром точил, днем, вечером и часто ночью, а потом утром снова и несправедливо точил пацанов за нерадивость и за то, что меня не отпускали с завода.
На электричество был лимит, и свет по ночам я добывал трутом, кремнем и обломком надфиля. Фитиль в снарядной гильзе со сплюснутым концом, а то и просто тряпочка, плавающая в блюдце с машинным маслом. Оставляю свидетельство для внуков-правнуков. Как в двадцатом веке в Москве добывал огонь для душевного обогрева и чтения.
Для пополнения же к пище телесной, покупаемой по карточкам, я брал в аптеке таблетки гематогена из бычьей крови, размачивал водой, жарил на сковороде, солил и потом это ел, так как при моем росте мне не хватало калориев.
Знакомый человек пособил, когда ушел я воевать с фашистом. По закону того года я был дезертир производства, но партизанам было послабление, и они сообщили в Центр о моем прибытии лишь после моего „хорошего поведения“ (как выразился Батька) на железных дорогах и других транспортных магистралях, на которых действовал отряд нашего Батьки, один из крупных отрядов окровавленной страны.
А потом с другими ранеными я был отправлен в госпиталь на транспортном „Дугласе“, на том самом, на котором за день до этого опустился в отряд с небес штатский представитель Центра, приехавший по никому не ведомым делам.
Я с этим представителем Центра не встретился, что неудивительно. Потому что представителя Центра, кроме Батьки, не видел никто. Потому что представитель Центра приходил к Батьке только по ночам, во время осенней бури, а потом опять уходил с ветерком. И только год спустя я узнал, что этот представитель Центра и непогоды был Витька Громобоев, но нас разминуло».
Зотов отмаялся, сколько причиталось, в прифронтовом госпитале, а потом доказывал тамошним военкомам и командирам маршевых частей, что без него армия зачахнет, и предлагал потрогать мышцы правой, а также левой руки.
Но командиры говорили, что армия без него перебьется, а военкомы махали на него бумагами и с трудом переговаривались друг с другом о его судьбе по устаревшим телефонам.
Зотов с голодухи и беспокойной жизни совсем захирел, и обносился, и почти на нет сошел, и потому, махнув на все, сел в эшелон ехать в Москву на номерной завод и подвергаться самокритике. А когда его разбудили, то оказалось, что они едут на фронт, и выкидывать его на ходу было нельзя, поскольку поезд шел без остановок по зеленой улице, и документы у него были в порядке, «и как меня проглядели – никто этого не знал, и, значит, отвечать не только мне. И я малость приободрился.
А когда приободрился, то стал тщательно припоминать о тех местах, где сражался мой бывший отряд, чтобы внести это в свою клеенчатую тетрадь, куда я записывал не хронику века, состоящую из важнейших событий истории и общественной жизни, а незначительные для остальных, но поразившие меня явления душевной неожиданности.
Потому что по этим неожиданностям поведения я и прокладывал свой путь и мне нужны были ориентиры».
…Как отряд уходил от черной команды в лес, и уткнулись в колючку, и Немой выдрал два кола и поднял их за проволоку над головой, и кровь текла по ладоням Немого, и люди уходили в эту Триумфальную арку… И два труса поганых, которые прикрывали их огнем, чесанули в лес, а Немой запутался в проволоке, и Анкаголик вытаскивал его, и грозил кулаком вслед двум гадам, и матерился, и это видели фрицы, которые высыпали на поляну… И как их схватили и привели в комендатуру, и Анкаголик кричал, что Афоня немой, а он расскажет все за двоих, и дышал на немцев такой спиртной вонью, что они поверили…
А Немому связали руки с ногами, просунув палку под коленями, и усадили во дворе, а Анкаголика заперли в пристройку позади сельсовета, где пировала вся комендатура… И когда стемнело, Немой начал вставать с деревянным хрустом, и трещали и лопались веревки… И как Немой перевернул на колеса и подтащил пушку с размозженным прицелом, и как он целил, глядя через ствол, в окно узилища, где Анкаголик стоял так, чтобы жерло глядело ему прямо в живот, и Немой поворачивал ствол туда, куда указывал Анкаголик… И как потом Немой принес снаряд и зарядил, а Анкаголик улегся под окно у стенки и заорал: «Давай!» Орудие через окно и дверь каморки разнесло комендатуру, расположенную как раз за нею… И как Анкаголик, над которым прошла смерть, вылез в пролом, и они стали уходить, и на Немого кинулся уцелевший огромный немец, и они схватились… И немец каким-то хитрым приемом повалил Немого на спину и навалился сверху душить, а потом вдруг заорал и потерял сознание. А когда Немой из-под него вылез и взвалил на плечи, то оказалось, что кость у немца была в запястье фактически перекушена пожатьем Немого, как будто руку эту схватила каменная десница… А когда они дотащили пленного до регулярной армии и Анкаголик все подробно докладывал, незаметно отливая к себе в кружку пайковую водку из взводного котелка, то ему, конечно, не поверили, недоуменно поглядывая на невысокого Немого, гражданского человека, который скорчившись спал на лежанке, наполовину заваленный патронными ящиками, упираясь спиной в железные ящики, а ногами в стенку сарая… А потом Немой отчаянно потянулся и ногами высадил тяжелую доску в стене, и все поверили… А когда пленный свидетель с рукой в лубке все подтвердил и разведка все подтвердила, атака полка все подтвердила и оформляли приказ о наградах, то на Анкаголика не оформляли, потому что к тому времени Анкаголик уже орал песни и, нарушая все уставы, на вопрос о фамилии безобразно отвечал: «Тпфрундукевич»– и всех оплевывал.
Когда в эшелоне ехали, во время трепа один ефрейтор рассказал.
Был мужчина по прозвищу Барин, и ему немцы говорят, чтобы он был с ними: «Вы же пострадали от революции и Советской власти, и вы наш по высокой крови рождения». А он им отвечает: «Вы мне не нравитесь, я немцев еще с той войны не люблю, и мы у себя сами разберемся… Минуточку… Ага… Теперь все…» – «А что все?» – спрашивают немцы. «Сейчас взорвемся…» И уцелевший немец об этом рассказывает, и его бьет колотун за его уцелевшую жизнь и потерю смысла.
И я спросил:
– Как имя того Барина?
И он мне ответил:
– Непрядвин.
И я с изумлением записываю про существо живое, неведомое и независимое под названием «человек».
Потому что за честь и независимость нашей Родины идет война.
Я независимый, Петр Алексеевич Зотов, и никому в пояс не кланялся, потому что я живой.
24
…Сорок четвертый во мне уже гудит колоколом и назад оглядываться не велит. И приближается Победа.
Но до Победы еще дожить надо, а сорок третий я прожил уже. Вот он, целенький, весь в крови, мне вчера в руки свалился. И я пьян, и пальцы мои каракули пишут. Но я соображаю все, соображаю все, соображаю я. Точка.
У меня вчера еще раз сына убили, Сережу, и его жену истинную, на веки веков Валечку с четвертого этажа. Прощайте, детки мои, в сорок первом убитые. Медленно, медленно убивали вас в моем сердце, и настигла вас она, проклятая, позавчера, в сорок третьем, а я и вчера еще не верил, а сегодня, в сорок четвертом году, я отрезвел сердцем. Точка.
Продолжаю не перечитывая. Пьян был. Пусть останется как есть. Машина по воздуху летает, и вместо сердца у нее пламенный мотор, и ихняя машина убивает, и наша убивает, и ихняя игла штаны шьет, и наша штаны шьет, и ихний молоток гвоздь вгоняет, и наш молоток гвоздь вгоняет, и вся суть в том, кто инструмент в руках держит и, значит, для чего в руки взял… И если молоток в руки взял, чтобы прокормить себя и своих, то ты человек и дело твое человеческое, а если ты взял молоток, чтобы себя и своих над другими возвысить и надмеваться, то ты кровосос и дело твое дьявольское.
И, значит, дело все в твоей цели, о которой знаешь только ты один и от других скрываешь.








