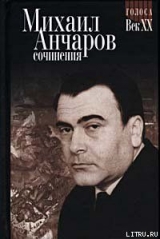
Текст книги "Как птица Гаруда"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Таня говорит:
– Смотри, чего твои братья достигли! Еще год-два, и начальство. И жены образованные. А ты как был… И от меня бегаешь.
– Я от тебя не бегаю, Таня. Моя душа всегда с тобой, и с детьми, и с дедом, и с бабушкой нашей тишайшей. А эти нам чужие, и Кольку с Сашкой к чужим занесло, и это скажется.
Сыночек приемный к тому времени чтение освоил полностью и читал вовсю – уж этот Зотовым родной и в род их пошел. И все слова, которые в смысл складываются, ухватывал на лету и с пониманием. А болботание отвергал и чурался. И Зотов с ним и с Таней полдня по травам ходили и средь камышей, и по мхам, и на цветы смотрели, и на облака, а полдня книжки читали – Зотов за домом, в лопухах, а сыночек капустный, громобоевский отпрыск, зотовское отродье, на чердаке – в нашем доме или в соседних двух. Хозяева разрешили и пускали в чердачной трухе копошиться под ледяной или жаркой крышей – по погоде. Там всегда рваные книжки водились.
Зотов, конечно, знал, что путного там едва ли сыскать – календари старые, «Нива» за девятьсот лохматый год да история Иловайского для начальных классов гимназии и реального училища – примитив: этот князь был хороший человек, а этот князь был плохой человек, вот и вся история. По этой истории выходило, будто того, кто писал, и того, кто читал, вовсе не было, а были Рюриковичи-варяги, потом Романовы-немцы, и на том жизнь на земле закончилась, не начавшись.
Однако капустный сынок Громобоев полагал иначе и с чердака не слезал. И ведь отыскал, стервец, книжку себе в назидание.
Ценности она, может, не представляла ни по узорному слову, ни по мудрости, да и прочесть ее почти что нельзя было – рванина и сало от беспечальных и бесчисленных пальцев, но, с другой стороны, это и есть признак, что кого-то и когда-то и почему-то эта не старая еще книжка за собой вела. Называлась она «Два Сфинкса», и рассказаны были в ней три истории про то, как в египетские времена и христианские времена и в нынешние времена любили друг друга двое, но все время вмешивалась третья. И всегда это было одинаково, и во все времена разлука.
Смотрит Зотов: капустный сын задумался, а он книжку прочел и тоже знает, о чем сын задумался, – время пришло.
Но вот он спрашивает:
– А куда мы деваемся, когда нас нет?
– После смерти мы распадаемся, – говорит Зотов.
– А до рождения где мы были?
– До рождения – часть в отце живет, часть в матери, называется «клетка».
– Значит, две наши половинки, – говорит он. – А до этого?
– В бабушке и дедушке были, – отвечает Зотов.
– Значит, и в них я был?
– А как же?
– По четвертушке?
– А?
– А в прадедушке и в прабабушке по восьмушке… и так далее…
– Что?
– Значит, тыщу лет назад от меня почти ничего не было, а две тысячи лет совсем почти ничего… А в самом-самом начале?
– И вовсе не было.
– А откуда же я тогда взялся?
Эх, милый, думает Зотов, если б знать, откуда мы взялись, то, может, догадались, куда мы деваемся, и придумали бы, как не уходить никуда.
– Нам в школе сказали, что бога нет?
– Ну?
– А если я тебе скажу, что ты бог? – спросил он. – Ты поверишь?
– Нет, – говорит Зотов.
– Почему?
– А если я тебе скажу, что ты бог, – ты поверишь?
– Я поверю, – сказал он.
Зотов у него книжку отнял, а он улыбается.
– Хочешь, чудо покажу? – спрашивает.
– Жарко, – говорит Зотов. – Лучше уж, когда попрохладнее, ладно?
Тут как ветер дунет, как рванет песком и пылью.
– Ты потерпи, – говорит. – Сейчас прохладней станет.
– Пойдем-ка, друг, домой…
Тут молния в водокачку шарахнула и гром ударил. На водокачке железный прут раскачался и раскалился, а конец громоотвода сияет и дрожит. У самых камышей по серой воде реки – как пулемета очередь.
А по пыльной дороге голубиные яйца скачут. Черное небо на деревьях повисло. Молнии вдоль дороги змеями вьются, а градины огромные от земли рикошетом – в воздухе сталкиваются. Зотова кто-то под навес вталкивает. А это не навес вовсе, это они под силосную башню попали, под кирпичные стояки, под недостроенную. Там народ сбился, и там он Таню обрел. Обнялись. Стоят. Ничего не поделаешь. Дрожат.
Как все кончилось и буря ушла, смотрят – по булыжнику телега тарахтит, а на телеге с кирпичом братнины жены с детьми глаза таращат, брезентом накрытые, а рядом дядька двух коников погоняет – ц-ц, но-о, кургузые, но-о, ласковые, – а коней в поводу капустный сынок ведет. Витька Громобоев, мокренький, одиннадцати лет от роду. Вышли, догнали их.
Добрались до своей улицы. Женщины слезли, по домам пошли. Сыночек их детей повел.
Зотов его дождался, слушал, не болит ли где от голубиных тех яиц, небесного льда обломков, и спрашивает:
– Ну как, детишка?
«А он мне:
– Не говори никому про наш разговор, ладно?
Что я, псих – рассказывать? Град – он погода. Пронзительный ветер».
Но с этого града перестал он от Тани гулять. Как отрезал.
А Таня расцвела тихим светом.
17
А в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году были они в осенний выходной день в гостях у деда, и там произошел разговор о свободе воли, имевший загадочное окончание.
То ли от того, что в мире творилось, то ли после того града в Вязьме и бури белой немыслимой – сблизились они в семье, будто разглядели друг друга.
– Петь, да ты никак полюбил меня? – спрашивает Таня.
– Выходит, так.
– Петя, а ведь у меня уж внуку шесть лет.
– В нашей семье внуки ранние… Мы-то с тобой когда слюбились? А? Забыла?
– Это надо же… Выходит, я в сорок шестом прабабка стану?
– Таня, ты в случае чего мои тетрадки сбереги.
– А в случае чего?
– Ну мало ли…
В этом году Бенито Муссолини сокрушать Абиссинию поехал. Фашизм внутри окреп, созрел, внешнее наступление началось. Гнойный прыщ лопнул.
– Ну, похоже, что реализм кончился, – сказал дед. – Начинается сон и мрак… Сверхчеловеки мир сокрушать поехали.
А Витька вскинулся вдруг и спрашивает:
– А сверхчеловеки это кто?
– Это которые свободой воли балуются и живут во сне, – отвечает дед.
– А свобода воли это что?
– У отца спроси. Он теперь на четыре копыта кованный.
А Зотов уж к тому времени сквозь дебри проломился и мог своими словами говорить. И ясно видел, что все, кто полагает, будто мир таков, как его левая нога хочет, – либо жулики, либо мимо чего-то реального на деревянных конях проехали.
Имена в философии почтенные, школы научные, ученики ученые. Господин Шопенгауэр со школой, господин Гартман со ученики, господин Ницше с поносом, господин Штирнер в малой шкапе со жулики. Люди умные, не отнимешь, безграмотностью не огорченные, рассуждения у них звонкие, остроты до хохота смешные, а видения сонные, и все карусель на одной оси вертится – что моя левая нога хочет, то и есть, а также правая. И чтоб была пирамида из людей, а на вершине ее – унитаз небесного цвета, а на нем один, который всех одолеет, потому что его свобода воли, волюнтаризм его, этого схотел.
И крутит та карусель мимо жизни, и тошно людям смотреть на ту карусель. А им с каруселями этого не видно. Потому что суть жизни не в голове и мнениях, а в том, что есть на самом деле, в человеческих усилиях согласованно выжить телом и духом, и в том, что люди для этого придумали, – это и есть жизнь.
И все школы с «абсолютами» и «миром, как воля и представление» выросли из одной мысли давнего человека, грубого и правдивого.
Звали его Дунс Скотт, и он необоримо доказал, что ежели бог есть, то бог есть неограниченный произвол, поскольку ему никто не указ.
Все только рты разинули – никуда не денешься, если бог есть, то он всемогущ, а если всемогущ, то чего он хочет, то и будет. А это и есть неограниченный произвол.
Дунс Скотт первый из всех поставил точку, последнюю. Ну а у всей последующей карусели – труба пониже и дым пожиже, и чтобы не признавать, что основа всего труд и кто не работает, тот не ест, запустили иную карусель – «чего моя нога хочет», – однако ничего своего оригинального после Дунса Скотта не придумали… Только Дунс Скотт был человек честный и доказал, что произвол доступен лишь творцу вселенной, ежели он есть, а остальные уговорились считать, что неограниченный произвол доступен и шустрому.
А шустрых много, и произвол одного натыкается на произвол остальных, однако без труда не выловишь и рыбку из пруда. А есть-пить даже господину Ницше и господину Штирнеру, апостолу эгоизма, надо. И хочешь ли, нет ли, а придется проснуться в крови и злобе несусветных видений.
Все это Зотов Витьке растолковывал, надеясь на некоторое приблизительное его понимание, а потом оробел и спрашивает:
– Витька… ты чего-нибудь понял, что я про баловство со свободной волей говорил? Тебе ведь уже двенадцать…
– Понял, – сказал он. – Баловаться нельзя.
Таня засмеялась, и дед засмеялся, а у Зотова вдруг шевельнулось, что Витька нарочно пацаном притворяется. Спокойней ему, что ли? А дед говорит:
– Никак директор к нам пожаловал.
– Щекин, что ли, Ванька? – спрашивает бабушка.
А в том году, надо сказать, старики мастера в ход пошли. Надо новую технику осваивать. Стахановцы, совещания производственников, а также школы передового опыта и, стало быть, шефство старых мастеров над молодыми.
Деду семьдесят четыре, мастер – поискать такого. А вот насчет шефства над молодыми – сомнение. У деда слава – книжник и озорник. Такого опыта напередает, что, может, лучше и погодить его передавать. Потому что лозунг дня теперь стал не «техника решает все», а «кадры решают все». Однако «кадры решают все» – для освоения все той же техники. А дед не соглашается с этим ограничением. И это известно всем.
И потому директор Щекин Иван сам пожаловал.
– Здравствуй, Ваня, – сказала бабушка тишайшая.
На заводе тогда некая запинка в делах наступила, а замом Щекина был увлекающийся Найдышев, который все гайки подкручивал для пользы дела.
А директор знал: если дело на заводе вразнос пошло, значит, Зотовы к нему охладели и никакое подкручивание гаек не спасет. Подкручивать гайки можно, если Зотовы тебе верят, и это можно сделать один раз, ну другой. А если не верят, – все впустую, и директора снимут. И во второй раз в сверхсильного директора не поверят. А начнет кто гайки закручивать – резьбу сорвет.
– Ты, Зотов, не обобщай, не обобщай… Ты дообобщаешься, – сказал Найдышев-увлекающийся.
– Чихал я на тебя, – сказал Зотов-старший.
И Щекин вызвал деда к себе.
– Не жми, резьбу сорвешь, – сказал ему дед. – Директор в своем деле должен быть изобретатель, как токарь, иначе его никакой план не спасет… Тебе дали план – и соображай как быть… Глупый директор работает с бумагой или станками, а умный с человеками… Будь с людьми умный – они остальное сами сделают. А то один раз приказал – сделали, другой раз приказал – не хочется, а третий – халтура, или разбегутся – и дело стоп. Имей подход. А то у нас как? Либо приказ – смирр-на! На-апр-пра-гу! На-а-ле-е-гу!
– Не ори, – сказал директор. – Люди же кругом.
– Либо лебезят, угодничают… любому паскуде в ножки кланяются, чтоб только работал. А то, не дай бог, осердится и с работы уйдет… А куда уйдет? В жулики – не всякий, а на другой завод пойдет. А ты имей другой подход.
– Так какой же, к черту, другой подход? Ничего другого не придумано.
– А уважать не пробовал? – спросил дед.
– Конкретно. Болтовня надоела, – резко сказал директор, как сплюнул. – Конкретно.
– А конкретно – каждый чего-нибудь знает. Уважать – значит советы выслушивать. Тогда человек становится веселый и гордый и в своем деле не шкура.
Так они на заводе споры спорили, а теперь Щекин пришел уговаривать деда передавать нужный опыт, а ненужный не передавать.
И опять они схлестнулись насчет разделения труда в обществе.
А Зотов – младший глядел в осенний двор, где у сарая неизвестного назначения тщился восстать и воздвигнуться таинственный пьяница в сером кепи козырьком назад, дабы козырек не мешал ему елозить ликом по сараю.
Дед с директором спорили, а Зотов, как и дед, не хотел, чтобы его голова бегала от него отдельно и называлась специалист Иван Иваныч, а он был бы только руки и ноги и умел делать детей. Потому что это не есть разделение труда, а расчленение трупа. Он цельноскроенный и цельнорожденный человек, а общество это не машина, а федерация и союз. И если сравнивать общество даже с организмом, то и в организме еще неизвестно и дело темное – то ли руки работают, потому что голова думает, то ли голова думает, потому что руки работают. Ну и будьте любезны.
Дед спросил директора:
– «Радость» знаешь от какого слова?
– Ну?
– От слова «рада», что означает «совет», то есть со-ведение, совместное знание. А если у меня радость ушла, значит, мое ведение никому не нужно. И чтобы была радость, нужен совет – чего ты знаешь, я не знаю, а чего я знаю – того ты не знаешь. И совет это копилка жизни, где знание в оборот пущено. И когда с человеком советуются, у него радость. Или не прав я?
– Прав, – сказал директор Щекин. – Теоретически.
– И практически.
– А практически – приказ есть приказ, – сказал директор, – потому что война на носу. Газеты читаешь?
– Я и без газет знаю, – сказал дед.
– Откуда же?
– Я при капитализме жил и действовал, а ты сиську сосал – вот и все твое действие, – сказал дед.
– Тебя не переспорить.
– А со мной хоть спорь, хоть не спорь, я правду говорю.
– Правду! Правду! – закричал директор, будто убегая от чего-то. – А дисциплина нужна? Нужна?!
– Со-знательная, – сказал дед. – Со-ветская, иначе – радостная.
– Рассуждаешь, – крикнул директор. – Начетчик ты, как этот, как фарисей!.. А хочешь, я пример приведу? Прямо в дом приведу! Хочешь?! Я думал, он ушел, а он по твоей двери ползет, можно сказать, стучится.
– Кто?
– Да пример! Пьяница этот чертов. Вот, слышишь?
– Неужели не ушел? – спросил дед.
Зотов открыл дверь. Пьяница ввалился и по стене сполз на корточки.
– Вот она, правда, – сказал директор и даже повеселел. – И давай посмотрим правде в глаза.
– Не получится, – сказал Витька. – Они у него не раскрываются.
Директор захохотал.
– Да-а… конфуз, – сказал дед.
– Ему, наверно, идти некуда, – высказался Витька.
– Ты кто такой? Кто такой? – громко спросил директор пьяницу.
– Кто такой, кто такой… Анкаголик! – ответил мужик, не открывая глаз.
Директор махнул рукой и продолжил, горячась.
– Речь идет о сознательной совместной работе, – сказал директор. – Сознательной и совместной, – тогда можно планировать. А когда вот этакое… – директор опять кивнул на малого. – Кто ты такой?! Ну кто ты такой?!
– Р-рабочая сила, – неожиданно ответил тот. – С твоего завода трудящий…
– Ну вот… – сказал директор. – Ясно? С какого завода? С нашего?
– Нет, с твоего, – сказал Анкаголик и наконец открыл глаза. – Ты – хозяин, я – рабсила, ты в-велишь, я делаю, а к-когда не в-велишь, я пью. Такое мое з-занятие. Имею право?
– Как твоя фамилия, быстро… – Директор начал тяжело дышать. – Быстро, фамилия!
– … Тпфрундукевич! – быстро ответил тот и всех оплевал.
Витька заржал и попытался повторить: «Тпфрундукевич»– и тоже всех оплевал.
– Ладно… Милиция разберется, – сказал директор, опять утираясь.
– Мать… накорми его, – сказал дед.
– Молока поешь? – спросила бабушка. Анкаголик кивнул.
Так в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году закончился разговор о свободе воли. Неужели, думал Зотов, и этот – Фрундукевич – тоже вселенная? А в нем-то что?…
18
А что было в тридцать шестом?
На сороковинах по дяде Васе-истопнику было негромко. Не то что после кладбища, когда вдова Селезнева, готовясь к поминкам, причитала на весь двор:
– Дру-жеч-ка ты мо-я!.. Да на кого же ты меня по-ки-нул?!.. Кланя, гляди, картошка не подгорела, а?!.. Дру-жеч-ка ты мо-я-а-а! Клань! Слышь, что говорю?!.. Дру-у-жеч-ка-а…
Ну и так далее. А под конец старшая истопникова дочь Нюшка сказала гостям шалившим: «А ну пошли отсюдова!» – и розово и сочно оскалилась. За это, а также за резиновую обливную фигуру была Нюшка местным игрушечником прозвана Миногой.
Однако эта кличка была как бы стрела, скользнувшая мимо, поскольку тот игрушечник был с мечтой в голове и не промахивался только в сказках. И потому Нюшка Селезнева раздалась в телку и погасла обыденно.
А зажгла та соломенная огненная стрела кличку Минога над совсем другой женщиной, и засияла она телесным очам невидимо, а лишь духовному зрению очевидно.
Стала жить у Селезневых их племянница Евдокия Копылова из Серпухова, двенадцати лет.
Ее Витька мой разглядел первый.
Сначала заметили, что любит безопасные костры жечь, на берегу Оленьего пруда в Измайлове, в старой кастрюле с дыркой для тяги. Горит костер, она смотрит. Потом заметили, что костер она зажигает перед каким-либо неблагополучием. И оно оправдывалось, и костер тот был предупреждением. А потом заметили ее отказчивость от всего, что не по ней, и небрежное пристальное внимание ко всему.
Подбородок чуть острый, золотые волосы как попало заколоты. Встанет – руку в бок, нога в сторону повернута, будто пляшет, другая рука, в локотке согнутая, далеко от лица отставлена, и розовые пальцы держат длинную голенастую травину, а другой конец стебля она покусывает белыми зубками, и губы кажутся будто пересохшими, будто опаленными и запекшимися в неодолимой жажде расцвесть.
– Чудо… – сказал дед, и один человек кивнул – Витька Громобоев.
Худенькая еще, сама как камышинка, но Витька не иначе зарю увидел, рассвет, с перстами пурпурную Эос.
Костер горит на берегу. Ни ветерка. А окликнешь ее – исчезнет, будто и не было.
Гибкая она была.
А костер горит на берегу, на Оленьем пруду в старой кастрюле, – предвещает неблагополучие.
Чтоб узнать, как сегодня жить, надо приглядываться к тем, кто завтра придет, – к детям.
А тут пошла такая полоса, когда двор подметать – и то стройными рядами. Стройными рядами к светлому будущему – будто полк по дороге пылит, так ведь дороги-то эти еще прокладывать надо. Ну это в счет не шло.
Кто стандарту поддавался, а кто нет.
Минога не поддавалась. А в чем? Того никто определить не мог. Потому что определить значит поставить предел. А как предел поставить, если она ни на кого не похожа?
Определили ее в новую школу, а за ней мальчишки стадом, и все физкультурники.
– Она мешает процессу учебы, – определили в школе.
– Я думаю, учеба должна начинаться с нее, – задумчиво заявил Витька.
Тогда в школу вызвали Зотова.
– Ваш сын за нее заступается… Эта девочка своим поведением кого хочешь с ума сведет.
– Уже свела, – говорит Зотов.
– Понимаете… Она не как все.
– А может, все не как она?
– Так не бывает… Не может весь полк идти не в ногу, а один господин поручик в ногу. Логично?
– Логично, – говорю. – Ежели полк по дороге идет. Но по мосту в ногу не ходят. Мост обвалится. Любой ротный знает. И по грибы в ногу не ходят, и гуськом тоже.
– Что же, мы должны под ее дудку плясать, так, по-вашему?
– Нет, – говорю. – Это она не хочет под вашу дудку плясать.
Конфликт на принцип пошел.
– И вы не как все, – говорю. – Все не как все. Потому человечество и развивается.
– Зачем они на нее накинулись? – спросил Витька. – Все скопом… Учителя – нет, а учительницы – все скопом.
– Для удобства процесса обучения.
– Жуть, – сказал он.
– Не дрейфь, парень… Это все во имя логики… Но в ней зерно страшной ошибки, которая не становится роковой, потому что в решающий момент на логику плюют, – сказал Зотов ему, как самому себе. – Витька, формальная логика годится для неживого. А живое лишь соглашается ее проверить. Но потом оно расстается с ней и начинается живое поведение.
– Вот! – сказал он.
– Непонятно.
– Что-то родилось, – сказал юный Громобоев. – Ну я пошел…
А кличка Минога прилипла к Евдокии, которая не поймешь когда вверх вывинтилась.
Ну такая стала прелестная, строптивая – глаз не оторвать. Когда она в Измайлове на Оленьем пруду плескалась, мальчишки пластами в траве лежали – подбородками в кулаки – и глядели.
А однажды Витька Громобоев опустился к воде и стал тритонов в банку ловить. Она обернулась, он тритонов в пруд выплеснул.
– Чего тебе?
– Сиринга, – сказал он.
А она саженками через пруд на тот берег.
Он – кругом по берегу. Добежал – там нет никого. Скрылась, как не было. Ждал он ее, ждал. Вернулся назад – а и одежды ее нету.
Стал он в свою банку свистеть: бу-у… бу-у… Потом банку в кусты закинул и срезал бузинную веточку.
К ночи, когда Зотов уже засыпать начал, вернулся с дудочкой в четыре дыры. По-нашему – жалейка, по-бессарабски – флуэр.
А наутро Дворникова вдова с дочкой и племянницей к родне уехали в Серпухов.
Хотел было он за ней, да бабушка не пустила.
– Школу надо кончить, голубчик.
– Какую школу?… Какую школу? – спросил он, прикрыв пустые от скорби глаза. – Этой школе тысячи лет…
– Я тебя не пойму, голубчик, – сказала бабушка. – Не напускай на меня тоску, ладно? А то ведь не выдержу.
– Ладно… – сказал он и стал – делать най из бузины.
Най – это дудка такая бессарабская, вроде губной гармошки или футбольного свистка, из многих свистков сложена.
А полюбил Витька, оказывается, навеки.
19
Такая полоса.
Немой зотовский в землю смотрит. И ни о чем не говорит, поскольку он немой. Забрел к нему Анкаголик, что-то сказал, и они ушли из дому, да через сутки вернулся немой Афанасий с девочкой на руках, на вид лет восьми. Хорошо одетая и бледненькая. Волосы каштановые, шелковистые, прямые, недлинные. В коридоре на пол поставил и руку ей на голову положил. Даже не так было. Пришел откуда-то с ребенком на руках, опустил на пол и ввел в комнату. А уж потом на голову ей руку положил, и она не стряхнула, а только смотрит. «Мы на них смотрим, они на нас. Что сказать, не знаем, а у всех одна догадка – ясное дело, что темное дело. Никто не знает, как быть, кроме немого Афанасия с бешеным взглядом да бабушки нашей тишайшей».
– За стол, за стол. Еда стынет, – сказала бабушка. – Сейчас супчику поедим. Перловый, с говядинкой. Тебя как зовут?
– Оля.
Никто Немого ни о чем не спрашивал, потому что он немой. Так и осталась Олечка у Зотовых, – тихая девочка, неразговорчивая. Бумаги все при ней. Немой повел ее сперва к Соколову, начальнику всей благушинской милиции. Чудесный мужик Соколов, фигурой медведь и лысый. Как они там разговаривали и куда он звонил, – а это точно, и все об этом знали, а тогда мало кто звонил, – но только после Соколова Зотовых тоже никто ни о чем не спрашивал, а осенью Олечке в школу идти вместе с Генкой, сыном Сереги и Клавдии.
Девочка тихая, незнаемая. Немой на нее пылинки не дает упасть, а кто подойдет к ней, Немой глаза на него подымет, и тот уходит. Приволок однажды лист фанеры – десятимиллиметровки, сетку достал. Ракетки выпилил. Три мячика купил, целлулоидных.
– Пинг-понг, – сказала Олечка и первый раз улыбнулась узнаваемо, как дитя.
Она в Немом души не чаяла, все его за руку держала, а когда никто не смотрел, то руку его раскачивала. Без костей, видать, та рука была, а сила в той руке была немереная, звериная.
Так бы и жили, если бы Клавдия все Витьке не рассказала. Клавдия всегда что не надо первая знала, а что надо знать, то вязло в ней, как полуботинок в дерьме.
У Олечки дядька профессор по аграрному вопросу, а у него жена – не то немка, не то англичанка. А теперь, стало быть, нет родни никакой.
Анкаголик с Немым у того профессора книжные полки строгали и строили – называется стеллаж.
А дед поманил Витьку скрюченным пальцем, чтоб он кончал рассказывать Клавдины известия, и говорит:
– Мы теперь ей родня, Витя.
Громобоев поглядел на него бутылочными глазами и кивнул.
А из комнаты Немого только и слышно теперь: мячик щелкает целлулоидный. Пинг-понг… Цок-цок… Да Олечка тихо смеется, когда Немой проигрывает в игру незнакомую. И чем дольше Олечка Немого обучает, тем больше, видно, Немой играть не умеет, и Олечка смеется чаще и чаще.
Пинг-понг… Щелк-щелк…
Лист фанеры на столе лежит, плотницкой струбциной привернутый, и бабушка говорит:
– Афоня, кончай дите мучить, Оленьке ужинать пора… – И Олечка смеется.
«Я у нее спросил однажды:
– А как же ты с Афанасием разговариваешь? Он же не говорит ничего.
Она отдула каштановую прядку со лба и отвечала:
– Он говорит… Тихо-о-онечко…
– Тихонечко? – спрашиваю.
– Да, – отвечает. – На ушко…
– А как говорит? – спрашиваю.
– Вот так…
И подышала мне в ухо. И я понял: такой разговор – главный разговор. Все остальные рядом с этим – одно болботание.
Ну ладно».
Потому что живой человек верит в чудо жизни, это машине все равно.
Однажды они пошли в Третьяковскую галерею, и проветривалась духота в их душах, и Генка-балбес глядел на Олечку, а она от Немого ни на шаг, держала его за палец, и ему неудобно было поправлять бант на шелковистых промытых ее волосах.
А Зотов с Витькой своим то отставали от них, то уходили безбоязненно вперед, зная позади немую защиту, и тыл, и прочность. И на «Незнакомку» художника Крамского Витька поглядел бегло и без интереса, а у портрета артистки Стрепетовой художника Ярошенка – задержался. И Зотов подумал: сколько же сейчас лет Марии?
Немой с детишками и зрителями толкались у гигантского Александра Иванова, Зотов звал Витьку смотреть, но он не пошел. Издалека смотрел, на всю картину разом, и разглядывал раба, и разглядывал того, дальнего. Вот пришел человек и сказал: «Я бог». Ну и как с этим быть? Не представитель бога на земле Моисей, не Магомет – пророк его, не Будда – один из будд, а сам – бог – и есть, этого не бывало еще никогда; и раб улыбается, и глаза красные. И Зотов смотрел, и старался мысленно понять, по какому образу Иванов рисовал их подобия в своей картине.
– И я, – сказал Витька.
– Что – ты?
– И я стараюсь понять.
Немой обернулся, и они повели детей в залы, где измученные демоны думали: неужели они никому не нужны? А художник Врубель не давал ответа, потому что они были прекрасны.
– Отец… – сказал Витька.
– Ну что?
– Пушкин гений?
– Гений, – твердо сказал Зотов. – Потому что он чувства добрые лирой пробуждал, и в свой жестокий век прославил свободу, и призывал милость к падшим. Пушкин гений.
– Пушкин сказал: гений и злодейство несовместны.
– Молчи, сынок, – сказал Зотов.
– Кто этот старик?
– Где?
И они остановились перед другой картиной художника Михаила Врубеля под названием «Пан».
И Зотов вспомнил золотую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», и он вспомнил Телемскую обитель, где жили не монахи, а веселые люди, равные и разные. Они были равные, потому что разные, и потому разные, что были равные, и вспомнил стон островов – умер великий Пан – бог природного вдохновения, и бог-проводник в лесной чаще, и поводырь по пешеходной тропе.
– Это бог, сынок, – сказал Зотов. – Самый древний бог, потому что слово «пан» означает «все».
– Какое странное изображение бога, – сказал Витька. – Почему он такой облезлый?
– Он не облезлый, сынок, – сказал Зотов. – Он забытый.
20
…В 1939 году я догадался, что если б человек знал, что все, что он видит, он видит последний раз в жизни, то жизнь его была бы счастливая.
Родился человек и знает, что помрет. Ведь знает же, сукин сын, об этом всю жизнь. Не знает только – когда?
Время идет, дни идут, секунды тикают, и все, что человек видит, он видит в последний раз.
Если бы человек это помнил, он бы на белый свет наглядеться не мог…
Я решил найти Витьку. Завтра 1 сентября, как бы школу не проспал. Перейдя шоссе Энтузиастов, бывшую Владимирку, я углубился в лес и добрел до Оленьего пруда.
Из дачной уборной выскочил мальчик лет пяти и закричал, на бегу подтягивая штаны:
– Генка! Я понял твою мысль! Но не до конца!
И полдень плавил крыши за серыми соснами.
…Кровь быстро густеет на холодке…
Я лежал в траве и слышал, как Витька и Минога разговаривали у самой воды на незапятнанной полоске суши, отысканной ими в стороне от всех. Двое любимых – что они говорили, что они говорили?!..
– Гений и злодейство несовместны знаешь почему? – спросил Витька.
– Почему?
– Гений это не сверхчеловек, гений это сверхчеловечность, – сказал он.
Она уставилась на него.
– Ишь ты, сверхчеловечность, – сказала она. – Ты поэтому со всеми девочками такой добренький?
– Знаешь, почему мы ссоримся с тобой и никак не сговоримся? – спросил он. – Потому что мы мужчина и женщина.
– Открыл, – сказала она.
– Может, и открыл, – сказал он.
– Много на себя берешь, – сказала Минога. – Мы никто.
– Мы никто и все, – сказал он. – Но у мужчины и женщины талант разный.
Она приподнялась на локте и чуть отодвинулась.
– Мужской талант направлен изнутри наружу, – сказал он.
Она язвительно усмехнулась. Глаза у нее светлые и чуть выпуклые. Господи, бывают же такие очаровательные! Смеется, вытаращив глаза, а уголки губ презрительные, – ей все идет.
– Ты пойми, – сказал Витька. – Ты пойми… Мужчина вообразит что хочет – целый мир – и делает с ним в воображении что хочет… манипулирует…
– В воображении-то ты все можешь, – сказала она.
– Я и говорю… Но мужчина потом пробует перестроить жизнь по воображению, как картину по эскизу… Понимаешь?
– Ну?
– Но жизнь не поддается. Потому что во время стройки сама жизнь меняется и растет… не перебивай меня… Тогда мужчина сочиняет теорию, доктрину и хочет подмять под нее жизнь силком, и опять не выходит. Мужчина опять воображает, экстраполирует, интерполирует…
«Ого! – подумал я. – Ого!»
– Ого! – сказала Минога. – Ты и слова знаешь?
Но не засмеялась, а только пренебрежительно выпучилась, и губы, губы… Дурак ты, Витька.
– И все это у мужчины относится к внешнему миру, – сказал он. – К среде обитания его и женщины. Он переделывает внешний мир.
И тут я подумал, что если Витька скажет, будто женщина, в отличие от мужчины, занята перестройкой своего внутреннего мира, то он сподхалимничает и соврет. Потому что женщина-то как раз свой внутренний мир нимало не перестраивает, он ей и так годится, и так хорош, какой у нее есть. Некоторые религии даже считают, что у женщины и души-то нет, а есть пар.
– Что же делает женщина? – спросил Витька. – Что же она переделывает?
– Да… – сказала Минога. – Что же переделывает женщина?
– Она переделывает мужчину, – сказал он.
Это уже серьезно мне показалось, и я боялся, чтобы меня не заметили. Женщина доктрину не сочиняет, и внешний мир мысленно не переделывает, и ничего заранее не воображает, и не возится с переделкой самой себя. Она переделывает мужчину, и с этого начинается все остальное.
– И мы ссоримся знаешь почему? – спросил он.
– Почему?
– Потому что я не поддаюсь.
Она воздействует на мужчину. А переделка мира – это уже последствия.
Она встала с песка и через голову скинула платье.
– Не поддаешься? – спросила она. – А ты-то кто? Бог?
– Я?
– Да.
– А что такое – я? – спросил он.
Она стояла под солнышком во весь рост. Ей было шестнадцать. Через год она родит мне внука. Громобоев глядел на нее, не мигая, бутылочными глазами.
– Бог – это свобода, – сказал он. – У бога не может быть жены. Это смешно… Над Юпитером стали смеяться из-за его супруги… Что это за бог, который шалит по секрету?








