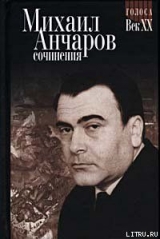
Текст книги "Как птица Гаруда"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Бедная моя Таня…
А Немой наутро уехал из Москвы под Владимир в деревню, где жила Мария, и там он громил в работе свою силу, но она не убывала, а прибывала.
Генка же напросился и уехал на целину.
Это надо же!
35
Вы когда-нибудь читали мемуары? Читали.
А чьи? Вы когда-нибудь читали мемуары плотника? Не плотника, ставшего начальником строительного управления, а плотника, ставшего хорошим человеком? А мемуары плотника, не ставшего хорошим человеком? А мемуары портного, а вагоновожатого, а жены-домохозяйки, а, страшно сказать, мемуары чистильщика сапог? Да нет, конечно. Мемуары пишут либо исторические лица, либо лица, знакомые с историческими лицами.
Кто есть лицо историческое? Это лицо, влиявшее на исторические события. Все остальные лица – неисторические.
А что есть историческое событие? Если отбросить ученые слова, то это когда жизнь шла все так, так, а потом вдруг пошла эдак. Только «эдак» – и есть историческое событие, а «так, так» не есть историческое событие, потому что вообще не есть событие. Если, конечно, не считать самым большим событием в истории то, что вообще существует жизнь.
И вот любопытно было бы узнать – представляет ли интерес сама жизнь? Или она представляет интерес, когда она сламывается и выкидывает номера?…
Короче, чем дальше Зотов жил, тем больше его интересовали промежутки между историческими событиями, не Ниагары, так сказать, а реки, из которых Ниагара получается.
Конечно, на Ниагаре можно поставить движок, и будет полезная электростанция. Но полезная для посторонних граждан, а для самой реки, а также для рыбы, которая в реке живет, даже иногда вредная.
Можно подумать, знаете ли, что Зотов был ужас какой консерватор. Вовсе нет. Просто чем дольше он жил, тем больше понимал, что кесарево сечение не есть лучший способ родов, применяется лишь в случаях аварийных, пытается сохранить жизнь матери и ребенку – и именно этим отличается от смертоубийства. А также если бутон лапами раскрывать, то это не будет для бутона качественным скачком. Потому что цветка не будет, а будет труп.
И революция от контрреволюции отличается тем, что революция – повивальная бабка, а контрреволюция – убийца. И потому и научно-техническая революция не тогда, когда рыба дохнет и цветы вянут, а когда рыба и цветы размножаются и плодятся. Это относится и к человеку. Потому что он тоже живое, знаете ли.
Немой приезжал, когда у Олечки дальняя родня нашлась.
…Бывает, запах, краски заката или рассвета сквозь зелень, глоток воздуха вдруг кинутся на тебя старой печалью, и вдруг понимаешь: что-то такое простое и нежное от тебя ушло, ушло, ушло, и люди, и места, где бывал, и дом, и осталось только в памяти, что уже никогда… никогда…
Да что же это такое, господи! Куда же мы уходим? От родных, близких нам людей, и они от нас уходят… Куда же мы уходим?
Ушла от нас Оля-теннисистка, ушла и Саньку забрала. Увела. Но разве остановишь? Нашлись родные люди и хотят быть вместе.
И остались в доме одни старики. Петру Алексеевичу уже тоже шестьдесят. Молодой ишшо. Деду с бабушкой на тридцать четыре больше.
И Немой.
Он всю жизнь немой, а тут вовсе замолчал. Зотовы поняли – замолчал. Как это можно понять, что немой замолчал, – не знаю.
Бабушка сказала:
– Надо Немого опять отпустить. Не может он здесь. Сила его задушит.
– А управимся одни?
– Все ж таки нас трое.
Сказали Немому. Он надел кепку и ушел.
А потом от Марии письмо пришло, и Зотовы узнали, что это Немой разыскал Олечкину родню. Сам отыскал. Вот зачем приезжал, вот какие у него были дела.
…Что же ты с собой наделал, братишка мой? Олечка ушла от нас. Годы отпустила тебе судьба, братишка мой, чтобы ты решился. Но ты решился лишь на разлуку…
Как понять тебя, брат мой Немой?
36
Пасмурная погода стояла, когда Зотов с Олей, Немым и Марией поехали в деревенские места.
«„Деревенщина моя золотая, бриллиантовая“, как сказала Маше цыганка во Владимире, откуда мы должны были на попутной добраться в село, старое, родовое, откуда даже еще и не Зотовы, а Изотовы произросли. И я знал, что там на старом кладбище схоронены здешние предки Непрядвиных, и там вдали муромские леса, и там село Карачарово, откуда Илья Муромец.
Серое небо, тихо, листва шелестит. Хорошее село, близко от шоссе, тем и спаслись, когда трудодни не кормили. Председателя того, знакомого, на войне убили, завхоза, который Витьке гуся Ага-гу подарил, тоже… И знакомых в селе никого, кроме движка, который с тридцатых годов чиненый-перечиненый, а электричество давал, но и ему приходят последние дни. Осенью к городской подстанции подключат».
Ходики тикают, Немой печку топит. Оля сидит в красном углу и на Немого смотрит.
Приходил чернявый бригадир по прозвищу Яшка Колдун. Ростом с Зотова, а на Марию снизу вверх смотрит. Воспитанник ее из детского дома военных лет. Так и остался тут и Олечку помнит. Мария по улице идет, ей бабы кланяются.
– Уважают, – говорит Зотов. – Машенька, ты никак начальство здесь?
– Нет, – смеется.
Яшка Колдун сказал: «Бабы верят, когда Мария больного ребеночка на руки берет – ребеночек выздоравливает».
– Живи тыщу лет, мама Мария, – сказал Яшка Колдун. – А я возле тебя… А кто тебя от нас уведет, тот мне враг по гробовую доску…
– Нет, – говорю, – Яшка. Не трудись гневаться. Машенька со мной не поедет… Она меня любит…
– Не пойму я вас.
– Я тоже, – говорю. – А кто она у вас?
– Телятница. Лучшая в округе. Она всю жизнь с детьми.
– Это я знаю. Она и Немого взрастила, и Олечку.
– И меня… К ней дети идут.
– А от меня бегают, – говорит Зотов. – Как сначала пошло, так и посейчас.
Сидели возле церкви на камне, на плите надпись: «Непрядвинская».
– Род старый, – говорит Зотов. – И не осталось никого.
– Судьба побила.
А Зотов думает: «Какого дьявола! Почему они не вместе? Геройская душа, брат мой бессловесный, и Оля, женщина нежная и прекрасная…»
Тут служба кончилась. Мария вышла и говорит:
– Ты, Яша, иди. Нам поговорить надо.
Яшка Колдун ушел, ревниво оглядываясь. Галки на ветлах дурака валяют, движок постукивает.
– Ну, пошли бумаги смотреть, – сказала Мария.
– Какие бумаги?
– Оля велела тебе отдать. Это бумаги ее дяди-профессора. Сохранились.
Зотов ахнул:
– Как они к тебе попали?
– Попали, – ответила Мария.
Дотом в избу дали свет. Олечка и Немой в углу рядом сидели. Мария вышла.
– Афанасий, – спрашивает Зотов. – Это ты Марии профессоровы бумаги принес?
Разве у него добьешься?
Мария принесла тетрадь толстую, в платок завернутую. Протянула Оле.
– Петр Алексеевич, это вам, – сказала Оля.
Зотов открыл. На первой странице, зелеными чернилами: «Структурный подход к производству и аграрному вопросу. Наброски».
– Петя, что с тобой?
А я и сам не знаю, что со мной.
– Олечка, – говорю. – Тебе дядя не говорил, что был расстрига?
– А что это? – спрашивает она.
– Бывший священник! – Это я так.
Мария вышла. Спрашиваю:
– Родные мои… Вам вместе постелить?
Оля посмотрела на меня огненно, побелела и кивнула. А Немой мотнул головой – нет, потом еще раз мотнул: нет. И вышел.
Олечка дрогнула, уронила лицо на руки. Вошла Мария, принесла мне подушку и одеяло.
– Не годится так, Петя, – сказала. – Ты брата не знаешь. Пошли, Олечка.
И они вышли. Я до утра читал.
Главная мысль Агрария-расстриги: «Поле живое. Не в переносном смысле, в буквальном. В нем живности от микробов до червей и прочее – 300 – 400 кг на кубометр почвы. И поэтому зерно посеять – это не гвоздь вбить в доску, а жильца поселить в общежитие».
Эта мысль показалась Зотову поразительной, но не по его ведомству. А дальше Аграрий ставил вопрос так: «Чем отличается план от проекта? – И отвечал: – Тем, что о проекте нам известно все, а о плане плохо известно, кто его будет выполнять». То есть у него получалось, что даже если замечательно спланировать, чего и сколько выпустить, то результаты все равно неизвестны, так как все – ВСЕ – зависит от тех, кто будет эти планы выполнять. И в конечном счете все упирается в исполнителя, т. е. в субъективный фактор – в «хочу», «не хочу».
То есть, чтобы план был выполнен, огромные массы людей должны хотеть его выполнить даже тогда, когда личной нужды в конкретном продукте они не испытывают.
Но план не может зависеть от прихотей отдельных людей. Потому что в отличие от рыночной экономики, где каждый выпутывается как может и общее количество товара возрастает от предприимчивости, инициативы и даже жадности конкурентов, то в отличие от рынка – нарушение плана безынициативностью исполнителя – приводит к экономическому хаосу, от которого страдают все – и правые и виноватые.
Вместе с тем преимущества плана перед рынком очевидны. Вместо конкурентной борьбы, безработицы и войны – согласованные усилия, когда продукта производят столько, сколько надо для потребления.
Значит, на стороне рынка – инициатива, на стороне плана – согласованность. Поэтому вопрос стоит так – как вызвать инициативу, чтобы она привела к согласованности? – т. е. та же мысль, что и у Громобоева в его «гусенице».
А значит, вопрос стоит так: на какой базе совместить согласованность с инициативой. И отвечает: на базе артели.
Артель – это группа лиц, заинтересованных в выполнении единого заказа, которая сама делит общий доход между собой, как им надо.
«В этом случае личная инициатива совпадает с согласованием усилий. В этом случае вопросы дисциплины, мастерства, качества и количества продукта решаются сами собой. Поскольку в выполнении заказа материально заинтересованы все сотрудники.
Т. е. возникает личная инициатива без конкуренции и согласования усилий без скрытого саботажа, формализма, халтуры, т. е. возникает то, что мы называем товариществом, которое и является конечной целью человеческой деятельности».
Сначала Зотов был разочарован и разозлился даже – такая застарелая муть!.. Вместо государственного размаха какая-то артель. Но когда сверкнуло слово «товарищество», он затормозил. Товарищество – это магия, тут шутки прочь и ухо топориком. Тут нравственность общая не делится – каждому по огрызку, – а сама складывается из норовов, где каждый отыскал свое место, как нота в строке.
Давняя идея Агрария, только теперь он сливал ее с экономикой.
Ну а как же эти артели приведут к плану? Отвечает: единая неразрывная цепь артелей, где конечный продукт одной из них есть начальный продукт для следующей.
Ну а разве сейчас не так? – думает Зотов. Одно учреждение строит дорогу, другое по ней ездит на свою работу… Верно, отвечает Аграрий, только так, да не так.
При государственной собственности на средства производства самый страшный враг – это халтура. Рынок сам регулирует – халтуру не купят. А в планировании? Как халтуру погубить? Госконтроль? Милиция? Воспитание совести?
Ну, допустим, за жуликами можно кое-как уследить, а за халтурщиками как? Работу сделал – заплати. Качество? С кем сравнивать? Покупатель не берет? Возьмет. Куда денется. Конкурентов нет. Люди недовольны? Ничего. Они на своих местах то же самое делают. Не ангелы. Мрачная картина. При общественной собственности страшнее халтуры нет ничего. Халтура общую собственность превращает в ничейную – хватай, ребята, – и любую собственность растащат, любую базу. Мрачная картина.
Что же он предлагает?
Он предлагает, чтобы артель получила зарплату не прямо от государства, а от заказчика, т. е. от другой артели.
Это как же? А так. В наших условиях артель не частная лавочка. Средства производства государственные, т. е. дорожная артель ни материалы, ни транспорт не покупает, ей так дают, как колхозу землю. Но если зарплата государственная, то опять – как проверить качество?
Короче, если бы дорожная артель получала зарплату от того колхоза, мимо которого она строит дорогу, то все деревни были бы асфальтированы.
Иначе план может стать проектом, годным лишь для машины, – нажми, поехали. Мы ее сами сделали, в ней все известно – она неживая. А в человеке известно лишь, что у него есть потребности, желания, значит, надо искать способ вызывать такие, которые были бы направлены на выполнение общего желания согласованной жизни. И ее инструмента, т. е. плана.
Потому что социализм все же не самоцель, а материальная база для исполнения цели. А при халтуре любую базу растащат.
Почему вещь на экспорт делают лучше, чем на внутренний рынок? Потому что там халтуру не возьмут.
Вся беда в том, что мы производим работу для потребителя, а деньги за это получаем у государства. А как может государство проверить мою работу? Только по жалобе потребителя. А если бы я деньги получал от самого потребителя, то не халтурил бы как миленький, потому что в артели вся работа как бы на экспорт.
Короче – если бы зарплату артель получала от того, с кем заключила подряд, т. е. от другой артели, а не непосредственно от государства, то халтуры бы не было.
Потому что цепь артелей – это саморегулирующаяся система, живой организм, а не машина, которая ничего не изобретает, и если у нее задание повесить пальто на вешалку, то ей все равно, пустое пальто или в нем его владелец.
Сейчас казна финансирует предприятие, оно казне и отчет держит. Значит – неизвестно кому. А надо, чтоб предприятие финансировало другое предприятие – и круг замкнется.
А отчисления – в казну, она общая копилка и хозяин, ей и планировать, какое стране предприятие нужно, какой новый завод заводить, какое хозяйство – и под это дело, под этот объект деньги давать и собирать артель.
И сольются объективный план с субъективными хотениями, общая дисциплина с личной смекалкой.
И растет выработка, а халтура никнет.
Все деньги у казны с выработки. Других не бывает. Значит, если все артели связаны рублем, то все и заинтересованы впрямую. Значит, при этом методе инициатива человека – прямой доход казне. Потому что голова у человека так устроена, что он изобретает… Это его природное свойство. То есть производит больше, чем потребляет. И общая копилка растет, и можно планировать.
Короче. Он пришел к простому и поразительному выводу.
Чтобы сохранить и приумножить социалистическую собственность, надо использовать коммунистические стимулы. Ничто другое не сработает.
А коммунистические стимулы – это творчество, массовое, все проникающее и всеобъемлющее. А творчества директивами не добудешь, оно самодеятельно по определению и по природе. Когда человек свободен в пределах задачи, ему поставленной, он находит выход, потому что в артели ему – хорошо. То есть творчество материальное начинает становиться творчеством поведения. А это и есть товарищество.
Если этого не сделать своевременно, то общественную собственность перестанут считать общей, а станут считать ничьей. И если с воровством можно бороться законом, то халтура неуловима. А главный враг халтуры – развернуть инициативу в рамках поставленной задачи – то есть план.
В конце этих записей было написано: «На память…» А кому на память – фамилия ластиком стерта.
– Кому на память? – спрашивает Зотов Немого.
Немой протянул палец вперед и показал на Зотова.
Встретились, Аграрий, встретились, Сократ-расстрига. Земля, она – живая.
37
Одни говорят: «У хорошего человека много врагов». Если это правда, то, кажется, я человек так себе. Другие говорят: «У хорошего человека много друзей». И опять выходит, что человек я так себе. Но я не унываю, потому что одного у меня было много в моей жизни – товарищей. И мне этого хватало вполне, и я даже гордился этим, что у меня много товарищей, и даже считал, что в этом вся суть.
Друзья лезут в душу и ревнивые, как черти, а я этого не люблю. Такой мой норов. И отношения с ними чересчур зависят от настроения. А товарищ – это товарищ, и нету того гимна, которого бы я не спел товарищу. Но товарищам почему-то гимнов не сочиняют.
Друзей и врагов у меня было немного. Но зато они были особенные. По нашему взаимному выбору. И мы с ними не могли разлепиться.
О друзьях что говорить? Их не рассматривают ни в микроскоп, ни в телескоп, с ними дружат, потому что дружат. Это как любовь. А любовь начинается тогда, когда кончаются сравнения. Это Гёте сказал. Как классик велел, так я и поступаю. Зато врагов разглядывают. Лень объяснять почему.
И вот я заметил, что под всеми личинами, обличьями, масками и камуфляжем у меня всегда был один враг – спекулянт. Как у других, не знаю, а у меня – спекулянт, барыга.
На заводе у нас работал один мужчина, и теперь он мой враг. Не я ему враг, а он мне. И это надо записать.
Парень здоровый, красивый, последний год в комсомоле, усмешливый, ласковый, голова на плечах. И решил этот парень сделать почин. Собрание было в цеху, он выступил: «Грязно у нас, старики, стружки завал, окна копотью заросли, работать скушно… Может, разгребем, а?»
Вообще-то лень, конечно, но дело доброе. Собрались. Разгребли, стекла протерли-промыли. И правда, веселей стало. А как веселей стало – глянь, норму все стали выполнять. Без прежней усталости. Чего бы лучше? И парня заметили. Дальше. Парень на радостях норму перевыполнил на 2,6 процента. Опять хорошо. Лозунг повесили – равняйтесь на передовых. Годится. Стали равняться. По цеху устойчивые– 1,8 процента перевыполнения. Парня хвалят, ему хорошо, и нас хвалят, и нам хорошо. Он поднапрягся и еще полтора процента накинул. А нам норму увеличили… И так еще два раза… Все… Слава, конечно, хорошо, но люди на пределе. Дальше что?…
Дальше корреспонденты и бюллетени. Сначала бюллетени об очередной победе, потом бюллетени из районной больницы – болеть стали, люди не железные, запчастей нет.
Ему говорят:
– Остановись. Дело, конечно, передовое, но не каждый выдерживает. Есть люди и постарше тебя и помоложе…
– Да что вы! – говорит. – Перенимайте опыт. Молодых я сам подучу, а со старых какой прок? До пенсии дотянут, и ладно.
Ах ты, поросенок… И ведь не подкопаешься, не пожалуешься никому. Начальство– за него горой, портрет – на доске, квартира обещана, на плакате – равняйтесь на передовых. По шее, что ли, надавать? Не годится.
– Старики, – говорит, – вы на меня не серчайте. Я в себе силу чувствую еще процентов на девять.
– А дальше что?
– Не знаю, – говорит. – Что-нибудь придумаю. Резервы найдем. Почин есть почин. Стране продукция нужна.
Все правильно. Не поспоришь. А люди вымотались. Настроение хреновое. Чуют, какая-то липа здесь есть… На пределе человечьих сил не работа. Ведь не война.
– Зотов, а ты что скажешь?
– Продукция стране, – говорю, – нужна. Но рабочие еще нужней. Без рабочих никакой продукции не бывает. На износ работать – люди разбегутся. Слава богу, есть куда – хоть на целину, хоть на стройки.
Меня вызывают по начальству. И там Найдышев – ему износу нет, увлекающийся – говорит:
– Что ж ты, Зотов, против почина идешь? Наш завод на виду. А когда завод на виду – ему все в первую очередь. И авторитет парня передовика нам не роняй. Не позволим.
– Ладно, раз не велите ронять, не будем, – говорю. – Сила есть, ума не надо… А когда сила кончится, что тогда? Тогда как?
– А это уж не твоя забота… Твое дело держать высокие показатели.
– Ладно, – говорю. – Будем держать. Хозяин – барин.
– Ну зачем же так? – говорит новый директор. – Это действительно проблема будущего – как двигаться дальше. И мы о ней думаем. Зотов прав. Но и мы правы, Петр Алексеевич, – нельзя энтузиазм гасить.
– Да где он, энтузиазм? – спрашиваю. – Энтузиазм-то как раз и усыхает. Люди бояться начали. Энтузиазм, он как золотая рыбка, как зарвешься – враз у корыта затоскуешь.
Ну ушел. Иду в цех, соображаю. Ладно, думаю, а где выход? Неужели этот щенок меня, Зотова, токаря с бородой, обставит и честных работяг в глухой тупик загонит?… А навстречу мне бессмертный Анкаголик с обходным листом.
– Я, – говорит, – опять увольняюсь. Мне все одно. Идем, я тебе по старой памяти секрет покажу… А мне эта надрываловка до феньки.
– Пить надо меньше.
– Правильно говоришь. И передовик так же говорит… Гнать, говорит, анкаголиков. Они показатели снижают.
– Факт. А в чем секрет?
Пришли в цех. Он мне из сундучка достал резец и говорит:
– Вот секрет, вот оружие… Сражайся, Зотов, а я – пас.
Ну, разглядываю – резец как резец. Нет. Не совсем. По-чудному заточен. Будто тупой.
– Ну и что?
– А то, что при такой заточке можно и тринадцать процентов дать.
– Врешь!
– Нет, Зотов, не вру. Попробовал я, как по маслу идет. На меня за этот резец от «передовика» гонение. Он мою заточку поглядел и теперь меня ненавидит, как последнего гада.
– Ах, сука, – говорю. – Монополист вшивый. Ладно, – говорю. – Оформляй рацпредложение, Анкаголик… Все резцы переточим, а этому курицыну сыну фитиль вставим…
– Зря его несешь, – говорит. – Кто ж от своего счастья откажется? Ему квартиру дают. Он головастый.
– Головастый, – говорю, – это верно.
На другой день переточил я резец по-тупому, как у Анкаголика. Включил станочек, побежала стружка – железные кудри. Ну, блеск. На душе радость и злость. Готовые детали сами в горку прыгают. Перерыв.
– Объявляю почин! – говорю. – Перетачиваем резцы, ребята. С энтузиазмом…
Все с энтузиазмом переточили резцы, и с энтузиазмом включились в борьбу за повышение производительности труда, и, с энтузиазмом матерясь, перекрыли монополиста.
– Запомни, Зотов, – он мне сказал. – Запомни…
– Ну что? Что?
– Ничего… Я тебя сделаю… И твоего алкаша…
– И ты запомни, вражина… – говорю.
Грустно. Ему бы, дураку, обрадоваться, что жилы рвать не надо, что смекалку не остановишь, что на нее монополии нет, а он уже гнилой. И передовик он был, только когда сговорил нас в цеху прибраться. А потом тараканьи бега устроил. И теперь он мне враг. Обещал – на всю жизнь.
– Поплавок ты, – я ему говорю. – На чужой волне вознесся.
– Против жизни не иди, Зотов, – отвечает. – Жизнь есть борьба.
– С кем? – спрашиваю. – Со своими?
– Устарел ты, Зотов, – говорит. – Это в ваше время – стройными рядами… Сейчас время другое – материальная заинтересованность. А уж тут кто сильней. Тут лесенка. На одном конце слабый, на другом конце…
– …Гитлер, – говорю, – Адольф на другом конце. Мысль не нова.
– Ты мне политику не шей. На уравниловку теперь никто не пойдет…
– Это верно, – говорю. – Какая уж тут уравниловка? Одному хорошо, когда всем хорошо, а другому хорошо, когда остальным плохо. Какая уж тут уравниловка?
И теперь у меня враг. Ну что ты скажешь?
И тогда я пошел к директору и рассказал идею Агрария – государственный план, зарплата от заказчика и цепь артелей, где инициатива сливается с дисциплиной и выработка растет, потому что в товариществе голова работает изобретательно.
Но эти здравые Аграриевы слова тогда услышаны не были.
Потом почти обо всем этом догадаются другие люди и назовут это «бригадный подряд». И будут платить за урожай, а не за то, сколько раз по полю проехал: А тогда поиск устремился в запретные доселе науки генетику и кибернетику в надежде, что первая сама увеличит продукт без изобретательного поведения человека на полях, а вторая – сама спроектирует общий план, без изобретательности руководителя.
И на артель внимания не обратили.
Витька Громобоев приезжал. Два дня пробыл. О Немом велел не беспокоиться. Он у Марии в колхозе работает. Новый председатель Яшка Колдун не нахвалится.
– Колдун это фамилия такая?
– Нет. Он погоду угадывает и загодя к ней готов, – сказал Громобоев и засопел, будто спит.
– Ломоносов говорил, если б знать, какая будет погода, то больше у бога просить нечего… А? Витька?
Смотрю на часы: и правда полдень. Витька всегда в полдень дрыхнет.
Ну ладно.
Но я так думаю, что мимо артели ни проехать, ни пройти. Потому, что все Кижи строят не святейшие синоды, а артели.
38
А потом был пикник на Оленьем пруду. На старом пруду в Измайлове.
Принесли много хорошей еды, и пришли неинтересные люди. Их собрала Кротова, старая приятельница Оли, из тех инязовцев, которые созрели для загранкомандировок.
Я не знаю, может, это были достойные люди, когда оставались наедине со своей работой, но на пикнике они были недостойные люди и занимались одним – они выламывались в стиле бомонда той страны, куда тренировались поехать.
Кротову звали Магда. И я не сразу догадался, какую роль играли молчаливая Оля и я, которого Оля зачем-то просила прийти. Пугала она меня, что ли, – смотри, старый дурак, на кого ты меня бросил, – так, что ли? Если так, то не стоит трудиться. Я не верил, что Олечка приживется у них, если до сих пор не прижилась. И я не понимал, какая роль отведена мне.
Но потом пришел веселый журналист с Дикого Запада, из прерий, и все стало на свои места. Он хорошо говорил по-русски, и через плечо у него висел кофр с записывающей снимающей техникой, которую он сразу вынул и расположил на притоптанной траве.
Все бегло заговорили на различных иноязыках, но Чарльз, так его звали, как бы оттолкнул их выпуклыми светлыми глазами и сказал:
– Хватит валять дурака.
Смотри ты, подумал я, парень-то хват…
– Хочу вам проиграть одну запись, – сказал он и кивнул на меня. – При нем можно?
Оля хотела что-то сказать, но получилось это не сразу, она слишком долго молчала.
– … Аккуратней… – сказала она. – Это мой друг.
Он ласково улыбнулся. На их языке это означало – любовник.
– Ты обалдела? – тихо спросил я.
– Он все равно так решит.
– Ну ладно, – сказал я.
Из магнитофона раздался слабый голос Чарльза из прерий. Он усилил звук.
– Вот это место… – И Чарльз из магнитофона бодро сообщил: – Во всяком случае, наши рабочие живут лучше ваших.
– А почему вы лично не пошли в рабочие? – спросил другой голос.
– Глупый вопрос… – сказал Чарльз из магнитофона. – Каждый ищет свою удачу.
– Значит, они у вас неудачники?
– Почему? У них практически есть все.
– А почему вы лично не пошли в рабочие?
И так далее. И на все соблазнительные слова журналиста с Дикого Запада из прерий второй тупо отвечал вопросом – почему вы лично не пошли в рабочие.
Все смеялись, поеживаясь. Журналист проиграл запись до конца.
– Клинический случай… Полный кретин… – сказал он. – И вы все собираетесь с этим ехать к нам?
Кротова рассмеялась:
– А кто это? Как его фамилия?
– Некий Зотов.
Кротова быстро и опасливо оглянулась на меня, потом открыла рот, но ничего не сказала.
– Геннадий Сергеевич Зотов, – сказал журналист. – Переводчик… Безмозглая скотина.
– Но-но, – сказал я.
– Это его внук… – Кротова осторожно кивнула на меня.
Тот затормозил:
– Извините… Я этого не знал.
– А все остальное вы знаете? – спросил я.
Он стал молча собирать все в кофр. А я подумал: Генка не совсем балбес. А может, он просто инфант, королевский, Клавдиин сын, позднее развитие. Ну поглядим.
Все испуганно смотрели на журналиста, будто смотрины не состоялись, жених сейчас смоется и семейство опозорено, а он вдруг сказал, выпрямившись с колен:
– Мне бы хотелось с вами поговорить.
– А мне? – спросил я.
– Неужели вы так же примитивно мыслите, как ваш внук?
– Куда мне до него! – сказал я. – Мой вопрос будет еще примитивнее: кто вы?
Он выбил трубку о камень и сунул ее в карман.
– Замечательно вас выдрессировали, – сказал он. – Ну хорошо, я журналист. Человек. Какое это имеет значение: «Кто вы?» Неужели это важно?
– Важнее нет ничего.
– Мысль от этого не меняется, – сказал он. – Или вы считаете, что она меняется оттого, кто ее произносит, извините, выскажет?
– В самую точку. Потому и спрашиваю: кто вы?
– Я вам уже ответил.
– Вы себе-то ответить боитесь, а уж мне-то…
– Я думал, что вы интеллигентный человек…
– Ну что вы! – говорю. – Мои мечты дальше выпивки не простираются.
Он мгновенно сел.
– Так бы и сказали. Вот это по-русски. – Он оглядел всех и сказал высоким фальшивым голосом: – Куда же вы?…
И все сразу стали уходить в лес, обнимая друг друга за плечи и посмеиваясь.
Остались только мы с ним, Оля и Кротова.
– Будем пить на равных?… Или вам уже нельзя? – спросил он и достал из своего кофра виски «Белая лошадь».
– А вам? – спросил я и достал из пруда бутылку «Московской».
– О! – сказал он, отвинтил от термоса две крышки – одна под другой – два стакана – и стал разливать. – Сколько? – спросил он.
– До краев.
Он налил до края и осторожно протянул мне. Потом налил себе, глядя мне в глаза.
– Ну, вздрогнем, – сказал я и выпил стакан. Он побледнел, но выпил.
– У вас разбавляют? – спросил я.
Он только помотал головой. Тогда я налил два стакана своей и, постучав ими друг о друга, один протянул ему.
– Ну, вздрогнем, – сказал я. Он вздрогнул, но стакан взял.
Через пятнадцать минут у нас состоялся проблемный разговор.
Он мне кусок своего толкования жизни, а я ему – откуда толкование пошло – Шпенглер, – он мне другой, а я ему – Ницше, Штирнер. И так далее. Чувствовал я себя препаскудно, потому что ничего нового и я ему не говорил, а только взаимное сшибание спеси у нас было.
– Блистаешь начитанностью, – сказал он и задумался. – Или я?…
– Тебе видней, – говорю.
– Чарльз… – сказала Кротова, кивнув на меня с отвращением. – Он читал все.
– Не все, – сказал я. – Только то, что достал.
– Неважно, что он читал, – сказал Чарльз. – Важно – кто он?
– У нас с этого и началось, – говорю. – Кто вы?
– Ах, вот как? – сказал он. – Ладно. Слушай, старый, э-э…
– Хрыч… – подсказал я.
– Вот именно, – сказал он. – Сейчас я тебе про духовную суть всей вашей затеи… Коммунизм – это идея нищих… Богатые на нее не клюнут… А вы хотите, чтоб все разбогатели…
Одно и то же…
Конечно, я мог ему ответить, что коммунизм – это идея не нищих и не богатых, а идея согласования условий, но понимал слабость этого ответа, потому что согласия среди сытых трудней достичь, потому что сытому зачем усилия?
– Съел? – сказал он и захохотал. – И тогда все остановится… И опять все сначала… Поэтому наш путь реальный, а ваш – фантастика… Пусть уж хоть некоторые будут богатые… у кого сила или кому повезло… И это у нас знает каждый… и революции у нас никогда не будет.
Разговор опять опошлялся. А ведь что-то мелькнуло.
– Вы ее сами устроите, – сказал я.
– Мы?
– Вы существуете, пока есть покупатель. Как только он исчезнет – вам конец. Вам придется искусственно его создавать.
– А вам – работу, – сказал он.
Вот оно. Мелькнуло, пропало и снова вылезло. Гнал я от себя это, гнал, но оно не уходило. Потому что это было мне тогда вопросом вопросов – если отнять у человека производство, что останется делать человеку? А производить без толку – зачем?
Он понял, что попал.
– Вы в технике достигнете всего, – сказал он. – Как и мы. Бомба у вас уже есть… потом будут другие выдумки… Сначала автоматика, и оператор будет нажимать на кнопки, потом роботы, робототехника и компьютеры, это завтрашний день. А послезавтра они перейдут на биоэлектрическое управление… датчики снимут импульсы желаний, компьютеры их обработают, усилят, подадут на магнитную ленту, и роботы сделают остальное… И даже кнопки не понадобятся.
Он был прав. Это достижимо. Сапожников рассказывал еще и не такое.








