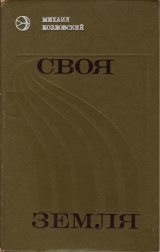
Текст книги "Одна неделя в июне. Своя земля"
Автор книги: Михаил Козловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
8
Своего нового друга Генка задумал угостить яблоками, но нигде не было таких вкусных яблок-скороспелок, как за рекой, в саду соседнего колхоза. Медово-сладкие, они вызревали рано, когда еще цвели на лугах травы, и, может быть, за свою сладость и несколько сплюснутую форму получили у ребят название «лепех». Вот ими-то Генка и собирался угостить Артемку.
В набег на сад соседей он направился один: если попадется, весь позор падет на него, и ничем не будет опорочено имя его друга.
Спрятав в кустах штаны и сандальи, в одних трусиках, с повязанной на голове рубашкой, Генка переплыл речку, низко сгибаясь, перебежал к земляному валу, ограждавшему сад, притаился во рву, густо заросшем лебедой и репейником. Надо было оглядеться, успокоить гулко бьющееся сердце.
Сад одним крылом спускался к берегу. В просвете между деревьями была видна мягко зеленеющая долина извилистой реки, кудрявая прибрежная заросль. В противоположном краю сада караульщик дед Сосонкин поставил шалаш и обитал в нем вместе с вредной собачонкой Пчелкой. Она была самым опасным и настойчивым врагом тех мальчишек, которые соблазнялись зреющими на ветках плодами. Если Пчелка не лежала возле шалаша, то, задорно задрав колечком пушистый хвост, рыскала по саду, и встреча с нею обычно кончалась разодранными штанами, укусами острых зубов. Если же она загоняла своего недруга на дерево, тогда появлялся дед Сосонкин, а он знал всех мальчишек в округе: зимою дед работал истопником в школе-восьмилетке. К прорванным штанам и искусанным ногам прибавлялся позор разоблачения.
Оглядевшись, Генка убедился в отсутствии близкой опасности. Он выполз из рва, приподнялся на корточки, на мгновение замер, затем, согнувшись, быстро перебежал к ближайшим кустам крыжовника и присел. «А ну, по-пластунски!» – приказал себе мальчишка и пополз в траве. Он полз и видел себя отважным разведчиком, который пробирается к вражеским окопам за «языком». С медленной неотвратимостью сближается он с беспечным врагом; на шее у него автомат, в зубах острый нож, он слился с землей и неотделим от нее, как тень.
У толстого комля яблони Генка привстал, передохнул. Игра кончилась, и с жуткой мыслью: «А вдруг Пчелка рыщет где-то поблизости», – он еще раз внимательно огляделся вокруг, готовый очертя голову помчаться назад, к реке. Но все было спокойно: и караульщик, и Пчелка, видимо, отдыхали в шалаше. Вскоре Генка уже сидел на развилине дерева и, стащив с головы рубашку, укладывал в нее, как в мешок, теплые, глянцевитые яблоки. С дерева сад представлялся диковинным зеленым облаком, пронизанным золотистым дымящимся светом. Его населяло множество существ. Бронзовые мушки, взбираясь по невидимой лесенке, толклись над Генкиной головой вихревым роем. По сорванной мальчишкой бархатно-серебристой паутинке быстро пробежал перепуганный паучок, высоко задирая тонкие угловатые ножки. Каштановая, с тупыми рожками на крыльях бабочка кружилась между ветками, присаживалась на секунду, складывая и расправляя крылья, и снова вспархивала. Где-то в листве гудел невидимый шмель. Маленькая серенькая птаха выскочила откуда-то из листвы, черной росинкой глаза посмотрела на мальчишку и стрелой помчалась над яблонями, как если бы торопилась сообщить о злоумышленнике.
Но птаха опоздала. Генка с ужасом увидел, как рыжий комок молча катится к нему под деревьями, и, вскрикнув, прыгнул с развилины на землю. Упал на четвереньки, обжигая руки крапивой, тотчас подхватился и помчался к реке с такой легкостью и быстротой в ногах, что, казалось, подошвы вовсе не прикасались к траве. За ним, расстилаясь по земле, с хриплым злобным лаем устремилась Пчелка. Тяжело топая сапогами, размахивая «ижевкой», сбоку забегал дед Сосонкин.
Пчелка уже настигала Генку, когда он вбежал в заросли ольхи и, расталкивая ветки, прорвался к реке, плюхнулся в воду. Собака, взвизгивая от злобы и негодования, закрутилась на берегу.
– Ах ты, жулье! Шантрапа несчастная! – орал дед Сосонкин, показываясь на крутом склоне берега под яблонями. – Я тебе расчешу патлы, др-р-рянь!
На боку, прижав к животу рубашку с яблоками, Генка наискосок перебивал течение реки, зарываясь лицом в воду. На весь берег злобно лаяла обманутая Пчелка и орал рассвирепевший караульщик.
– Ну и соседушки, чтоб вас нелегкая взяла, средь бела дня тащат, – кричал он. – Я тебя приметил, окаянный, все одно попадешься.
Полоса воды между караульщиком и Генкой становилась все шире, и это придало бодрости мальчишке, – теперь-то ни Пчелка, ни дед Сосонкин не страшны ему. «Как бы не так – попадусь, ты поймай сначала», – подумал он, выгребая на мелководье у камышей.
– Я тебя с милицией обнаружу, бандит несчастный! – надсаживался дед, пораженный Генкиным нахальством. – Опять всю крапчатку обтрясли. Я протокол на тебя составлю, ворье, ты мне поплатишься.
Но напрасно Сосонкии стращал Генку, – уж если дед не назвал его имени, значит, не приметил. А там кричи не кричи, ругайся сколько понравится, – дело сделано, яблоки тут, при Генке, не брошены в саду.
И вдруг над рекой с оглушительным треском прокатился выстрел. Генка испуганно дернулся, ушел с головой в зеленоватую воду, – забило рот, нос, уши.
Кашляя и отплевываясь, он вынырнул и отчаянно заколотил ногами по воде, как будто только что научился плавать.
Обессилев, Генка пробился к камышам, ползком выбрался на берег, обеими руками прижимая свою добычу к животу, и забрался в тальниковую заросль. Недолгое время лежал, переводя дыхание, затем поднялся и, не оглядываясь, полез в еще большую гущину, подальше от берега.
Он уже добирался до того места, где спрятал штаны и сандальи, как снова бабахнул выстрел, и мужской голос внезапно и очень близко спросил:
– Что за шум? Не случилось ли что?
Немного спустя откликнулся женский голос:
– Это дед-караульщик. Озоруют ребята, – видно, кто-то из них в сад забрался.
Генка так и присел на том месте, где застали голоса. Исхлестанные ветками руки и грудь горели, на большом пальце ноги кровоточила ссадина, но мальчишка не решался шевельнуться, чтобы не выдать себя. Он узнал голос тетки Насти. Увидит его, сразу поймет, почему кричал и стрелял дед Сосонкин, и тогда навечно опозорится он перед нею.
Согнувшись в комок, мальчишка ждал.
– Мы не бог весть как молоды, Ната, пора быть рассудительными, – через некоторое время сказал тот же мужчина, и Генка узнал голос Артемкиного отца. – Можно упрекать меня, что все так сложилось, но разве в этом дело? Не так просто исправить сделанное, наново жить не начнешь… Вот ты говоришь – семья. Какая у меня семья, один Артемка. Я тоже думал найти покой, семью, но… Да что там говорить!.. Вздорная, недалекая женщина, она и Артемку любит по-своему, знает, что не могу отдать его, да и никогда не отдам…
– Как это нехорошо! Зачем ты так говоришь? – сказала тетка Настя.
– Зачем? Мне нечего скрывать от тебя, что есть – то есть, – ответил Николай Устинович. – Пойми и ты, мне вовсе не легко.
«Нашли место, не понесло их дальше», – огорченно подумал Генка. Появившиеся откуда-то комары с насмешливым свистом вились над ним, он осторожно отмахивался, чтобы не зашуметь, не выдать себя. Голоса раздавались так близко, что, казалось, до говоривших можно дотянуться рукой, если бы не кусты. Приподнявшись и вытянув шею, мальчишка попытался заглянуть через тальник, но под ногой звонко хрустнул сучок, и он всем телом испуганно припал к земле.
С обострившимся слухом и зрением, стараясь не шелохнуть и веткой, Генка отполз к дороге. Здесь уже ничто не угрожало ему. Он оделся, переложил яблоки за пазуху и принял свой обычный облик задорного, но ни в чем не повинного мальчишки, который просто так, ради собственного удовольствия, прогулочным шагом возвращается с реки. А в душе он ликовал: ну кто из ребят сумел бы так ловко ускользнуть от стольких опасностей!
Его торжество немного поблекло бы, знай он, что ни тетка Настя, ни Артемкин отец не обратили бы на него внимания, если бы он и попался им на глаза, – им было не до Генки.
В это утро Червенцов пригласил Анастасию Петровну походить по тем местам, где они бродили двадцать лет назад. Ему представлялось, что память все сохранила в нерушимом виде, – покажи сейчас любое дерево, у которого они тогда стояли, он сразу узнает его. Но память подвела: он ничего не узнавал, все изменилось, а деревья сильно вымахали ввысь и загустели. С усмешкой над наивной верой в свою память он сказал об этом Анастасии Петровне, добавив, что, видимо, лишь их отношения не поддались переменам.
– Нет, Коля, старого не воротишь, – возразила она, отклоняя шутливость в разговоре.
– Что ты хочешь сказать? Ты не можешь простить мне? – Николай Устинович пристально взглянул на нее. – Все еще в обиде?
– Ах, простить! – поспешно отозвалась она. – К чему все это – «простить, не простить». Я просто забыла, будто сон – все прошло. Ну, да что об этом говорить, мертвых с погоста не возвращают.
– Но не могла же ты в самом деле забыть, – сказал Николай Устинович. – Я помню, словно вчера это случилось…
Они сидели над крутым откосом, внизу волны с чмоканьем обсасывали камыши, по гущине тальника тек тихий мягкий шорох.
– Разве захочешь помнить обиду! – Анастасия Петровна строго посмотрела ему в глаза. – Да и какой характер надо иметь, чтобы все помнить… Ты-то подумай, каково мне тогда пришлось. Каждое твое письмо, как весточку светлую, ждала, не было счастья большего, как они, твои письма, только и жила ими. Принесет почтальон письмо, а у меня радость, будто окна в доме растворили, праздник наступил. Я при себе их носила, душу грели они. А потом сразу, как ножом отрезало… что только в голову не приходило, о чем только не подумала тогда! Да что говорить! Прошлого не вернешь.
– Я понимаю свою вину, – опустив голову, проговорил Николай Устинович.
– А что с этого! – воскликнула она. – Ты все о своей вине говоришь, как будто каешься. Погулял, наговорил ласковых слов – и в сторону. А у меня все мысли о тебе: как ты там, что с тобой, жив ли. Бросила бы все и к тебе помчалась как на крыльях… Днем еще так-сяк, закрутишься и обо всем забудешь. А ночью! Господи, каждая ночь, как тюрьма. Я ведь думала, и ты, как Алеша, погиб. У меня молоко от горя пропало, а мне не до Надюшки, все равно, думаю, ни мне, ни ей жизни не будет. Она и родилась-то сироткой. Кому мы с ней нужны!
– Тебе ответили из полка, что я в госпитале, – примирительно сказал Николай Устинович.
– Да, ответили, но не ты, а другие. То письмо мне всю правду открыло. Поняла я тогда, потому и молчишь, что не нужна я тебе…
– Но ведь это же не так, Ната, ты сама знаешь, – возразил он. – Я писал тебе потом, помочь старался. Ты помнишь?
– Нет, Коля, не убеждай. Твоя помощь была от совести, а не от любви, тебе просто стыдно стало, – сурово сказала она. – У тебя своя семья, о ней ты и думал…
Переполох на реке, вызванный Генкой, отвлек их, и лишь после недолгого молчания Николай Устинович сказал те слова, которые услышал мальчишка.
Не таким представлялось все Червенцову, когда он ехал сюда, в Рябую Ольху. Время не могло, конечно, оставить без изменения ни его, ни Нату, и после раздумья он пришел к заключению, что не то ожидал увидеть. Редкие письма Анастасии Петровны скупо сообщали о ее житье-бытье, она являлась ему в воображении простой сельской женщиной, в путах мелких повседневных дел утратившей обаяние своей молодости и переменившейся до неузнаваемости. Да, перемена была, но не та, которую предполагал увидеть. Он встретился с женщиной зрелого ума, пожалуй, равной ему, и это признание поразило его, но в конце концов он подумал, что так и должно быть: жизнь одинаково выгранивала их. А после того как узнал, что и Надя не такая, какой виделась ему, Николай Устинович решил сделать больше, чем намеревался вначале, однако с тем условием, чтобы молодой женщине было открыто, кем он приходится ей: Анастасия Петровна резко отказала.
– Ты все-таки не хочешь понять меня, Ната, – обиженно сказал Николай Устинович. – Из-за женского упрямства. Ну, хорошо, я согласен, что доставил тебе уйму неприятностей, очень виноват перед тобою, ты можешь никогда не простить, это твое право. Но скажи, почему нельзя сказать Наде правду?
– А зачем, – жестко спросила она. – Зачем это нужно теперь?
– Мне думается, что так будет лучше, – уже мягче заговорил Николай Устинович. – Считай, как хочешь, пусть это желание как-то загладит вину. Разве это плохо? Я хочу помочь Наде лучше устроить жизнь, ты сама не против, ведь так же? Не будешь же ты отрицать? О ней и о тебе думал я, когда ехал сюда. Я сам постараюсь объяснить ей, она взрослый человек, поймет.
– Ну, а если она еще девчонкой похоронила тебя?
– Как похоронила? – недоуменно спросил он. – Меня?
– Да, тебя, так уж получилось. Ей было лет десять или немного больше, и кто-то сказал, что отец у нее летчик. Она подумала на Лешу и спросила меня: правда ли? Я сказала, что отец погиб не здесь, а где-то на фронте. Поверила или нет, не знаю, только она больше не расспрашивала. Она молчит, но, может, и сейчас думает, что я обманула… Даже теперь ходит на Лешину могилу, носит цветы, ухаживает за ней…
– А-а, это не беда! Все можно объяснить.
– Ты и сейчас только о себе думаешь, своего добиваешься, – упрекнула Анастасия Петровна. – Зачем жизнь ей портить? Да и что хорошего, если Надюша узнает, что отец ее жив и теперь, через двадцать лет, вспомнил о ней.
Червенцов не ждал, что встретит такой отказ. Как всегда, чувствуя, что перед ним возникает препятствие, Николай Устинович внутренне подобрался, он хорошо знал, куда заводит такая одержимость: потом одумается, да не достанет сил повернуть вспять. Она должна понять, что прошлое плохой советчик, оно не может влиять на те отношения, которым предстоит сложиться.
– Ты упрекаешь, твоя дочь – простая колхозница, – помолчав, снова заговорила Анастасия Петровна, думая о том, что он мог бы сказать. – Что же, не всем быть учеными, кому-то нужно и простую работу делать.
– Я не собирался упрекать тебя, да и права не имею, ты не так поняла меня, – возразил Николай Устинович. – Просто хочу помочь ей получить образование, может быть, стать артисткой, у нее же большие способности. Я знаком с певцами, музыкантами, артистами, они будут рады удружить мне – послушают ее, подскажут, как ей поступить.
– Ты дочь хочешь отнять у меня! – воскликнула она и продолжала почти в тоне приказа: – Ничего не выйдет, я ее не отдам… Да и подумал ли ты, как она отнесется к тебе. Не меня, а тебя осудит, осудит строже, чем я. Не умеет Надюшка прощать обиду, у нее не мой характер.
– Но это и от тебя зависит, Ната, – быстро сказал он.
– Да, и от меня, – согласилась она. – Но не хочу, чтобы Надюшка узнала правду, пусть лучше все останется, как было, от твоей правды девочке легче не станет, пойми меня…
– Все-таки ты не права.
– Права или нет, а пусть все останется прежним, – сказала Анастасия Петровна, поднявшись. – Только прошу тебя, не пытайся объясняться с ней, хорошо?.. Что ж, Коля, кажется, поговорили обо всем, пойдем-ка.
Он пошел следом за ней вдоль берега по узкой тропинке, с раздражением думая о том, что его попытка сделать доброе дело беспомощна перед чувством застарелой обиды.
9
В это утро, как всегда летом, Надя поднялась рано, солнце только начало золотить верхушки деревьев, а тени под ними еще дышали ночной свежестью. Федор спал, отвернувшись к стенке и откинув в сторону руку вверх бугристой от мозолей ладонью. Натянув платье, Надя босыми ногами прошлепала по прохладному полу, мимоходом заглянула в настенное зеркало и понравилась самой себе: свежа со сна, с темным румянцем на щеках, с чуть припухлыми губами. Мать Федора – третью неделю ее мучила боль в пояснице – услышала, что она ходит по горнице, простонала за печью:
– Ох, господи, силушки моей больше нет. Ты уж сама похлопочи, Надя.
Так она говорила каждое утро.
– Сама, сама, – сказала Надя и, захватив подойник, вышла из хаты.
Начинался неяркий ласковый день. Влажные тени от дома и сарая протянулись длинно, через весь двор, на траве еще поблескивали тускло-серебристые росинки, розовые облака застыли в небе, и среди них медленно подтаивал ущербный месяц. Разнозвучные голоса пробудившегося села раздавались приглушенно, как в дождь.
Надя выпустила из сарая корову, бросила перед нею охапку привявшей за ночь травы, присела на низкой табуретке доить. В это время Федор вышел на крыльцо, слипающимися глазами посмотрел, как руки жены быстро и ловко ходят под брюхом лениво жующей коровы. Надя повернула к нему голову, улыбнулась:
– Не выспался?
– Ты дашь выспаться, – хмуро буркнул он. – Когда вернулась из клуба?
– Полночи не было, – засмеялась Надя. – Долго на спевку собирались, поздно и начали.
– Мне на машинный двор пора идти, – немного помолчав, сказал Федор. – Николай Павлович вчера наказывал косилки заранее проверить.
– Подожди минутку, поесть соберу.
Закончив дойку, она выгнала корову на улицу, к стаду, подхватила подойник и вернулась в хату. Федор, одетый в комбинезон, расчесывал перед зеркалом волосы. Надя поставила подойник на лавку и, приласкав взглядом крутой, влажный от воды затылок мужа, ушла на кухню. Со свойственным молодым хозяйкам пылом, она делала все в охотку, с пристрастной старательностью, – хлопоты по дому еще представляли для нее привлекательную новизну.
За завтраком Надя, не в силах сдержать счастливого ликования, что так и выплескивалось из ее глаз, восторженно сказала молчаливо-хмурому Федору:
– Знаешь, через три дня едем. Уже и билеты на поезд заказали.
Федор, низко склонив голову, царапал по сковороде вилкой.
– Петр Анисимыч говорит, нам новые сарафаны пошили, – оживленно продолжала она. – Вот чудо как хорошо! У меня серебряный кокошник на голове, знаешь, как раньше у боярышень. Представляешь, как будет красиво…
Федор отодвинул от себя сковородку и поднялся.
– Ну и что хорошего! Сарафа-ан. Боярышня… Кому это нужно! Завлекают вас разными безделками, а ты и растаяла. И ехать тебе не след, подумаешь, велика радость!
– Это почему же? – обиженно спросила она, подняв на него глаза, мгновенно принявшие оттенок старой меди. – Как это не ехать, если я хочу? Почему ты за меня решаешь? Вот еще выдумал! Раз все едут, и я поеду, чем я хуже других. Я, может, больше всех готовилась…
– Я не говорю – хуже, а тебе нельзя ехать, – ответил Федор. – Дом не на кого оставить, мать больная лежит, а ты поскачешь черт знает куда.
– Правда, Надюша, мне и воды подать некому, – отозвалась из-за печки свекровь.
Надя посмотрела на мужа в упор, и глаза ее выражали такой рвущийся из груди упрек, что Федор не выдержал и поспешно шагнул к вешалке за фуражкой.
– Нет, ты не уходи, послушай меня. – Она поднялась и решительно подошла к нему. – Если только это мешает, так мама поможет. Она и корову подоит, и приберет, приготовит что надо и воды подаст.
– Как же, есть у нее время, о своих гостях надо заботиться. – Федор искоса посмотрел на жену, натянул фуражку и распахнул дверь.
– Не ври, пожалуйста, мама не будет возражать. – Что-то дрогнуло раздраженно в ее голосе. – Ты куда же уходишь, подожди…
Надя бросилась в сени, схватила Федора за рукав.
– Нет, ты все-таки ответь, почему не хочешь, – оскорбленно сказала она.
– Не хочу – и все! – сурово ответил он. – Что тут объяснять? Не хочу!
– Это почему же? – требовательно настаивала Надя, удерживая его за рукав.
– Будет тебе по клубам бегать, допоздна там околачиваться, скоро и вовсе забросишь дом. Какая мне радость, сиди да жди тебя. – И договорил еще суровее: – Не девчонка, давно пора понимать.
Надя выпустила его рукав, выпрямилась и осуждающе посмотрела на него – смутная догадка подтверждалась.
– Бабьи сплетни слушаешь, Феденька? За кого ты меня считаешь, стыда у тебя нет.
– Зато у тебя вволю, и то хорошо, – крикнул он, сбегая с крыльца.
Надя вернулась в горницу, бросила косынку на кровать и принялась расчесывать свои густые, тяжелые волосы, сердито поглядывая в зеркало. Размолвки с Федором стали повторяться все чаще. А ей очень хотелось поехать в Москву. Но Федор был против, и она внутренне ожесточилась. Надя думала, что Федор прислушивается лишь к тому, что происходит в его собственной душе, и не хочет считаться с ней. «Как бы не так», – с возмущением сказала она себе и, не замечая боли, с силой потянула запутавшийся в волосах гребень.
Но характер у нее был легкий, веселый, она не умела и не могла подолгу сердиться на мужа, к тому же вспышка Федора забавляла ее, и вскоре ее сильный голос уже раздавался по дому и во дворе. Занимаясь делами, она, как и бабка, всегда пела.
Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня;
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня, —
пела Надя и вдруг со смехом повалилась на кровать; что же она поет, какой он старый, какой он грозный, он еще, как ребенок, дует губы, когда обидится (Надя говорила в таких случаях: «Что губы на каталку натянул»), и хмурый только по виду, а сам до-о-о-брый, до-о-обрый…
Свекровь долго слушала ее, потом позвала к себе.
– Может, лучше не ездить тебе, касатка, – сказала она скорбящим голосом, когда Надя, раздвинув занавеску, заглянула в ее уголок.
– Да вы не беспокойтесь, все будет хорошо, – успокоила ее Надя. – Вот увидите, за вами моя мама еще лучше присмотрит, чем я.
– Не о себе беспокоюсь, Надюша, о Феде. Сумной он сделался, все задумывается чего-то. Вчера, как ушла ты в клуб, места себе не находил. Тревожился. Пошатается, пошатается по горенке, во двор выскочит и опять вернется, и – к часам. Все за тобой порывался. Так-то до трех разов делал.
– Чего ж он, глупый, не пришел, веселее домой было бы идти, – засмеялась Надя. – А я одна бежала, страшно, темень-то, глаза выколешь.
– А все ж таки погляди, как бы не ошибиться, – вздохнула свекровь. – Дюже он задумывается, Федя-то, сумлевается, что ли, чему?
Управившись по дому, Надя переоделась, весело покрутилась перед зеркалом, любуясь тем, как ловко и хорошо облегает ее тело простенькое платье из серенького ситчика и, крикнув свекрови, что скоро вернется, побежала к матери. Дня не проходило, чтобы они не встретились где-либо, то в поле, то на улице, но в молодой женщине еще не ослабло ощущение девичества в материнском доме, даже нечаянное прикосновение к какой-нибудь памятной вещице домашнего обихода наполняло ее бездумным счастьем. Да и мать всегда радовалась ее приходу, – в обеих много было такого, что связывало их, как ровесниц, как подруг.
Анастасия Петровна развешивала белье за домом, между вишенками. Туго повязанная голубой косынкой, в белой блузке, она тянулась к высоко провешенной веревке, а рукава сползали к плечам, открывая ее полные, с крупными красивыми кистями руки. На шее, как ожерелье, висела связка деревянных прищепок. В ярком свете прямых лучей солнца, с выбившимися на лоб и на высокую полную шею колечками волос, рядом с кудрявыми вишнями, уже осыпанными светло-зелеными, а кое-где и зарозовевшими ягодами, мать показалась Наде такой молодой и привлекательной, что она порывисто кинулась к ней и поцеловала в щеку.
– Мамочка, замечательная моя, раскрасавица, я по тебе соскучилась, – забормотала она, прилипая к большому и сильному телу матери.
– Отойди, стрекоза, белье уроню, – смеясь, закричала Анастасия Петровна, отталкивая дочь плечом. – Что ты, как сумасшедшая, бросаешься!
– Давай помогу. – Надя схватила из таза мокрую кофточку, встряхнула ее.
– Что так рано прибежала? – покосилась мать. – С Федором поссорилась?
– Ага, – Надя радостно кивнула головой.
– Чему же ты радуешься! Из-за чего же? Опять из-за твоей поездки?
– Из-за нее, из-за нее, – пропела Надя и потянулась рукой к веревке, стараясь заслонить локтем внезапно вспыхнувшее лицо.
– Вот чудачка, что же тут веселого, – сказала мать с тревогой. – Не поедешь, что ли? Уже раздумала? Да отвечай же, что ты фокусничаешь!
– Нет, поеду, обязательно поеду. – Надя подняла на нее залучившиеся глаза. – Он серчает, дуется, а я все-таки поеду. Ну, пусть, пусть немного побесится, он смешной, когда злится на меня, правда, смешной…
– Ох, бить вас некому, – засмеялась Анастасия Петровна. – Ну-у, совсем как ребятишки… Только жить начали, а уже ссоры.
Николай Устинович, стоя у окна, поверх занавески следил за этим свиданием. Мать и дочь, словно дружные сестры, о чем-то разговаривали увлеченно, перебивая слова смехом. В нем неожиданно поднялось чувство досады, что он может наблюдать за ними лишь со стороны, никакого участия не принимая в их встрече. Почти с ревнивой настороженностью он подмечал каждое движение, выражение лиц, как будто пытался издали понять, чем вызвано их оживление, о чем они говорят, зная, что он не может запросто, по-семейному, выйти к ним, вмешаться в их беседу.
– Что же еще он выдумал? – спрашивала в это время Анастасия Петровна.
– За мать беспокоится, говорит, некому поглядеть за ней, – отвечала Надя.
– Ну, это пустяки! Сказала бы, что я присмотрю, подумаешь, какие трудности.
– Я так и сказала.
– А он?
– «Я не хочу», – поднявшись на носки и опуская на глаза брови, со склоненной к плечу головой, сказала Надя, подражая угрюмому, похожему на приглушенное ворчание баску Федора.
– Ну, тогда я спокойна, – засмеялась Анастасия Петровна. – Ты, конечно, не уступишь, по тебе вижу… Ох-ох, ребячества в вас полный короб.
Они вошли в дом, и Николай Устинович встретил их на пороге горницы.
– Здравствуй, Надя, – с улыбкой протягивая руку, сказал он. – Чему вы смеялись в саду так заразительно, можно узнать, если не секрет?
– Заговор против мужа устраивает, – кивнула на дочь Анастасия Петровна.
– Можно и мне участвовать в нем? – спросил Николай Устинович, невольно удивляясь тому, что дневной свет еще более прибавил прелести молодой женщине и она поразительно, всей своей статью и чертами лица, опять напомнила ему Нату, не хватало лишь кос, – именно такой встречал он ее, когда являлся на свидания, даже серенькое платье с красноватыми искорками, в котором была сейчас Надя, очень напомнило ему то, что носила тогда Ната. Снова прошлое чудом ожило перед ним.
– Никак нельзя, не разрешается, – быстро и решительно ответила Надя.
– Почему же? Говорят, артелью и батьку легче бить, а мужа тем более. Я слышал, он не пускает тебя в Москву, это правда? Мне можешь довериться, я не чужой. Хочешь, я поговорю с ним, по-мужски. Уж мы-то как-нибудь заставим его быть послушным.
– Ничего подобного. – Она исподлобья взглянула на него и попыталась ускользнуть в кухню к матери.
– Да что ты боишься меня, я ведь не кусаюсь! Сядь, поговорим, а то я скоро уеду и побеседовать не придется, – удержал ее Николай Устинович.
– Я слушаю. – Надя, совсем как школьница, присела на краешек стула, положила руки на колени, словно заставляла себя сидеть покойно, и, склонив голову набок, поглядела на него живо и ясно.
– Да-а, вот так-то. – Не зная, что говорить, Николай Устинович прошелся из конца в конец горницы, достал папиросу и закурил. Анастасия Петровна вышла из кухни, быстрым и встревоженным взглядом скользнула по их лицам и принялась накрывать на стол.
– Век не уезжал бы отсюда, да нельзя, – продолжал он, останавливаясь у окна. – Мне и в первый раз понравилось здесь, и тогда все было в зелени, в цветах, война будто и не коснулась вашего села. Мы ведь привыкли видеть разорение, гарь и развалины, а сюда приехали, даже удивительно: все цело, ни одного разбитого дома. Помнишь, Ната, как мы с Алешей пришли в твой дом? Идем мы с ним по улице, выбираем, где бы остановиться, увидели твою хату, и так приглянулась она, ну, словно мирным воздухом дунуло на нас. «Ага, думаем, вот это нам и нужно», – и завалились мы в хату.
– У нас всегда летом хорошо, – согласилась Анастасия Петровна.
– Николай Устиныч, а вы хорошо знали Алексея Бережного? – с приливом внезапной решимости спросила Надя.
– Алешу? А как же! – воскликнул он. – Кому как не мне знать его! Замечательный товарищ, прекрасный летчик, в полку его любили. А мне Алеша был лучшим другом, больше года, можно сказать, из одного котелка ели, под одной шинелью спали, так спаялись, водой не разольешь… Фронтовое братство – не просто красивое слово, Надя. Это, знаешь, как говорилось раньше, жизнь отдай «за други своя».
– Как с ним это случилось? – требовательно спросила Надя, налегая на слово «это».
Николай Устинович развел руками.
– Как случилось? На моих глазах его сбили. А летчики, Надя, чаще всего гибли в воздухе, в бою. Так и Алеша. Своим самолетом он прикрыл командира, а немцев было двое. Они и сбили Алешу, тут же, почти над вашим селом… Да-а, редкого мужества был человек, очень редкого, настоящий сокол.
– Значит, он за кого-то погиб, – просто сказала Надя, задумчиво щурясь на светлый квадрат окна. – Как это вы сказали: «за други своя»?
Николай Устинович вскинул голову, что-то оскорбительное почудилось ему в словах Нади.
– Ну-у, это не так. Алеша просто увлекся тогда, а в бою головы терять нельзя, особенно летчику, – ответил он почти обиженно.
– Всякий человек своей смертью умирает, не за других, – тихо сказала Анастасия Петровна.
– Да, смерть никого не щадит, особенно на войне, – отозвался Николай Устинович.
– А, наверное, очень тяжело знать, что кто-то погиб за тебя. – Надя низко опустила брови. – Ходит человек по земле, живет, радуется и только потому, что другой уже умер… вместо него. Это страшно!
Николай Устинович смотрел на нее растерянно.
– Откуда у тебя такие глупые мысли! – удивленно сказала Анастасия Петровна.
– Почему глупые, мама? Ты скажи, разве могла бы ты быть счастливой, если бы знала, что проживаешь чужую жизнь? – откликнулась Надя с вызовом.
– Как это «чужую жизнь»! Не хочу я слушать твои бредни, – сердито сказала мать.
– А вы не могли бы достать карточку Бережного? – спросила Надя очень тихо, и глаза ее засветились. – Мы так хотели, чтобы она была на памятнике.
– Кто это «мы»? – Анастасия Петровна беспокойно покосилась на дочь.
– Комсомольцы, пионеры… ну, словом, все, кто за могилой ухаживает.
– Кажется, есть, – глухо кашлянув, сказал Николай Устинович. – Пришлю.
– Только не забудьте, я очень, очень прошу, – порывисто произнесла Надя и, подхватившись со стула, выбежала из горницы.
– Ты куда? – крикнула Анастасия Петровна в окно. – А завтракать с нами?
– Не хочу, я уже поела, – отозвалась она со двора и хлопнула калиткой.
Анастасия Петровна взглянула на удивленного Червенцова и пожала плечами, осуждая непонятную девчоночью пылкость дочери, – будто вихрем вымело ее из комнаты. Что с ней случилось? Ох, уже эта горячка! Пора, давно пора и посолидней сделаться.






