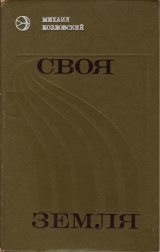
Текст книги "Одна неделя в июне. Своя земля"
Автор книги: Михаил Козловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Ерпулев виновато развел руками:
– Как хотите наказывайте, заслужил – отвечу. Только и мне обидно всякую напраслину слушать да позор перед людьми терпеть! По радио так ославили, хоть из села беги. Кому это понравится? Убил, стервец…
– Кто ославил? – удивился Владимир Кузьмич. – Ты лучше не виляй!
– Да Санька же Прожогин, кому больше! – Уже увлеченно, веря в свои слова, сказал Ерпулев. – Такое про меня говорил – и повторять совестно: и алкоголик, и бессовестная душа… Да что там, у людей спросите, как он хаял меня. И за что взъелся, не знаю, хоть убейте!
Андрей Абрамович сгорбился, губами сделал такое движение, будто собирался заплакать, но лишь по лицу прошли волны затаенной обиды.
– Да в чем же дело? – рассердился Ламаш. – Ты объясни, я ничего не понимаю.
– Санька же, говорю, но радио нынче брехал, и колхоз я пропил, и сплю в обнимку с бутылкой, и людям за меня совестно, даже грозился. Ей-богу, не вру, своими ушами слышал, не сойти с этого места.
– Я не знал, – озадаченно сказал Владимир Кузьмич. – Как же он ухитрился?
Ерпулев растерянно посмотрел на него.
– Я думал, он с вашего согласия, – заторопился бригадир. – Сказать не могу, как обидно. Такую волю забрал, спасенья нет, кого вздумает, того и ославит, то в газетке пропишет, а теперь и по радио… Баба моя плачет, на люди выйти боится. А мне-то каково, Владимир Кузьмич? – И снова судорожные волны пробежали по лицу Ерпулева.
– Ну, ладно, иди работай, я разберусь, – пообещал Ламаш с презрительной жалостью. – Ты на жалейке не играй, знаю, в обиду себя не дашь.
– Довели, Владимир Кузьмич, потому и жалуюсь, – махнул рукой бригадир и поднялся. – Ну, до того ославил, стервец, хоть глаза на людей не показывай.
«Каждый день какая-нибудь пакость», – Владимир Кузьмич сокрушенно смотрел на дверь, за которой скрылся бригадир, и подумал, как часто приходится ему, председателю, всякую мелочь в деле сочетать с настроением людей, с их отношениями один к другому, с тем сокровенным, что совершается в их душах, – и это было привычно, такой же обязанностью его, как и все, чем он занимался. Нелегкая ноша легла на плечи, под ней и сломиться недолго.
А Ерпулев, покинув стены конторы, с хитрым видом довольного своей сметливостью человека сел на мотоцикл и покатил домой завтракать и успокаивать жену.
7
У колхозной конторы на высоком шесте вьется флаг. Спадет ветер – и он повиснет вдоль древка, беспомощный и бессильный, затем зашевелится, затрепещет и вновь взовьется высоко в небо, над шумными вершинами деревьев. С любого конца Долговишенной виден его веселый язычок, – выйдет долговишенец за ворота, взглянет в сторону конторы, и среди зеленой листвы кивнет ему алый огонек. Про чью славу вьется он сегодня?
Под шестом – черный щит, похожий на классную доску. Счетовод Лида Слитикова мелом вывела: «Звено Анны Тимофеевны Золочевой первым закончило прорывку сахарной свеклы». Мелок крошится, буквы получились неодинаковые – одна больше, другая меньше, – но девушка довольна: надпись видна издалека. Она вытерла платочком пальцы, вскинула глаза вверх, в синее небо, в снежно-белые облака, на развевающийся флаг.
– Лидочка, добавь: «В колхозе и районе», – сказал Владимир Кузьмич с крыльца. – Это самое существенное. Да покрупнее, чтобы в глаза бросалось.
За кустами акации стоял запряженный в дрожки серый длиннотелый жеребец. Услышав голос Ламаша, он торчмя наставил уши и покосился жарко-лиловым взглядом на крыльцо.
– Как он узнает вас, – засмеялась девушка. – Только пригонят с конюшни, а он уже топчется, ждет. Хоть бы раз прокатили, Владимир Кузьмич.
– С великим удовольствием, только уговор: назад пешком пойдешь.
– Нет уж, катайтесь сами, – сказала Лида. – Охота по жаре плестись.
– А то поедем, на цветочки полюбуешься. Живешь в деревне, а в поле не заглянешь.
– Вот радости! У нас самих при доме сирень зацвела, да такая пышная, просто на удивление.
– То сирень, а то полевой цветок, – сказал Владимир Кузьмич, подходя к жеребцу, и, ласково схватив его за трепетный бархатистый храп, стал приговаривать сквозь зубы: – Ах ты, умница, красавчик мой…
– Если будут звонить, что сказать, Владимир Кузьмич? – спросила девушка, взбегая на крыльцо.
– Скажи, в поле, вернусь не раньше вечера.
За селом Владимир Кузьмич пустил жеребца вольной размашистой рысью. Под утренним солнцем блестел полевой простор, от земли уже наносило сухим печным жаром, по молодым хлебам слоисто струилось марево, в небе гуще, плотнее сходились огромные лилово-дымчатые облака, и синева ярче сияла между ними.
Владимир Кузьмич любил поездки в одиночестве, когда, ничем не отвлекаясь, можно неторопливо подумать обо всем, что скапливается в каждодневно повторяющейся суете. В часы одиноких размышлений мысли приобретали строгую простоту и завершенность, и если потом оказывалось, что их разбег сделан впустую, Ламаш все же неохотно расставался с ними. Всю свою жизнь, с тех пор как начал помнить себя, он был во власти каких-нибудь определенных обязанностей и не мог освободиться от них, пока не подходила пора сменить одно другим. Так было, когда учился сначала в школе, потом в сельскохозяйственном техникуме, служил в армии, работал в райкоме партии. Почему-то за него делали выбор другие, и казалось естественным, что он становился нужным именно на том месте, куда посылали, и ему не приходило в голову возражать. Но с тех пор как он помнит себя, Ламаш ждал того момента, когда вернется к земле, станет таким же хлеборобом, как все те, кто открыл и вел семейную хронику Ламашей. Видно, дедовская кровь крепкой закваской осела в нем и никакой силой уже не вытравить ее. Родной деревни Владимир Кузьмич почти не помнил – пяти лет его вывез отец на большую стройку в Приуралье, – в памяти заманчиво всплывали, да и то неясно, лишь воспоминания о зеленом от плесени корыте у колодца, о страшной своей свирепой колючестью крапиве и огромных лопухах под плетнем, о кисленьких, душистых ягодках паслена.
Володька уже ходил в школу, когда к семье присоединился овдовевший дед. Словно с другого края земли появился он, так был непохож на тех мужиков, которых встречал на каждом шагу мальчишка. Рыжебородый, – а все мужики брили бороды, – маленький, лишь на голову выше внука, в огромных лаптях, в перекрещенных белой тесьмой онучах, он казался пришельцем из какой-то сказки. Отец отдал деду свой пиджак, порыжелые рабочие сапоги, и старик принял земной облик, сделался таким же, как и все мужики, от прежнего сохранилась лишь одна борода. Однако он так и остался чужаком на пыльных и шумных улицах города и втихомолку удирал в поля, увлекая за собой внука. Вдвоем они бродили в хлебах, затеривались на лесных еланях и возвращались упоенные всем виденным за день. Общение с дедом открыло Володьке незнакомый мир. Удивительно, как много знал дед, исконный пахарь! От него не было сокрыто таинственное превращение живого зерна в колос, он умел добывать сладкий кленовый сок, предсказывал, когда закроются цветы картошки и кувшинки, вызывал дождь и сушь. Стоило деду, посмотрев на небо, сказать: «Сидеть нам завтра дома, Володька, к дождю будто», и наутро шел дождь. Перед ним, точно перед сказочным волшебником, раскрывали свои сокровища поля и леса, и после дедовских занимательных историй косноязычной казалась школьная биологичка. Дед разыскивал травы и ягоды, выкапывал корни и сушил их на душном чердаке дома, в котором жило много рабочих семей. От старика и зимой пахло как от стога сена, даже дедова подушка источала запах сухих трав.
С дедом должно было случиться что-то интересное, что-то похожее на сказку. Так оно и вышло. У соседки заболела маленькая девочка, она умирала, потому что никто не мог взять болезнь за горло и побороть, как Кощея Бессмертного. Приходил врач, но девочке не становилось лучше, она увядала со дня на день, тоньше и прозрачнее делалось ее тельце, и все повторяли слова врача, что нужен какой-то «бактериофаг», но его достать негде, может быть, только и есть в Москве. И тогда дед принес из леса корешки, долго оттапливал их на электрической плитке, затем отдал девочкиной матери густой и темный, как пиво, настой и сказал, чтобы она поила им умирающую дочь. И чудо свершилось: дед победил болезнь. Володька гордился им и решил стать таким же, как он, и приносить людям счастье. Потом, уже взрослым парнем, он прочитал у Маркса, что опыт считает того человека счастливым, кто сделал счастливыми наибольшее число людей, и внук понял: дед все-таки был одним из этих счастливых людей…
Владимир Кузьмич нагнал группу женщин. Вскинув тяпки на плечи, они шли по старой полевой дороге. Среди них решительно вышагивала темноликая, сухопарая старуха. Разводя свободной рукой и живо поворачивая голову, туго повязанную белым платочком, она что-то рассказывала бабам. Услышав топот копыт, женщины неторопливо разошлись по краям дороги, утопая по колени в молодой пшенице.
– Анна Тимофеевна, – узнал старуху Владимир Кузьмич и придержал жеребца. – Как же так получилось? Мы флаг подняли в честь вашего звена, а вы на свеклу идете. И много осталось прорывать?
Старуха вскинула на него блестящие, переливающиеся темным огнем глаза, певуче ответила:
– Никакой промашки нет, мы свое покончили, помочь собрались.
– Кому же помочь?
– А кому придется, у кого задержка, тому и поможем. Ты за нас не сумлевайся, Володимер Кузьмич.
– Ну, спасибо, бабочки! – снял фуражку Ламаш. – Доброе дело затеяли… Эх, не уместитесь на моем драндулете, а то с ветерком доставил бы на место, с почетом, чтобы все видели, какая у нас гвардия.
– Ладно, ты поезжай себе, дороги нам не закрывай, – сказала Анна Тимофеевна. – Сами доберемся.
Владимир Кузьмич хлестнул вожжами по спине жеребца, и тот махом рванул дрожки. Женщины что-то закричали вслед, но крики заглушил топот копыт и стук колес.
На дальнем конце свекловичного поля пестрели платочки, женщины работали, склоняясь до земли, и солнце нещадно пекло их спины. Владимир Кузьмич перевел жеребца на шаг, чтобы его заметили издали, – знал, что на такой работе женщины в жару, когда и дышать нечем от зноя, порой сбрасывали с себя все, оставаясь в одних рубашках. И на этот раз его появление вызвало переполох: несколько белых фигур, пригнувшись, перебежали за огромный, крытый соломой шалаш.
Он медленно подъехал к шалашу, привязал жеребца к обнаженной сохе. С другой стороны шалаша выбегали те, кто скрывался за шалашом, лукаво поглядывая на Ламаша. Позже всех вышла рослая, статная молодая женщина, дочь Евдокии Ефимовны. Оправляя на груди легкую ткань сарафана, она повернула к председателю смеющееся лицо с нежным румянцем на смуглых скулах.
– Хотя бы часового поставили, а то застанут вас врасплох, – упрекнул Владимир Кузьмич.
– Не застигнете, у нас глаза острые, мы вас еще на бугре увидели, – засмеялась она.
– К вам подмога идет, Вера. Я обогнал ее.
– На что она, мы сегодня и так кончаем, – сказала она и побежала догонять подруг, мелькая из-под платья загорелыми икрами.
В эту минуту Ламаш увидел и Евдокию Ефимовну. Она шла к нему через поле, сняв с головы белый платочек и обмахивая им разгоряченное лицо. И в ее улыбке, и в глазах было то же самое выражение лукавства, тот же отсвет трепетного смеха, что и на лицах напуганных им женщин, словно он переходил от одной к другой, как в игре «Передай дальше».
– К вам Тимофеевна на помощь идет со своим карагодом, – сказал Ламаш.
– А-а, выбралась старая, не утерпела все ж таки, – засмеялась Евдокия Ефимовна. – Да вот и они! Смотри, смотри, что-то там случилось.
На краю ржаного поля появились женщины. Они шли быстро и что-то кричали, показывая руками на далекий лес. Ламаш оглянулся. Черная туча, шевеля косматыми отростками, точно огромными лапами, выползала из-за леса, и ярко-белые, освещенные солнцем облака как бы в панике отступали по всему небу, очищая ей дорогу. Все застыло в неподвижности, смятенно ожидая грозы. «Как бы не градовая!» – всполошился Владимир Кузьмич.
Сухим жаром пахнуло из степи, как если бы кто-то отодвинул заслонку в печи, и сразу сделалось нестерпимо душно. Потом по зелени пробежала рябь, рожь на бугре заволновалась, заметалась под напором ветра из стороны в сторону, клонясь долу, и дуб размахался ветками, словно ловил что-то в воздухе. И вдруг все обволокло пепельным светом, внезапно надвинулись сумерки, далеко по полю пробежал солнечный луч и погас…
Со всего поля женщины с узелками и тяпками сбегались к шалашу. Обвально грохнуло над ними небо, как будто что-то разорвалось в туче, зашелестели по траве веселые капли, и хлынул ливень, шумный и напористей.
– Шарахнет в шалаш, и капут нам, бабочки, – сказала Анна Тимофеевна.
– Типун тебе на язык! – крикнула какая-то женщина. – Господи, пронеси мимо такую страсть!
Старуха не успела добежать до укрытия, ливень нагнал ее, сразу испятнал с головы до ног, и она, скинув платочек, вытирала мокрое лицо с очевидным удовольствием. Женщины были напуганы, забились в глубь шалаша, лишь она осталась у входа рядом с Ламашем и смотрела, как хлещут по зеленой молоди и рыхлой земле дождевые струи, набухают и разливаются мутные потоки в рядках растений.
С тресканьем и уханьем небо раскалывалось над полем, лиловые сумерки раз за разом разрывались вспышками сияюще-синего огня, и, казалось, дождь припускается все напористее и веселей. Жеребец едва не опрокинул дрожки, повернувшись задом к косым струям, и при каждой вспышке испуганно шарахался и рвал соху, – хорошо, что она прочно вкопана в землю, хорошо, что жеребец привязан к ней вожжами, а не уздечкой, а то вырвался бы и умчался в поле.
– Ай и хороша банька! – поеживаясь мокрыми плечами, сказала Анна Тимофеевна. – Сразу как прорвало. Чуток ему подождать, прорывку закончили бы.
– Как бы градом не побило, – вздохнул Ламаш.
– Какой там град, Володимер Кузьмич! Смотри, с краюшка голубенькое проглянуло.
Пушечные залпы грозы отодвигались в сторону, вокруг просветлело, и дождь ровно зашумел по соломе шалаша, промокшая зелень обвисла под дождевым севом. Бабы повеселели. Недавно еще, перепуганные, ничего не испытывавшие, кроме желания, чтобы гроза пронеслась над ними быстрее, они теперь подтрунивали друг над другом, стараясь представить все смешнее, чем было на самом деле.
– Ну, смилостивился твой господь, Фиска, – немного пренебрежительно сказала Анна Тимофеевна. – Я старуха, и то про господа не вспомнила, а ты кличешь его. Слабо ты звала, он, как твой мужик, глуховат.
Бабы сдержанно посмеялись.
– Ты, известно, отчаянная, – с вызовом ответила большеглазая мягкотелая бабенка, зардевшись лицом.
Все посмотрели на нее. Краска еще более разлилась по лицу Фиски.
– Будет вам, все перепугались. – Вера лукаво и весело посмотрела на председателя. – Глядите, Владимир Кузьмич и сам дрожит, никак не придет в себя.
– Я за вас дрожал, случиться что – отвечай потом, – подхватывая шутку, засмеялся Ламаш, и в шалаше сделалось весело и шумно: гроза проходила, и вместе с нею проходил страх.
Туча оказалась без града, сизо-свинцовый ливень отбушевал, и теперь шел спорый, теплый дождь, наливной, как называют мужики. Еще один-два таких дождя – и мало сказать, выправится ярь, как бы она не обогнала озимь.
– А что, Владимир Кузьмич, будет ли когда бабам послабление? – вдруг сказала Фиска. Оправясь от смущения, она бойко поглядывала на председателя светлыми круглыми глазами. – Вы небось сразу после дождя погоните: бабочки, за работу!
– А тебе не по вкусу, – усмехнулась Анна Тимофеевна.
– Так грязь же, утопнуть можно.
– После дождя легче прорывать, пусть только ветерком обдует, – успокоила Евдокия Ефимовна. – Возьмемся – и к вечеру смахнем.
– И когда нам полегчает – не видать, – вздохнула Фиска. – Сколько помню, все с тяпкой да с тяпкой. Картошек вовсе мало сажаем, – там культиватор. Тут же целая прорва свеклы, а техника – баба да тяпка.
– Э-эх, видать, кланяться свекле, покуда ноги носят, – прозвучал чей-то огорченный голос.
– А правда, Владимир Кузьмич, – не сдержалась Вера. – Какие только посулы мы не слышали, а все одно и то ж. Мужики хитрые, за них машина делает, только крути рулями туда-сюда, а мы своими жилами…
– Ты сладкое любишь, другой тож, – перебила ее Анна Тимофеевна. – Выбрось тяпку – откуда сахару быть? Нет, без нее не обойдешься.
Бабы заговорили громко, задористо, наперебой. Не понаслышке знал Владимир Кузьмич, как нелегко женщинам весной, когда, склонясь до земли, день за днем ползают они почти на коленях по рядкам свеклы, обхаживая каждый росток. К концу прорывки белки глаз становятся розовыми, как у кроликов, от постоянного прилива крови, не оттого ли и ранние морщинки густой сетью оплетают глаза любой сельской бабы. А в уборку?! Однажды поздней осенью, в первые морозы, Владимир Кузьмич ехал по заданию райкома в село Большие Лужки. В воздухе струилась мерзлая мокрядь: туман не туман, дождь не дождь – не поймешь. С пологого взгорка в междухолмье он различил неубранное поле свеклы. У самой дороги по прохваченной морозом ботве медленно полз трактор с подъемником, вгрызаясь стальными лапами в закаменевшую пахоту. Следом молча двигались женщины, лопатами выламывали вмерзшие в земляные глыбы корни. От холодного ветра и ледяной мжицы, летящей с низкого сизого неба, лица у них красные, воспаленные. Ламаш вышел из машины и спросил у ближайшей к дороге женщины, что они делают. Невысокая плотная баба, в ватнике и резиновых сапогах, повязанная мешком вместо фартука, воткнула в землю лопату и выпрямилась. Серые большие глаза ее были печальны. «Вы спросите у наших начальников, о чем они думают, – сказала она, с усилием разжимая зубы. – Сначала мы стоговали, потом на картошку послали, а в октябре на свеклу вышли, вот и не управились». Она сняла рукавицы и потуже перевязала платок. Владимир Кузьмич помрачневшими глазами смотрел на ее руки – черные, потрескавшиеся, изъеденные осотом и морозом. «Как солдаты на фронте», – подумал он и огорченно покачал головой…
– Нет, почему же, можно обойтись и без тяпки, – сказал Ламаш. – Ты слышала, Вера, что делают на Кубани?
Молодая женщина подняла брови.
– Там эти штуки давно решили. – И он начал рассказывать о сеялках точного высева, об одноростковых семенах свеклы, выведенных на Украине, химической прополке посевов. Ламаш вдруг почувствовал в себе беспокойный дух убеждения, когда хочется, чтобы каждое слово вошло в души тех, кто слушает, и отозвалось тем же волнением. Он говорил легко, и то, чего касался, само по себе привлекало слушателей, потому что сулило благодатные перемены в их многотрудной судьбе, и замечал, как внимательно слушают его женщины и общее выражение мягкости и задумчивого удивления ложится на лица.
– Хорошо, как в сказке все одно, – сказала Фиска, прищуриваясь, словно пыталась въявь увидеть то, о чем только что услышала. – Почаще бы так, Владимир Кузьмич, очень завлекательно говорите.
– Фиска по сказкам соскучилась, – прыснула какая-то бабочка, и женщины захихикали.
– А почему так, слушаешь вас, а веры и на столечко нет? – вся подаваясь вперед и показывая кончик пальца, вызывающе спросила Вера.
Ламаш повел плечами.
– Вы только не обижайтесь, – сказала молодая женщина. – Мы не то что не верим, а как-то сомневаемся.
– Не пори глупости! – осадила Евдокия Ефимовна дочь. – Кто это сомневается?
– Да хоть бы я! – ответила Вера, окидывая Ламаша озорным взглядом. – Как что хорошее, так где-то далеко, не у нас. Фиса правильно сказала: как в сказке. Либо нам начальники достались такие ленивые, не хотят заботиться о нас, либо не знаю что… Только мимо нас проходит все хорошее.
– А ведь Верушка дело говорит, Володимер Кузьмич, ты ее не кори, – заметила Анна Тимофеевна. – Мы и так уж толковали: там хорошо, где нас нет.
– Погодите, и у нас все будет, – сказала Евдокия Ефимовна.
– Безусловно, – согласился Владимир Кузьмич. – Но обо всем сразу рановато думать. У нас еще многого не хватает, тех машин, например, какие нужны. Однако дойдет очередь и до нас, и мы забросим тяпку куда подальше…
– Пока солнце взыйде, роса очи вые, – перебила Анна Тимофеевна и тут же скомандовала: – А ну, бабы, распогоживается, кажись, забирай тяпки – и на свеклу.
Пригибаясь, женщины проходили в проем шалаша, мимо Владимира Кузьмича. Вера проскользнула следом за матерью, обернулась и со смехом сказала:
– А вы и вправду хорошо рассказывали, не сердитесь…
8
На половине пути к полевому стану трактористов Ламаша вновь застигла непогода. Вслед за грозой наступало ненастье: небо сплошь обложило тучами – ни просвета, ни голубинки в нем, – из них сыпался мелкий, как пыль, бесшумный дождевой сеянец. Даль затянуло пепельной наволочью, как будто наступал вечер. Неслышный в поле, дождь словно усилился и сделался гуще в лесочке, на опушке которого расположился стан. Шорох шел от дерева к дереву, скапливаясь в ладошках листьев, дождинки срывались на траву, глухо перестукивались по всему леску. Запахло сладкой лесной сыростью, мокрой корой, лиственной прелью. Дорога расплылась, колеи затянуло ржавой грязью. Скатанная с листьями и хвоинками, она облепила колеса. Жеребец аспидно потемнел.
Ламаша крепко промочило в дороге. Плащ набух от влаги, края фуражки обвисли, роняя на шею теплые капли. Но Владимир Кузьмич не ощущал неудобства. Он не торопил жеребца, как если бы желал, чтобы и его вместе с полями и леском обмыл долгожданный дождь.
На полевом стане стоял трактор Саньки Прожогина. Кухонька под навесом, бочки из-под керосина, столик и лавки под огромной грушей залило водой, в лужинах плавал лесной мусор. Не надеясь застать кого-либо на стане, Владимир Кузьмич толкнул дверь. В будке было по-вечернему сумеречно. Западая в маленькое оконце, свет рассеянно расположился и по заклеенной плакатами стенке, и на широких полатях, где из-под бараньего тулупа торчала голова бригадного повара Гриньши-Клинка. Не сразу Ламаш увидел Саньку Прожогина. Поставив локти на колени и положив в ладони голову, тракторист неподвижно сидел в углу. На стук двери Санька и головы не поднял.
– Ты что тут делаешь, Александр? Спишь? – спросил Владимир Кузьмич, расправляя полы плаща и усаживаясь на сене возле головы Гриньши.
Санька туманно-черным взглядом окинул председателя и нехотя ответил:
– Не-ет, так… задумался я.
– А где остальные?
– По домам разбеглись, Владимир Кузьмич. Все одно в поле не работа.
– Та-ак, – Ламаш достал папиросы, вытащил одну себе, протянул пачку трактористу. Они прикурили от одной спички, пряча ее в сложенных ковшиком ладонях, как привыкли прикуривать в поле, на ветру. – Та-ак, значит, – снова протянул Владимир Кузьмич и покосился на курчавые, невпрочес волосы вытянутой в затылке головы Гриньши, – на ощупь они, наверное, были жестки, как проволока.
Если бы кто-нибудь сказал Ламашу, что в своем отношении к Саньке Прожогину он не лишен пристрастия, Владимир Кузьмич посмеялся бы над таким предположением. Нет, он ни в чем и никогда не выделял молодого тракториста, даже, пожалуй, был к нему более взыскателен, чем к другим. Но он и сам не замечал того, что его взыскательность имела оттенок любования. Была в Прожогине какая-то веселая уверенность в себе, как будто Санька стремился показать, что живет играючись и удивить его ничем нельзя, – в нем постоянно бродил дух самоуверенной предприимчивости. За неизменным выражением плутоватой сметливости Ламаш высмотрел в нем человека особой самолюбивой складки. В отличие от многих своих сотоварищей, Санька не прельщался выгодой, был равнодушен и к славе первого баяниста на селе. Может быть, только одно по-настоящему беспокоило его: он не хотел, чтобы кто-либо мог сказать, что Санька поступил когда-нибудь не лучшим образом, что на Саньку нельзя положиться. Владимир Кузьмич подумывал, как бы сделать Прожогина вожаком молодежи в Долговишенной.
– Ты либо повздорил с кем, Александр, – улыбнулся Владимир Кузьмич. – Или в любви не везет, вид у тебя такой, будто кислятины объелся.
– Не с кем мне ссориться, – насупленно ответил Санька.
– Как не с кем! А с Ерпулевым? – сощурился Владимир Кузьмич.
Прожогин промолчал, сосредоточенно упиваясь папиросой. Он внутренне ощетинился в предчувствии председательского разноса: как-никак Санька уже задумывался, не вторгся ли в область, которой ему, возможно, не следовало касаться, и еще неизвестно, как восприняли его поступок Ламаш и Евдокия Ефимовна. Обличая Ерпулева, он верил в свою правоту да и в безнаказанность, – кому придет в голову впутывать его в это дело, – но голос выдал, и все, кто слушал радио в то утро, указывали на него. Вначале он слышал лишь одобрения, но затем Ерпулев передал через людей, – встречаясь с трактористом, Андрей Абрамович старался не замечать его, – что не успокоится, пока не засудит Прожогина за оскорбление, и Санька затосковал: о таких последствиях он не думал, и теперь беспокойные мысли тревожили его.
– Был у меня Ерпулев, – немного выждав, проговорил Владимир Кузьмич. – Как это ты сообразил, Александр, а? Всего ожидал от тебя, но такого… Тут ты удивил, признаюсь. Не спросись никого, в колокола вдруг бухнул… Нехорошо получилось, ох нехорошо! Можешь понять?..
Опустив голову, Санька упорно молчал с зажатой во рту потухшей папиросой. За этим молчанием Владимир Кузьмич почувствовал упорную силу сопротивления.
– Мне непонятно, чего ты добиваешься, – внушительно сказал Ламаш. – Судьей себя выставляешь? Кто же дал тебе такое право!
– Никто не давал мне права, – поднялся Санька и загородил спиной оконце так, что в будке сделалось совсем темно. – Только и вы хороши тоже.
– Чем же мы не понравились тебе? – с усмешкой спросил Владимир Кузьмич. – Да ты сядь, не драться же нам с тобой.
– А тем, – Санька опустился на лавку и заговорил тихим, тоскливым голосом, обходя взглядом Ламаша: – Вы всё спускаете Ерпулеву, что ни сделает, ни разу не одернули, потому он ваш. Жалеете потревожить…
– Ну, это ты глупость сморозил, – возразил Владимир Кузьмич. – Кто спускает Ерпулеву? Да и как понять: ваш Ерпулев? Родственник мой, что ли?
– А разве не правда! – глухо и настойчиво продолжал Санька. – Ерпулеву все с рук сходит. Кого ни спросите, все это скажут.
– И ты решил поправить нас, – снова улыбнулся Ламаш.
– Не знаю, может, вы и обиделись, Владимир Кузьмич, только мне-то теперь все равно, а сказать я должен. – Санька был серьезен, хмур, даже обычный румянец сошел с его щек. – Вы-то небось не замечаете, а Ерпулев что захочет, то и делает, попробуйте, говорит, напротив пойти – сомну. Разве допустимо такое партийцу! Мне не верите, спросите у людей, какой он жох, и все ему прощается. Может, не так я сделал, а только мне обидно, до каких пор поблажать ему? В газете писали, а ему хоть бы что. Ну, я и резанул! Всю правду, какая есть. А теперь что хотите, то и делайте.
– Погоди, горячка, – сказал Ламаш. – Ты слышал такое слово: анархия?
Санька взглянул на него, напряженно мигая и морща лоб, словно силясь понять, что нужно от него председателю.
– Ну, слышал. В кино показывали анархистов.
– Значит, знаешь, что это такое?
Санька усмехнулся:
– Анархия – мать жизни и порядка.
– Скажи лучше – беспорядка, – быстро отозвался Владимир Кузьмич. – Вот и ты, вроде анархиста, со своим порядком сунулся. Сам справиться хотел, э-эх, голова! Ну, отругал Ерпулева, душу отвел, а что выгадал? Исправился он?.. Эх ты, кавалерия! Сам себе хуже сделал, ведь тебя судить могут, ты это понимаешь?
– Мне все равно. Судите, если совесть дозволяет.
– Так не мы, закон, дурная твоя голова!
– Вы меня не стращайте. Судить судите, а за что? За то, что правду сказал?
– Заладил одно: правду, правду, да ведь пойми, как она сказана… Ну, ладно! До суда, может, и не дойдет, а взгреть тебя следует… по линии комсомола. Тут уж не отвертишься.
– А мне все равно, – упрямо повторил Санька. – Только я уйду из колхоза, Владимир Кузьмич, вы мне не препятствуйте, не держите лучше…
– Один думал или помогал кто? – жестко сказал Ламаш. – Ты знаешь, от чего отрываешься, – от своей земли, слышишь – от сво-о-ей.
– Всюду она одинаковая, – отмахнулся Санька.
Владимир Кузьмич помедлил, как бы раздумывая, следует ли отвечать на услышанное, потом с грустью покачал головой:
– Одинаковая, говоришь? Да, вроде бы одинаковая, земля и земля, какая в ней разница… А все ж таки никто не забывает той, где родился, к ней постоянно тянет его. Ну, зацепишься на другом месте, тракторист ты хороший, работу всюду найдешь, не понравится – дальше покатишься, не свое все, не родное, легче оторваться. Видел перекати-поле? – Санька кивнул головой. – Вот так и тебя понесет по свету.
– Вам-то какая боль – не шпановать уйду.
– Думаешь, с места на место кантоваться лучше? По морям, по волнам, нынче – здесь, завтра – там. А? Как в старой песенке.
– Ну, и здесь не мед! – внезапно охрипнув, выговорил Прожогин. – Я работы не боюсь, Владимир Кузьмич, обидно смотреть, как нахрапистым с рук все сходит. Вы тоже за них не беретесь… И до вас так же было.
– Вот это мужской разговор, Александр, – сказал Ламаш. – Однако пойми, криком да властью много не сделаешь. Ругань, злая, обидная, виноватого не исправит – ожесточит. Подумал ты об этом?
Они недолго помолчали.
– Ну как? – спросил Ламаш и положил на колено Прожогина ладонь. – Значит, твердо решил бежать?..
Вначале Сашка собрался высказать председателю все, что накопилось в душе, пускай знает, от людей ничто не скроется, а если сам делает вид, будто во всем порядок, так у других свое мнение. Но Владимир Кузьмич говорил с ним так, точно советовался, и ему сделалось стыдно за себя.
– Владимир Кузьмич, – сказал Санька с облегчением и приложил к груди кулаки. – Вы забудьте, что говорил, ей-богу, это осечка, сгоряча я… думал, вы за бригадира.
– Не в том дело, Александр, – заговорил Ламаш в сосредоточенном раздумье. – Легко решаешь, с кондачка, по прихоти, понял? Надо к чему-то одному крепко-накрепко привязаться, душой прилипнуть, вот тогда сто раз подумаешь, бросать или не бросать. Есть у нас еще такие деятели: сегодня одним занят, завтра другим, не труд у него – работа, и расстается с ней легко, без сожаления, если на новом месте выгоднее. В конечном же счете, ни к чему сердце не лежит, все трын-трава… Я не про тебя говорю, ты жить только начинаешь.
– Я понимаю…
– Понимать мало, Саша, душевно надо почувствовать, – сказал Владимир Кузьмич, сжимая рукой колено Прожогина. – Вот ты насчет Ерпулева. Испорчен он, без вожжей ходить не может, видим это, однако не все же в нем гнило. Ерпулева из нашей Долговишенной не вытянешь, корнями тут врос… Другого на его место поставить бы, да ваш брат капризен, чуть что, сейчас: уйду, уеду из села, без хлеба не останусь. А бригадиром быть не легко, Саша, власть какая бы ни была, как оселок для бритвы, настоящая сталь от нее острее.






