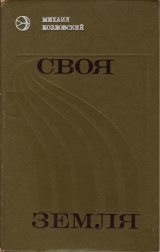
Текст книги "Одна неделя в июне. Своя земля"
Автор книги: Михаил Козловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Михаил Козловский
СВОЯ ЗЕМЛЯ
Одна неделя в июне
1
Степь притихла в палящем зное, в раскаленном предгрозьем воздухе, – с полудня на закате лежала лилово-дымчатая туча с длинным серым шлейфом. Там изредка сверкали золотистые сполохи, слышалось далекое глухое ворчание. Поля сторожко ждали спасительной перемены: вот-вот ударит громом, хлынет стремительный ливень, сминая томящую духоту.
По узкой полевой дороге, заросшей в обочинах жесткой курчавой травой, между стенами белесо-зеленой ржи, пробиралась коричневая «Волга». Ее вел мужчина в голубоватой рубашке с расстегнутым воротом. Крупные сильные руки с волосатыми кистями цепко легли на баранку. Рядом с ним сидел румяный, крепкий подросток лет двенадцати-тринадцати с таким же, как у мужчины, крутым росчерком бровей. Высунув руку в окно, он захватывал стебли ржи, пропуская в сжатой ладони сухо шуршащие колосья.
Поднятая машиной пыль наискосок уплывала в удушливый зной полей и надолго повисала в воздухе. Поля раскинулись во все стороны, а рожь тесно подступила к дороге, будто сдвинулась, застилая горизонт.
Лишь в полукилометре, как островок в хлебном море, вымахал дуб-одиночка, раскинувшись шатром густой зелени.
– Теперь скоро, Артемка, – сказал мужчина. – Видишь тот дуб? Он служил нам ориентиром, по нему находили дорогу на аэродром. Жив еще старик… Где-то поблизости и капониры были, да их теперь наверняка и след простыл, – все затерялось во ржи.
– Мы будем там? – спросил мальчик.
– А как же, затем и едем. И блиндажи поищем, может, и сохранился какой.
На взгорке мужчина остановил «Волгу» и вместе с мальчиком вышел на дорогу. Перед ними обширно раскинулась залитая солнечным блеском равнина. Она была так велика и просторна, что казалось, лишь нежная сиреневая дымка над полями мешает разглядеть, а есть ли у нее края. По золотистым хлебам бродили неторопкие полосы света и тени от яркого солнца и плывущих по небу белоснежных облаков, и поля на миг темнели и вновь преображались в ликующем сиянии. Вдали чернела зубчатая каемка леса, и над нею висела лиловая туча со своим дымчатым хвостом. В густую поросль прибрежных кустов и тростника вкрапились речные плесы, полыхая голубоватым пламенем. Чуть в стороне от реки вольно расположилось большое село, – сплошной зеленью садов окутало белые домики, темные аллеи двух улиц, водонапорную башню, шиферные кровли животноводческих построек.
Обняв за плечи мальчика, мужчина смотрел на равнину и, словно сверху, с самолета, видел ее от края до края и в то же время был тут же, в самом центре степи, среди ее пыльных дорог и парной духоты хлебов. Истомная, обволакивающая тишина застыла вокруг, только какой-то непонятный, еле улавливаемый звон отзывался в ушах, как будто звенел сам воздух.
– Вот мы и у места, – сказал мужчина и широко повел рукой, точно отдавал мальчику всю необъятную равнину. – Приволья сколько, Артемка, а!..
Дорога еще некоторое время вела их, словно по коридору, пока не кончилась рожь и не распахнулся простор осыпанной белой кашкой луговины перед селом. Широкая пыльная улица вобрала машину в себя, и в зелени садов и левад поплыли мимо дома. Но та же полевая тишина и та же пустынность не оставили их и в селе. Лишь проехав десятка три хат, они увидели стайку ребятишек на бревнах под нещадно палящим солнцем. Мужчина притормозил.
– Придется обратиться к древнему путеводителю, – сказал он.
Открыв дверцу, он подозвал ребят. Они сорвались с бревен и нестройной кучкой, обгоняя друг друга, подбежали к машине.
Белоголовый, загорелый дочерна, худой и длинноногий мальчишка в синих трусиках спросил:
– Вам чего, дяденька?
– Скажи-ка, дружок, где живет Анастасия Беломестная?
Мальчишка вздернул плечи, бегло переглянулся с приятелями.
– Эх ты, цыганенок! Что же ты, не знаешь, что ли? – с нетерпением сказал мужчина. – Как же так! Неужто никто из вас не знает Анастасии Петровны? Ну-ка, живей, живей вспоминайте, пацанята.
Ребята молча глядели на него.
– У нее есть дочь Надя, – подсказал приезжий.
– Так то, может, тетя Настя? – спросил щупленький мальчишка с юркими глазками.
– Ну, пусть будет тетя Настя.
– Так тетя Настя во-он там живет, – заговорил длинноногий, показывая пальцем вдоль улицы. – Видите большую березу? Против дома с шиферной крышей? Там она и живет… А вы сами откуда, дяденька?
– Много будешь знать – скоро состаришься, – засмеялся приезжий, захлопывая дверцу.
– Вот тебе, Артемка, еще один урок, – сказал он, когда машина тронулась. – Адреса имеют городские жители, а здесь все еще на деревню дедушке…
– Константину Макарычу, – весело подхватил мальчик.
– В том числе и Константину Макарычу… Но вот, кажется, тот самый дом.
Старая береза, опустив долу гибкие, тонкие ветки, похожие на зеленые косы, испятнала тенью белую стену хаты, и тени ее хватало еще на полдвора. За почернелым щетинистым плетнем высоко поднялись желтые блюдца подсолнухов и пирамидки розовых и ярко-красных мальв. На трех недавно окрашенных окнах свеже белели занавески, хата выглядела чисто, задорно, как молодица в хороводе. Задрав кверху ветки, в садочке зеленели вишенки, и среди них на длинной жерди торчал голубой скворечник. Мужчина откинулся на сиденье и, не снимая рук с баранки, зажмурил глаза. Так он и просидел минуту или больше, затем дернулся, точно от укола, и отрывисто сказал:
– Вылезай, Артемка.
Шагах в десяти от машины уже стоял тот самый длинноногий мальчишка. Цепочкой растянувшись по дороге, в поднятой машиной пыли, к нему подбегали отставшие.
– А-а, вы уже здесь, – протянул приезжий. – Ближе к машине не подходите, понятно? Я вас хорошо знаю, убытчики.
Мальчишки отошли подальше к плетню.
– Ну, пошли, – мужчина быстрым взглядом окинул окна, но ни одна занавеска не колыхнулась.
Звякнув щеколдой калитки, они зашли за плетень, пересекли дворик, поднялись на высокое крыльцо – впереди мужчина, за ним мальчик. На веревочном коврике возле двери, на самом солнцепеке, безмятежно растянувшись во весь рост, дремал рыжий кот. Приезжий слегка коснулся его носком ботинка, кот метнулся за хату. Мужчина решительно толкнул дверь.
В горнице было светло и просторно. Оранжевые солнечные блики исполосовали недавно вымытый и выскобленный до желтизны пол, расползлись по белой стене. Почти никакой мебели не было в комнате, – между окнами к стене придвинут стол, покрытый узорной скатертью, возле него несколько стульев да к дальней стене приставлен обтянутый коричневой клеенкой диван с продолговатым зеркальцем в деревянной спинке. Зато и на подоконниках, и на полу стояли банки с цветами, такими свежими и пышными, что видно было, как им хорошо в этой светлой и чистой горнице. Рядом с диваном темная ситцевая занавеска прикрывала ход в другую половину, за печью. Благостной тишиной, веселым и простым человеческим жильем веяло из каждого уголка.
Приезжий остановился на пороге, осторожно кашлянул.
– Кто там? – спросил звучный женский голос, и тотчас же, откинув занавеску, в горницу легко и быстро вошла темноволосая и чернобровая немолодая женщина в розовой блузке, с открытыми выше локтей крупными красивыми руками, в синей шерстяной юбке, туго обтянувшей слегка выпуклый живот и крутые бедра. Она несколько мгновений растерянно смотрела на вошедшего и вдруг вскрикнула сдавленным голосом:
– Коленька! Ты?
Лицо приезжего сделалось отчаянно пунцовым, затем краска медленно сошла с него, только брови проступили еще резче. Он отодвинулся в сторону, чтобы женщина могла увидеть мальчика, и сказал глухо:
– Здравствуй, Ната… Как видишь, я не один. Вот мой сын Артемка.
Она мельком взглянула на мальчика и снова перевела сияющие и широко открытые глаза на приезжего. Потом всплеснула руками и сразу прижала их к груди.
– Что же я, господи, совсем растерялась!.. Да вы проходите, Николай Устинович. Не стойте на пороге, нехорошая примета.
Приезжий с сыном, обходя ее, прошли к дивану, и она, стоя посреди горницы, медленно поворачивалась вслед за ними с плотно прижатыми к груди руками.
– Ну вот, – как будто облегченно сказал Николай Устинович, усаживаясь. – Еду отдыхать на юг. Еду, понимаешь, без путевки, и решил заглянуть к тебе, посмотреть, как живешь. Надеюсь – не прогонишь… Двадцать лет не был я в этих местах.
– Двадцать лет, – как эхо отозвалась она.
– Да ты что стоишь, Ната? Присядь, пожалуйста, поговорим, – сказал он.
Сложив руки на коленях, она присела на край стула, словно на минутку заскочила к соседке и не собиралась задерживаться. Николай Устинович, лишь для того чтобы не молчать, заговорил о том, что вовсе не узнал села, так изменилось оно с тех пор.
В селе полно новых домов под железом и шифером, прямо-таки коттеджи, а тогда два или три дома были под железом, не больше. Видно по всему, люди стали жить лучше, зажиточнее. И постройки в колхозе хорошие, из кирпича, раньше таких не было, он долго издали любовался ими.
– По-моему, ты прежде не здесь жила, – сказал он. – Или, может быть, я просто забыл.
– Нет, не забыли, не здесь, – сдержанно ответила она.
– И ты одна живешь?
– Одна. Мама померла восемь лет назад.
– А Надя?
– Надежда замужем. – Она снова мельком взглянула на мальчика.
– Она уехала?
– Нет, она за нашего, сельского, вышла.
Артемка скромно сидел в углу дивана, переводя взгляд с отца на женщину, с недоумением слушал их бессвязный, неинтересный разговор. Кто она такая, эта тетка Настя, или Ната, как называет ее отец? Чья она родия – отца или матери? Дома он никогда не слышал о ней. Почему отец говорит с этой теткой так, будто не знает, о чем еще надо спросить, или боится что-то услышать, расспрашивает о какой-то Наде, о которой он, Артемка, тоже никогда не слышал. Все это показалось ему странным и непонятным.
Непрочная ниточка разговора оборвалась.
– Что же я сижу, – вдруг поднялась Анастасия Петровна. – Гости приехали, а я… Вы же с дороги, и мальчик, видно, устал, кушать хочет.
– Ты не торопись, – поднялся и Николай Устинович. – Артемка, принеси, дружок, коричневый чемодан.
Когда мальчик вышел, Николай Устинович повернулся к Анастасии Петровне.
– Что ж мы так встретились, Ната, как чужие, – укоризненно сказал он.
Она быстро взглянула на него, хотела что-то сказать, но губы ее беспомощно дрогнули.
– Что ты, Ната! – Он схватил ее руку, чувствуя своей ладонью, как дрожат у нее пальцы. – Ты недовольна, что я приехал? Да?
– Я и сама не знаю, – потерянным голосом сказала она и глубоко по-детски прерывисто вздохнула. – Так сразу, ты хотя бы известил меня.
Он смутился и отвел глаза.
– Ты понимаешь, все получилось неожиданно. Собрался на юг, захватил сына посмотреть море и уже по дороге надумал заехать к тебе. Знаешь, Ната, вспомнилось все прежнее, и так потянуло сюда…
– Подожди, не надо, – она вырвала у него руку.
Анастасия Петровна через плечо глянула в окно. За плетнем она увидела машину и в ее открытой дверце согнутую фигурку Артемки, – двигая лопатками, он вытаскивал большой чемодан. Поодаль за ним внимательно следили мальчишки.
– Я ехал и боялся: вдруг прогонишь меня, – доверительно сказал Николай Устинович.
– С какой стати! – поспешно воскликнула она.
– Только подумать, сколько лет мы не виделись! Прошла вся жизнь, и твоя, и моя, и так незаметно, будто вчерашний день, промелькнул – и все.
Он снова требовательно взял ее руку и слегка пожал шершавую ладонь.
– И рука твоя прежняя, будто вчера держал ее…
– Ох, Коля, нет, – торопливо отозвалась она. – От прежнего ничего не осталось, и не ищи лучше. Не легко прошли те двадцать лет, оглядываться не хочется, да и поймешь ли ты. Сколько думок я передумала, сколько слез в одиночку выплакала, жизнь свою проклинала, – никто этого не видел, никто не знает… Да что теперь вспоминать, что жаловаться, прошлого все равно не воротишь.
Он ждал этого упрека и все же почувствовал, как в нем ворохнулась пронизывающая сердце жалость.
– Знаю, виноват перед тобою, очень виноват, – вдруг изменившимся голосом сказал он, испытывая острый стыд. – Я все-таки верил, что ты простишь. Но…
– Не говори ничего, – устало проговорила она. – Да и сын твой идет… Пусти руку.
2
К вечеру о приезде Николая Устиновича узнали многие в Рябой Ольхе. И те, кто еще помнил молодого летчика Червенцова, который квартировал когда-то в селе, пришли к Анастасии Петровне посмотреть, каким он стал, послушать, о чем расскажет.
Первым пришел Аверьян Харитонов, крепкий, бодрый старик с лимонно-желтой лысиной во весь череп. Он за руку поздоровался с Червенцовым и Артемкой, поздравил с приездом и уселся на табурете у окна, почти негнущимися черными пальцами свернул толстую папиросу из махорки и задымил, гулко, как в бочку, прокашливаясь. Анастасия Петровна выглянула из кухоньки, укоризненно сказала:
– Поменьше дыми, Аверьян Романыч, в хате и так нечем дышать.
Харитонов повернул к ней голову.
– Обожди гомонить, Настасия, – оскалил он желтые зубы. – Мой табачок не во вред, духовит, вроде одеколона, так и шибает в нос.
И в самом деле, в горнице так сладко и густо запахло степными травами, что Николай Устинович соблазнился и тоже закурил стариковского табаку.
Вскоре подошел еще один гость. Он прежде заглянул в кухоньку, пошептался о чем-то с Анастасией Петровной, улыбаясь, вышел в горницу и сел против Червенцова, опираясь ладонями о колени широко расставленных ног. Его маленькие глазки любовно обежали Николая Устиновича.
– Смотрите на меня и не припоминаете, а? – сказал он, поглаживая колени и выставив голый, с ребячьей ямкой подбородок. – Кто, мол, такой, с каких ветров. А ну-ка, припомните, я тогда бригадиром был…
– Да-да, что-то такое… – неуверенно ответил Червенцов, припоминая, что в прошлом могло связывать его с этим человеком, но ничего не отыскал в памяти.
– Ну как же! Вы еще трактор тогда наладили, а потом мы малость вспрыснули, с благополучным, так сказать, ремонтом, – с коротким смешком сказал пришедший. – Кичигин я, Василий Васильич. Припомнили?
– Да-да, – облегченно воскликнул Червенцов, хотя память вновь ничего не подсказала ему.
– С сынком, значит, припожаловали к нам. Истинно хорошее дело надумали. А надолго ли?
– Думаю погостить немного.
– Приятно слышать. Где же вы теперь обретаетесь?
– Все еще в армии, – ответил Червенцов.
– Полковник, верно?
– Нет, Василий Васильич, берите выше.
– Неужто генерала достигли?! – Кичигин вскочил со стула и обеими руками пожал руку Червенцова. – От души рад, дорогой Николай Устиныч, достойнейший вы человек… Рад, ей-богу, рад за вас.
Он повернулся к Харитонову и, кивнув головой на Николая Устиновича, сказал почтительно-ласковым голосом, словно Аверьян Романович и не представлял себе, кто такой Червенцов.
– Я хорошо помню, он всегда геройским был… Прямо-таки поднебесный орел.
Старик лукаво покосился на Кичигина и пустил в обе ноздри дым.
Но Червенцов уже не слушал Василия Васильевича, – он пристально, с лицом, скованным внутренним напряжением, смотрел в сени, где на пороге стояла молодая женщина в ярко-голубом платье, а за нею широкоплечий парень в фуражке с пятиугольником невылинявшего бархата на черном околыше.
Из кухоньки выглянула Анастасия Петровна.
– А-а, Надя пришла, – громко сказала она, оглядываясь на Червенцова.
Николай Устинович вздрогнул: так поразило его лицо молодой женщины неуловимо-памятными и своеобразными чертами. Перед ним стояла Настя, та, прежняя, двадцатилетняя, точно время оказалось не властным над нею.
Он поднялся с дивана, шагнул навстречу Наде, весь отвердевший и налитый непонятной тяжестью. Рукопожатие Нади показалось ему необыкновенно сильным для молодой женщины, при этом она с откровенной пытливостью заглянула ему в лицо своими ореховыми глазами с золотистыми искорками в глубине зрачков, и он поспешно отвел свой взгляд.
Артемка заметил, как отцова шея под расстегнутым воротником рубашки налилась темной кровью, и в лице его появилось что-то виноватое, пристыженное. Никогда не видел сын отца таким смущенными и растерянным, а тут на него что-то нашло: он как-то неуклюже топтался посреди комнаты, и было непонятно, куда пропала его уверенность в себе и четкая неторопливость в движениях. Артемке невозможно стало смотреть на отца.
– Надя, пойди-ка сюда на минутку, – увлекла Анастасия Петровна дочь.
Червенцов не вернулся к Артемке, сел рядом со стариком и снова закурил, обволакиваясь табачным дымом. Что-то странное происходило с отцом – только что курил стариковский табак и опять потянулся за своими папиросами. А ведь он дал слово курить пореже, не больше десяти папирос в день. Где же его обещание?
– Стальная броня? – указывая на фуражку глазами, спросил Николай Устинович парня, который пришел с Надей, догадываясь, что это и есть ее муж. – Вижу, недавно из армии?
– Прошлой осенью, – коротко ответил тот.
– Ага, понимаю. А где служил?
– В Закавказье. – Парень снял фуражку и положил на подоконник.
В это время Кичигин хлопотливо выдвинул стол на середину комнаты. Анастасия Петровна застелила его розовой хрустящей скатертью и принялась с помощью дочери носить из кухоньки закуски и расставлять на столе. Сквозь кисею табачного дыма Николай Устинович, сам того не замечая, неотрывно следил за молодой женщиной. Она двигалась по комнате свободно. Червенцов с жадностью замечал каждое движение Нади.
– Милости прошу, – пригласила хозяйка к столу. – Не взыщите, дорогие гости, что успела приготовить, – покушайте.
– Вот и хорошо, что в одночасье, по-военному, – весело одобрил Кичигин и, ускользнув в кухоньку, вернулся с пузатой бутылью, поставил ее среди стола. – Нашенской не погребуйте, Николай Устиныч, ей-богу, чистый коньяк по крепости.
Когда рассаживались за столом, Артемке не хватило места. Стали сдвигать стулья, усаживаться потеснее, и ему пришлось сесть не с отцом, а рядом с Василием Васильевичем, на углу стола. Кичигин обнял за плечи, притиснул к себе осторожно сопротивляющегося мальчика.
– Садись, садись поближе, места хватит, – дружелюбно ворчал Кичигин. – Ишь какой крепенький да сильный парнишечка. Вот погоди, вырастешь, летчиком заделаешься, а потом, как твой папаша, и генералом станешь. И мы на тебя порадуемся вместе с папашей.
– Ему там неудобно, пусть ко мне пересядет, – захлопотала Анастасия Петровна.
– Ничего, в тесноте, да не в обиде, правда, паренек? – мягко потискивая Артемку, сказал Кичигин.
Николай Устинович и не взглянул на сына.
Пока ехали сюда, мальчик испытывал радостное и непривычное ему состояние общения с отцом, как со сверстником. В дороге они говорили обо всем: о войне и о том, почему у немцев не было партизан, о футбольной команде «Зенит» и о том, что Артемке лучше поступить в спортивную школу, чем в музыкальную, как хотела мать, – и во всем у отца с сыном было согласие. А теперь отец точно отодвигался от него все дальше и дальше, забывая о нем среди чужих людей, и Артемке сделалось беспокойно на душе. С внезапной обидой он исподлобья наблюдал за отцом, тем более что на мальчика никто не обращал внимания.
Смеясь и чокаясь так, что звон стоял над столом, гости пили за Николая Устиновича, за хозяйку, наперебой желали и ему и ей самого хорошего. С пузатой рюмкой в руке Анастасия Петровна горделиво кланялась, поворачивая ко всем смеющееся лицо, и щеки ее горели молодым жарким румянцем. Вдруг она выпрямилась, залучившимся взглядом посмотрела на Николая Устиновича и с бесшабашной удалью протянула рюмку через стол.
– Выпьем, Николай Устинович, выпьем с вами за… за бабье счастье, за мою радость, – вздохнув полной грудью, сказала она и неуверенно улыбнулась.
– Во-о, верно! Вот это люблю! За вас, милушки, – упоенно выкрикнул Аверьян Романович и, кулаком раздвинув на стороны усы, живо опрокинул в рот стопку.
Червенцов, улыбаясь вздрагивающими губами, протянул свою стопку, и Анастасия Петровна звучно ударила о нее рюмкой, выплескивая на пальцы водку.
Николай Устинович пил мало: пригубит стопку и отставит в сторонку. Он часто взглядывал на сидевшую напротив Надю и улавливал на себе ее настойчивый, с пытливой любопытинкой взгляд. Ей сейчас было почти столько же лет, сколько ее матери, когда он встретился с нею, и она была так же хороша, как и Настя в ту пору. В ней доверчиво и простодушно раскрывалась готовность к счастью. Лишь Надин муж хмурился, сводя брови в линейку, сумрачно и непонятно молчал, когда все веселились. А беседа за столом становилась громче, и голос Кичигина подавлял другие голоса.
– Рад за тебя, Настенька, дождалась ты награды жизни, – почти кричал Василий Васильевич. Он уже не заботился об Артемке и, вольно расположившись на своем месте, оттиснул мальчика на самый край стола и часто толкал отставленным локтем. – Не всякому это дано.
– Все сама Настюша, все сама. Я-то ее вот с каких лет помню, – отозвался Аверьян Романович, приподнимая руку над столом. – Она с малолетства старательная.
– Правильно, все сама. В рассуждении счастья сама кузнец своей жизни, – уверенно ораторствовал Василий Васильевич. – По прежним временам, останься баба без мужа – каюк, самая разгоремычная судьба, хоть по кусочкам под окнами ходи. Ни тебе подмоги, ни тебе совета, того и гляди, как бы кто не обидел. А Настя не поддалась трудностям, всего сама достигла.
– Ты вроде сватать собрался, Василий Васильевич, все хвалишь, – засмеялась хозяйка.
– А как же не хвалить тебя! Смотри, какой дом отгрохала, дочь вырастила и замуж выдала. Каково это, а! Я и говорю, не всякому это дается… И сама еще ягодка.
– Уж ты скажешь! – Краска прихлынула к щекам Анастасии Петровны, однако вспомнив о своих обязанностях хозяйки, она принялась угощать Червенцова. – А вы, что же, плохо кушаете, Николай Устинович? Это он заговаривает вас, вы поменьше слушайте. Возьмите холодцу, яишенки отведайте.
– Ничего, ничего, – поспешно закивал головой Червенцов. – Ты не беспокойся.
Николай Устинович сам себе напоминал сейчас человека, которого как бы втиснули в узкий контейнер, – куда не повернись – теснота, плечи и локти натыкаются на стены, на острые углы. Близость Нади возвращала его к одной и той же мысли: как же ошибся он, полагая, что все поглощено годами и ничто не нарушит теперь установившегося в его жизни равновесия. Он не был готов к встрече с Надей и, как только увидел ее, почувствовал себя сбитым с толку, и это угнетало его. Не таким представлялось ему первое знакомство с дочерью, но мать ничего не сделала, чтобы хотя бы на время оттянуть встречу, ведь он даже не успел сказать правду о цели своего приезда. Вот сидят мать и дочь, и любому стороннему человеку с одного погляда приметно их родство. Только у матери с годами глаза посветлели, их желудевый оттенок перешел в светло-табачный, а у дочери глаза темные, как старый гречишный мед, в закатном свете они кажутся совершенно черными и чем-то напоминают Артемкины. И ничего странного в этом нет, – что-то должно быть и от него. Неужели никто не замечает этого? Николай Устинович взглянул на сына. Облокотившись на край стола, Артемка с безразличием чертил что-то пальцем по скатерти, не прислушиваясь к общему разговору. Вот он поднял голову, из-за спины Кичигина посмотрел на окна и сладко зевнул. Нет, глаза у Артемки другие, но овал подбородка и надбровные дуги Нади были точь-в-точь повторены в мальчике. Даже удивительно, как природа из бесконечного множества сочетаний расчетливо подбирает родственные. За столом сидят брат и сестра, и никто, кроме него и Наты, никто не знает об этом. Вот бы подняться вдруг и сказать: смотрите, это же брат и сестра, разве вы не замечаете? Ну и переполох был бы!
Но Николай Устинович знал, что не способен сделать этого, – он испытывал состояние человека, которому назойливо напоминают его вину. Делал это Василий Васильевич. Оказавшись за щедрым столом, он не мог не отблагодарить хозяйку и, перегибаясь всем туловищем к Червенцову, почти вдохновенно рассказывал:
– Я, бывало, погляжу на нее, как она, сердечная, бьется, сердце кровью исходит. Мужика-то на фронте убили, осталась одна, а на руках мать-старушка да дитенок малый, и помочь некому. Легко ли! Иной раз скажу своей бабе: «Видишь, каково Настюшке достается, а не ломится, вот, мол, характер настойчивый». При таких обстоятельствах жизни другая женщина не то чтобы в свое положение войти, а махнет рукой – пропади ты все пропадом. А Настюшка все перемогла… Я вот про себя расскажу. Ну, не взяли меня на фронт по причине расстройства моего организма, но работать не ленюсь, норму завсегда выполняю, к водке приверженности нет. А вот такого дома, как Настюша, до нынешнего дня не поставил, так сказать, мешают ограничения по части разных материалов. Тут она превыше меня, мужика, оказалась. Значит, есть у нее талант на это самое. И опять-таки по обстоятельствам домашних условий, как она без мужика осталась, а хозяйство держит в исправности: корма там, скотина и прочее по дому, – и ведет себя аккуратно. Не зря наши партийцы секретарем выбрали, достойна, значит, тому…
Кичигин оказался презанятным говоруном, однако его словоохотливость начала досаждать Николаю Устиновичу: было в его разглагольствованиях нечто такое, что можно было принять за намек. Червенцов, не дослушав, отвернулся от него и поднял стопку:
– Ната, что слышу? Хочу выпить за твои успехи.
Она засмеялась.
– Василий Васильич, не сплетничай за столом.
– Настя, я, ей-богу, ничего. Поясняю насчет разных обстоятельств, – возразил Кичигин.
– Слышала, краешком уха слышала, – погрозила ему Анастасия Петровна. – Ну что ж, выпью и за вас, Николай Устиныч… Налейте и мальчику, пусть и он за наше счастье выпьет, горьким за сладкое.
Все засмеялись, потянулись чокаться, только Надя, с рюмкой в руке, прислонившись к плечу мужа, что-то озабоченно шептала.
– Ну, а вы что же, Надя? – требовательно спросил Николай Устинович. – Ваш муженек чем-то недоволен, все хмурится, а?
– Ничего подобного! – поспешно ответила Надя.
– Ох, девка, девка! – негромко отозвалась мать. – Хочешь, скажу, почему твой Федор дуется.
– Не нужно, мама, рассержусь! – вскрикнула Надя, порываясь вскочить.
Федор скупо улыбнулся.
– Пустяки все, внимания не обращайте.
Но и от улыбки лицо Федора не ожило, она не связалась с другими его чертами, а в угрюмо сведенных бровях по-прежнему гнездилась хмурь. «Ну и зятек у меня, – насмешливо подумал Николай Устинович. – Видать, тяжеловат характерцем».
Расходились поздно, и прежде всех исчез Аверьян Романович, за ним поднялся и Кичигин. Однако он не ушел, а отвел Николая Устиновича к окну и принялся что-то рассказывать приглушенным голосом. Надя помогла матери убрать со стола и тоже ушла с Федором. Василий же Васильевич все не покидал горницу, мешая хозяйке и гостям. Налитый сном Артемка не дождался, когда отец закончит разговор, и подался в сарай, где на свежем сене было постелено ему и отцу.
Но вот наконец отец и Кичигин вышли на крыльцо и остановились. Словно провожая их, в доме помигал и потух свет. Артемка слышал, как Василий Васильевич рассказывает о каком-то голом срубе, просит навестить, чтобы самому убедиться в чем-то, и никак не мог вникнуть в ускользающий смысл слов Кичигина. Отец коротко отвечал: «Хорошо, что могу – сделаю». И снова бубнил голос Василия Васильевича, и отец отвечал уже нетерпеливо: «Но я же сказал».
Мальчик так и не дождался отца и уснул под дремотный шорох соломы на крыше.






