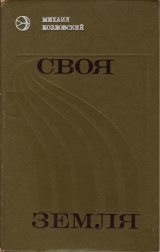
Текст книги "Одна неделя в июне. Своя земля"
Автор книги: Михаил Козловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
– Кого же ты обманул?! – удивленно пожал плечами Владимир Кузьмич.
– А никого, – невинно вздохнул Климов. – Отвел от себя нагоняй – и то хорошо, кукурузу все равно не поправишь. А Логунову что, он через неделю о моей кукурузе и не вспоминал, мало ли у него дел.
Владимир Кузьмич подумал, что по-своему Климов прав и не имеет смысла спорить с ним, однако снова спросил:
– Ну, а на моем месте ты как поступил бы?
Глаза Бориса Сергеевича зажглись добродушным весельем.
– Ты меня лучше не пытай, в таких делах я не советчик. Скажешь потом: скидкам учу. Ты, дорогуша, своим умом живи, не занимай у других.
С председателем колхоза «Восход» Владимир Кузьмич сошелся ближе, чем с другими своими соседями. Непонятно, чем он привлекал людей, то ли грубоватой общительностью, то ли своим неизменным добродушием, однако никто не допускал, что он так прост, и все находили его прижимистым, но свойским мужиком. В прошлом бригадир тракторного отряда, да и то самоучка, из первых сельских трактористов, медленно поднимаясь со ступеньки на ступеньку, Климов за долгие годы председательства пообтерся, посолиднел, приобрел тот общий облик низового руководителя, любезный большинству начальства, когда рядом с осанкой самовластности незримо присутствует и покорность: я, мол, тверд в своей власти, но уважаю авторитет старших и ни на минуту не сомневаюсь в нем. Но порой его точно прорывало, и он шел наперекор, не боялся высказать свое мнение, когда другие колебались, и отстаивал его с упорством отчаяния. За этими его поступками угадывался ум хитрый и решительный, дотошно взвешивающий все обстоятельства. Его душу Владимир Кузьмич старался понять лучше, чем души других, и никого из председателей не хотел иметь другом, как Климова.
Только на улице, открывая ключом дверцы своей машины, Борис Сергеевич как бы между прочим сказал:
– Ты все-таки учти, ни один колхозник умным тебя не назовет, понял? А тебе жить с ними. Выговора и все прочее – это наше, людям до них нет дела.
5
Конечно, ему жить с ними, с их судьбой, значит, не все равно, как вся эта история скажется на его взаимоотношениях с людьми. Почти до ощутимости он представлял, как это произойдет. Вот он отдаст приказание бригадиру подготовить свекловичные сеялки, и тот удивленно вскинет глаза или, еще хуже, спросит, в чью головушку пришла эта замечательная по нелепости мысль. Собрать членов правления и совместно решить, как поступить, – спрос все равно с него: ты руководитель, тебе даны указания, ты и отвечай. Нет, никогда еще он не испытывал такого состояния, когда его существо как бы раздваивалось, – как ни крутись, приходится выбирать между «да» и «нет», и он запутался между этими двумя ответами, потому что в каждом была частица его души. Ну, сошлется на решение бюро райкома, все же колхозники станут потихоньку – а кто посмелее, и в глаза – посмеиваться над ним, и не только его, но и Протасова, и Гуляеву, да и бюро в целом сочтут за людей беспечных, равнодушных и к земле, и к людскому труду. Ничего не выиграет он, лишь других людей выставит с невзрачной стороны.
Один случай, свидетелем которого он был несколько лет назад, в ту пору, когда работал в райкоме партии, глубоко врезался ему в память, словно не заплывающая временем зарубка. Владимир Кузьмич однажды попал на собрание в колхоз, где председательствовал бывший директор мельницы, человек с выдумкой, или, как отзывались о нем мужики, «с царем в голове». По чьему-то совету, а может быть, в ненасытной жажде ломать привычное, он посеял суданку, невиданную прежде в округе, не пожалел добрый кус пашни. Напористо и весело верил он в свою удачливую звезду, но тем жестче сказались последствия: траву убрали – потом оказалось не вовремя, – на скотном дворе сложили огромные скирды, а коровы мычали от голода у набитых сеном кормушек. Некогда поверив ему, люди теперь с большим ожесточением попрекали за ошибку. Кто-то из молодых призвал взрастить кокосы и хлебное дерево и печеными плодами сдавать заготовки, а председатель не смел ответить на эту насмешку и поднять своей обесславленной головы… Нет, что угодно, только не такой позор!
– Я тебя до конторы довезу, – сказал Климов, когда впереди, на перекрестке дорог, замаячил путевой указатель с надписью «Заря мира» на стрелке.
– Не надо, я на повороте сойду, – отвлекаясь от неприятных воспоминаний, ответил Владимир Кузьмич.
– Так тебе километра четыре колтыхать, а на машине – за пять минут.
– Ничего, пока дойду, ветерком обдует, и все будет в порядке.
– Ну, смотри, своя голова – барыня.
Они расстались на повороте, и Ламаш полевой дорогой направился в Долговишенную.
Проселок выбежал на взгорье, зажатое раскустившейся сизо-зеленой рожью. Она уже поднялась выше колен и упруго сопротивлялась ветерку с еле слышным шорохом, похожим на тот звук, который услышишь, если прислонишь к уху морскую раковину. Далеко справа, за просторной луговиной, среди пышных, до самого комля одетых в молодую зелень ракит, речные плесы взблескивали зеркальным сиянием, и Ламашу казалось, что даже отсюда он различает ветреную рябь на воде. В небе тихо и торжественно плыли белогрудые, сияющие снежной свежестью облака и, словно одним своим величавым движением, смывали все прошлые горести. Богата и щедра была эта безотказно родящая земля! Она отдавала людям все, что имела, точно мать ребенку, и даже благодарности не требовала в ответ… «Здравствуй, небо, здоровье да воля, здравствуй, раздолье широкого поля!» – сказал Владимир Кузьмич со сладостно ущемленным сердцем запомнившиеся с детства стихи и, сняв фуражку, помахал над головой: он почувствовал себя так, будто возвращался домой после долгой томительной отлучки.
Однако возвращение было нерадостным: от уверенности в своей правоте уже ничего не осталось, и он не мог не повторять в памяти весь свой сегодняшний позор. «Я верю», «Мы сделаем», черт возьми, какие слюнтявые слова произносил он там! И надеялся, что ему поверят. Он возмущенно выругался про себя.
Свернув на узкую тропку во ржи, он пошел в сторону от дороги, к одинокому старому дубу, который издали манил под свой огромный зеленый шатер. Подольше побыть одному, ничего иного не хотел Ламаш в этот час. Как знакомы, как хороши были эти сытные запахи степи! Вбирай их в себя полной грудью, как целительный напиток. Он шел спорым шагом среди тишины, простора и зноя полей, и его дыхание рассеивалось в их дыхании. Тропка пересекла другой проселок, – им пользовались не часто, в середине колеи успела подняться гривка разнотравья с веселой желтизной ромашек. Владимир Кузьмич вдруг понял: ноги сами по себе, незаметно для него, несли его к свекловичному полю.
Ровные цепочки растений, распластав по рыхлой земле сочно-глянцевитые листочки, нежились в благостном тепле. Владимир Кузьмич проходил рядок за рядком, и на каждом густо сидели зеленые близнецы, и, казалось, зной ничуть не беспокоил их: так весело, задорно взглядывали они в небо. Вас бы позвать в свидетели, мои союзники! Привести бы сюда Георгия Даниловича и Гуляеву, посмотрите, вот они, наши доказательства, наши доводы! Где еще с такой охраной, с таким бережением холят растеньица – Владимир Кузьмич про себя продолжал спор с секретарем райкома, – вот тут-то и вызревает честь района, полюбуйтесь! И не то еще будет, когда здесь пройдут машины и под каждый росток вольется животворящая влага. Растите в тепле, чистоте и сытости! Ну, а дальше посмотрим, как быть, хозяева-то земли мы. Как бы широко ни раскрывался горизонт и как бы далеко оттуда ни заглядывали, а у земли виднее, здесь обостреннее постигается связанность с ней. Как-никак он представлял добрые шесть-семь сот долговишенцев, прочно сроднившихся с землей. Она стала для них всем: и счастьем, и горьким проклятьем, и уверенностью в лучшую жизнь.
Солнце, опираясь на сиреневую тучку, низко висело над лесом, когда Владимир Кузьмич выбрался из полей. Подходя к колхозной конторе, он издали приметил агронома Варвару Власьевну и секретаря партийной организации Дубровину. Рядышком сидели они на траве и, близко склонившись головами, что-то рассматривали. «Вот, кстати, и они, одним махом решим дело», – подумал Владимир Кузьмич. Пока от перекрестка дорог добирался до села, у него вызрела утешительная мысль: никакого преступления он не совершит, если не посеет эти тридцать гектаров, и от этого установилась какая-то холодная ясность. В конце концов какой это обман, свеклы все же будет больше, чем потребовали от колхоза, и без этих гектаров. Куда хуже, куда сквернее, если утратится вера людей в свое право распоряжаться землей.
Ну, влепят еще один строгач, ну, может быть, на пленуме обсудят его поступок, вот и весь риск. Но ему станет легче смотреть в глаза колхозникам, все ж таки не поступился их доверием. Над землей глумиться нельзя, это ж все равно что плевать в лицо матери.
Владимир Кузьмич сзади подошел к женщинам. Увидев его, они сполошно подскочили, словно застигнутые врасплох. Варвара Власьевна держала в руке моментально скатанный в трубку журнал.
– Дайте-ка взглянуть, чем вы так интересовались, – сказал Владимир Кузьмич, протягивая руку.
Агроном отдала журнал, покосившись на Дубровину. Обе внезапно расхохотались.
Женщины, оказывается, рассматривали журнал мод, он и не предполагал, что такие вещи могут существовать. Перелистывая его, Ламаш натыкался на кокетливо приодетых красавиц, подобных той девчушке на каблучках, что встретил в городе, в позах, которые и не подсмотришь в жизни. Однако у него промелькнуло в мыслях, что недурно показать журнальчик Нине, пусть она подберет себе что-нибудь подходящее, не все же носить простенькие платьица. Чем же она хуже той городской дивчины с белой сиренью? Смотрите, они не только о модницах заботятся! Комбинезон, рабочий костюм для женщин. Черт возьми, не плохо завести такие, а то девчата на фермах ходят такими растрепахами, что глядеть на них совестно.
– Обе вы страшно нужны, – сказал Владимир Кузьмич, возвращая агроному журнал. – Давайте заглянем ко мне на несколько минут.
В своем кабинете он усадил женщин на стулья, сам же присел на железный ящик, который торжественно именовался сейфом. В предвечерний час, на заходе солнца, в комнате уже было настолько темно, что лица едва выделялись на белой стене: пышнолистый клен за окном не пропускал ни одного луча.
– Варвара Власьевна, если сейчас посеять свеклу, будет ли толк? – спросил Ламаш, снизу заглядывая в лицо женщины.
Агроном скупо повела плечами.
– Странный вопрос! Каждый специалист скажет – поздно. Какая теперь свекла, если просо посеяли! Недели две назад – другое дело.
– Значит, твердо нельзя?
– Вы точно экзаменуете меня, – она вся как-то трепетно вспыхнула. – Конечно, нельзя.
– Ты смеешься над нами! – удивленно сказала Дубровина. – Что это значит, я не понимаю!
– А то, что в райкоме предложили досеять те самые тридцать гектаров, – твердо, раздельно сказал Владимир Кузьмич. – Вот я и спрашиваю: будет толк или нет.
– Ты же сам знаешь! – с досадой воскликнула Дубровина. – Кому все это нужно! Почему ты там ничего не объяснил?
– Почему, почему, – грубовато ответил Владимир Кузьмич. – Есть, между прочим, партийная дисциплина, Евдокия Ефимовна. Что же я, на рожон полезу?
Варвара Власьевна поднялась, поняв, что начинается разговор, при котором она, возможно, окажется лишней.
– Вы уходите? Если можно, оставьте ваш журнальчик до завтра, – вдруг попросил Владимир Кузьмич.
Варвара Власьевна засмеялась: до того необычной показалась просьба Ламаша.
– Возьмите, он мне вовсе не нужен, – сказала она и, остановившись около двери, пожелала: – Выбирайте костюм помоднее, теперь носят с короткими бортами.
Но Ламаш не ответил на шутку и, положив журнал на стол, сильно придавил его ладонью. Было не до смеха, да он и сам не понимал, зачем понадобился ему пестрый журнальчик, Нина и без него могла взять его у Варвары Власьевны.
– Хочешь, я сама поеду к Георгию Данилычу? – предложила Евдокия Ефимовна. – Я постараюсь убедить, что сеять поздно, он должен понять.
– Схлопочешь себе выговор, только и всего, – рассердился Владимир Кузьмич. – Мало того – мне досталось, тебя на это же тянет. Да?
– Но что же делать? – встревоженно сказала она. – Нельзя впустую сеять.
– А черт знает! – Ламаш подошел к окну и, откинув занавеску, долго смотрел на темные вершины старых ракит в переулке. Из машинного двора долетало урчание трактора, где-то женский голос звал козу: «Зуль, зуль, зуль». От этих привычных звуков как будто тягостнее сделалось на душе. Так просто и так ясно думалось в поле, а вот заглянул в глаза человеку, соратнику, единомышленнику и, странно, начал ощущать в себе какую-то скованность, стыд, что ли? Он подумал о том, что никакой подлости, в сущности, не делает, а все ж брезгливость поднялась в нем, словно вымазался в чем-то клейком.
– У меня два выхода, Евдокия, – глухо сказал Владимир Кузьмич, чувствуя спиною ее напряженный, ожидающий взгляд. – Выполнить указание – и пусть, черт побери, вырастают сорняки, или же сделать вид, что выполнил, а там поступать по-своему. Больше я ничего не придумаю.
– Ты забыл про третий, – откликнулась она.
– Это какой же? – быстро повернулся Ламаш.
Он не мог различить выражения ее лица, но ему показалось, что Евдокия Ефимовна с заботливой настороженностью смотрит на него, как мать на ребенка, который неуверенно делает свои первые в жизни шажки.
– Снова пойти к Георгию Данилычу и объясниться с ним, – сказала она. – Не может быть, чтобы он не разобрался, надо все, все рассказать ему.
– Ну-у, – спокойно, чуть злорадно усмехнулся Владимир Кузьмич. – Тех же щей, да пожиже влей. Он и слушать теперь не станет, раз я тогда не смог толком объяснить. К тому же, знаешь, он уезжает на курорт, придется обращаться к Завьялову, а уж от него я не жду ничего доброго.
– Так что же делать? – упрямо повторила она. – Я не вижу иного выхода.
Непонятно почему, но Ламашу хотелось, чтобы Евдокия Ефимовна сама предложила поступить так, как он надумал по дороге в село.
Значит, что-то не совсем чистое содержалось в его мыслях, если он не решается высказать их Евдокии, которая близка ему, как сестра, с которой говорить так же необременительно, как с Ниной. Значит, он не уверен в справедливости своих заключений, если ждет, чтобы кто-то другой назвал их.
Он сел рядом с ней, чуть склонив голову, пытаясь заглянуть в глаза.
– Я решил не сеять, а в сводке указать, что посеяно. Когда Протасов вернется, легче будет объяснить, тогда все налицо окажется, урожаем будем доказывать.
– Что ты в самом деле, Владимир Кузьмич, – сказала она неожиданно в приказном тоне. – Подумай, что говоришь! А где же твоя партийная совесть?
– Партийная совесть! – рассерженно вскрикнул Ламаш. – Партийная совесть – это все силы для того, чтобы оправдать доверие! Ничего не жалеть, понимаешь… Знаю, я прав, время покажет, но доказать не мог. А совесть моя чиста, я обязан сопротивляться…
Несколько минут они молчали, стараясь не смотреть один на другого, – где-то в глубине души каждый из них испытал такое чувство, как если бы оба сделались соучастниками постыдного дела. Владимир Кузьмич вытащил из кармана папиросы, но пачка оказалась пустой, он смял ее и бросил в угол.
– Ох, нехорошо это, и не знаю, что сказать тебе, – тихо произнесла Евдокия Ефимовна. – Вдруг все откроется, какой позор тогда…
– Ты не беспокойся, Евдокия, я все возьму на себя, – быстро сказал Владимир Кузьмич. – Если узнают, ты тут ни при чем, так и скажу… Да никто и знать не будет, посеяли или нет, проверять не станут.
– Не в этом дело, – вздохнула она с состраданием к нему. – Как так, обмануть райком… самому себе наплевать в лицо.
– Ну, какой же это обман? – поднялся Владимир Кузьмич. – Они не верят в наши возможности, в наши силы, в то, что мы сделали, а нам нужно доказать. И докажем! Разве ты не веришь? Какой же это обман, скажи мне. Кровь из носу, а надо, чтобы двести пятьдесят центнеров были. Мы обязаны зажечь людей, Евдокия, поднять их, – вот где наша партийная совесть, наше партийное поведение. За это мы отвечаем перед всеми, и перед райкомом тоже. Ты сама знаешь, сколько люди сделали, как они старались, не сравнишь же с прошлым годом. Я был нынче на свекле, хоть ни одного дождя не выпало, а хороша. Еще бы дождик – и у меня тяжесть с души свалится.
Голос его звучал твердо, освобождение. Одним усилием он сбросил с себя нерешительность, обретая силу и ясность от того, что все для него встало на свое место.
Он щелкнул выключателем, и комнату залил белый свет, ослепляя и возвращая к обыденности. Владимир Кузьмич прошел за свой стол и, перебирая накопившиеся за день бумаги, сказал:
– Только это между нами. Договорились? Не хочется, чтобы до времени болтали.
– Хорошо, только все это как-то… Ну, ладно, – проговорила она, вставая.
У двери Евдокия Ефимовна остановилась вполоборота к нему и, глядя в сторону, сказала:
– Что-то нужно сделать с Ерпулевым. Ты слышал, что он натворил?
– Нет, а что?
– Нынче кукурузная сеялка испортилась, Ерпулев не стал налаживать, а ушел с поля и напился. Почти весь день сеяльщики бездельничали. Санька Прожогин еле-еле к вечеру наладил. В который раз так-то. Я завтра собираю бюро, хватит прощать ему да потакать.
– Ну что ж, я согласен.
– Так помни, часов на семь вечера.
6
Очнувшись на заре, Ерпулев увидел себя на неразобранной постели, в комбинезоне, только сапоги валялись на полу голенищами в разные стороны. Он приподнял голову с наперника и ощутил внезапную тяжесть в затылке, словно там переливалась свинцовая кашица. Взглянул на ходики, они стояли: гирька опустилась до самого пола.
– Нюшка! – негромко позвал он и прислушался, но жена не отозвалась.
– Нюшка! – крикнул громче.
Тишина во всем доме.
– Не разбудила, выдра, проспал, – сказал он жалким голосом и опустил ноги с кровати, но тут же со стоном повалился назад: все тело взбунтовалось против него, и каждое движение отзывалось тупой болью в затылке. Неразборчиво, точно в дыму, расплылся в памяти вчерашний вечер, с кем-то, обнявшись, шел по улице, о чем-то спорил, потом, кажется, подрался. Обрывки воспоминаний выступали из мрака и уносились раньше, чем он успевал схватить их. Как очутился дома, на кровати, не мог припомнить, в голове зыбко.
Все-таки пора подниматься. Он сел, дотянулся до сапога, надел его, сунулся за другим, но раздумал и продолжал сидеть, бессмысленно уставясь на окно, завешенное пожелтевшей на солнце газетой. Из репродуктора слышался женский голос, тихий и ласковый: «А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянской хижине. Целые дни она играла зеленым листочком…»
«Ушла, черт, не разбудила», – снова подумал Ерпулев о жене и надел другой сапог.
В сенях хлопнула дверь, глухо звякнули дужки ведер: вернулась жена. Ерпулев поднялся, перед зеркалом расчесал спутанные волосы. Плюнуть бы в зеркало на свою физиономию, такая помятая, страшная, глаза одичалые, с выпуклыми кровянистыми белками. От уха по щеке протянулась лиловая царапина, он потрогал ее и удивился: не болит.
Нюшка заглянула в горницу, из-под шалашиком повязанной косынки сурово оглядела мужа. Он с независимым видом, будто ее взгляд не относился к нему, поднял с пола кепку, ударил о колено, чтобы выбить пыль.
– Поднялся, вражина, у-у, глаза б мои не видели тебя, и когда же зальешься своей водкой! – махнула Нюшка хвостом юбки и скрылась в кухне.
Ерпулев показал ей язык.
«Порой ветер колыхал розовые кусты, распустившиеся возле дома, и спрашивал у роз: „Есть ли кто-нибудь красивее вас?“» – журчал женский голос из репродуктора.
Дымчатая кошка вылезла из-под стола и, задрав хвост, потерлась о сапоги. «Брысь, ведьмачка!» – сердито крикнул Ерпулев.
– С добрым утром, товарищи колхозники! – вдруг смял женский шепоток в репродукторе бодрый мужской голос. – Всем доброе утро, только не тебе, Андрей Абрамыч…
Ерпулев изумленно повернулся к репродуктору: не ослышался ли, какой черт вспоминает его? А голос гремел:
– Опять ты нализался, бессовестная душа! За голову держишься – болит. А за колхозные дела она у тебя не болит? Аль наплевать на них, некогда, еще не вся водка вылакана. Люди на работу вышли, бригадира ждут, а он после вчерашнего никак не очухается, про опохмелку мечтает. Посмотри на себя, кем ты стал, вовсе обличье людское потерял…
Нюшка выскочила из кухни, испуганно остановилась у двери, прижав руки к груди и закидывая голову назад, будто ей переломило поясницу. А в репродукторе снова зашелестел вкрадчивый женский голос:
«И вот рано утром королева пошла в свою мраморную купальню, всю разубранную чудесными коврами и мягкими подушками…»
– Пропил ты свою совесть, Андрюшка, да и стоит она поллитровку всего! – опять загремел голос, и какие-то знакомые нотки послышались в нем Ерпулеву. – Люди на работу, а ты за бутылку. Будет ли конец этому?
Ерпулев тяжело задышал, и руки у него начали мелко, противно дрожать.
В страшной тишине – дунь ветерок, и то показалось бы громом – зашелестело в репродукторе:
«Королева бросила жаб в прозрачную воду, и вода тотчас же стала зеленой и мутной…»
– Достукался, паразитина! – вскрикнула жена странным, верещащим голосом. – Господи! Навязался ирод на мою шею, алкоголик несчастный! На весь район ославился, глаз теперь никуда не покажешь.
– Замолчи, дура! – крикнул Ерпулев, задохнувшись и мертвецки бледнея. – Это Санька, сволота, разбрехался, больше некому. Голос его, чую… Я этого так не оставлю! Я ему, гаденышу, морду разворочу…
Он заметался по горнице, натыкаясь на стулья и отшвыривая их, не понимая, что ищет и что ему нужно. Он знал лишь одно: его обидели, обидели жестоко, несправедливо, и кто же? Санька Прожогин, сопляк, которого он за уши тянул, трактористом сделал, да еще каким! В ноги кланяться должен, молиться на него, а он, подлец, что сделал! Вот она благодарность людская! Захоти он – и не видеть бы Саньке трактора, в прицепщиках так и застрял бы на веки вечные.
Нюшка испуганными глазами следила за ним, не решаясь ни плакать, ни ругать мужа.
Избегая взгляда жены, налитый гневом, Ерпулев выбежал во двор, выкатил за ворота мотоцикл и, зорко оглядывая улицу, – пуста ли она, и не видит ли кто его, – бешено погнал в поле. Упругий ветер давил на грудь, забирался в рукава, освежая тело. Несколько рассеявшись, Ерпулев стал думать, что же произошло. Как Санька добрался до радиоузла, кто позволил кричать ему по радио оскорбительные слова? Ну, ладно, пусть Андрей Абрамыч виноват, пусть дал промашку, но разве можно так запросто, как на мужичьей перебранке, поносить его на все село, где там село, – на весь район, поносить его, бригадира, коммуниста! Пусть он виноват, но не Саньке судить. Есть партийный секретарь, есть бюро, может вмешаться райком и наказать. Терпеть же от мальчишки, молокососа, – ни за что! Работать нельзя, если каждый щенок будет втаптывать в грязь перед людьми.
Гнев и обида распирали Ерпулева, он уже не чувствовал ни вялости, ни бессилия, все его существо налилось яростной волей. Стиснув зубы, он гнал мотоцикл, злобно косясь по сторонам, десятки мыслей, злых и решительных, проносились в мозгу. Когда вдалеке завиднелась будка полевого стана с линялым флажком на шестке, он сообразил, что едет наобум, не туда, куда нужно, и, сделав широкий круг на клеверище, повернул назад, к кукурузному полю, – Санька должен быть там. И снова за его спиной стремительно вырос и растянулся по полю серый, расплывающий гребень пыли.
На черной пахоте попыхивал дымком «Беларусь». Варвара Власьевна и Санька Прожогин возились у сеялки и даже голов не подняли на треск мотоцикла. Возле дороги, на мешках с зерном, сидели, ожидая, сеяльщики, тут же терпеливо стояла золотистая кобылка агронома, запряженная в бидарку.
По равнодушным и притомленным лицам мужиков бригадир понял, что Прожогин давно возится с кукурузосажалкой, им надоело ждать, а утреннее тепло размаривало, бросало в сон.
Ерпулев заглушил мотор, выбив ногой подставку, установил мотоцикл на обочине. Кивнув мужикам, со строгим и сосредоточенным выражением он пошел к сеялке. Прожогин, поднявшись с корточек, отряхнул ладони и тут же прыснул в горстку смехом.
– А-а, Андрей Абрамыч… Опоздал малость, мы тут и без тебя управились.
Санька и внимания не обратил, что бригадир хмур и недоволен. Как всегда, сиял белозубой улыбкой, светлые глаза смотрели безвинно, отросшие рыжеватые волосы вились, колечками спадая на лоб, на скулах – яркий румянец, не парень – сокол ясный, девичья сухота. Андрей Абрамович даже усомнился: да Санькин ли голос слышал он, может, все попритчилось ему.
Но кто же тогда посмеет, если не Санька, голос-то очень схож.
Варвара Власьевна, как бы не замечая бригадира, сказала Прожогину:
– Можно начинать, Саня. За сегодня засеешь?
Санька оскалился.
– Все будет в норме – управлюсь, Варвара Власьевна, не впервой.
– Я загляну попозже. – Все так же не замечая бригадира, она пошла к бидарке.
– Ух сердита на тебя, Андрей Абрамыч, – подмигнул вслед Санька. – За вчерашнее серчает, аж кипит от злости.
– А пускай, – вполголоса сказал Ерпулев и выругался. – Что я им, серый, отдыху не знать, и так от зари до зари мечешься. Возьму и откажусь от бригадирства, не велика честь, посмотрю, как другой с таким хомутом потаскается. Хватит! Я-то сыт по самую завязку.
– Оно конечно, кому хомут интересен, – согласился Прожогин. – Только и тетка Евдокия здорово вчера рассерчала. Попался бы ты ей, с костями сжевала б и не заметила бы, ей-богу.
Он засмеялся и полез в кабину…
Санька или не Санька? По голосу вроде бы и он, но когда успел, стервец, – непонятно. Да и по нему неприметно, чтобы виноват, чем-нибудь да выдал бы себя, рассуждал Андрей Абрамович. С этими мыслями он вернулся к сеяльщикам, покурил с ними, довольный, что никто не упоминает об утреннем происшествии, – значит никто не слышал, успокоился он. Мужики и бабы в поле, на огородах, в хатах одни старики и малолетки, некому разносить по селу о его позорище. Просчитался, дурак, на ветер пробрехал. Однако под сердцем лежала льдинка и, как ни успокаивал себя, не таяла.
Ерпулев, поняв, что он здесь лишний, обойдутся и без него, завел мотоцикл и укатил в село.
У колхозной конторы бригадир сошелся с птицеводом Виригиным. Только что спустившись с крыльца, Иван Иванович увидел Ерпулева и остановился, поджидая.
– Андрею Абрамычу сто лет с походцем, – сказал он, жмурясь от смеха и не спуская с бригадира внимательно нацеленного взгляда. – Как здоровьице, дорогой? Давненько тебя не видел, ай отлучался куда?
Ерпулев сразу догадался, что Иван Иванович ожидает неспроста, видно, приготовил сюрпризец, и, хмурясь, молча сунул руку.
– Чтой-то Санька ославил тебя? Вот сукин сын, а! Да разве допустимо такое нахальство, – проникновенно заговорил Виригин. – Я, как прослышал, обомлел, сейчас умереть! Ты скажи, такими словами, а!..
– А Санька ли? – спросил Андрей Абрамович, и сомнения снова овладели им.
– Говорю тебе – он, на чем хочешь поклянусь, – быстро оглянувшись, не подслушивает ли кто, с укором воскликнул Виригин. – Неужто ты сам по голосу не признал? А кому ж придет в голову! Только ему! Только ему, горлохвату! Это я тебе беспременно подтвержу. Ты пожалуйся Владимиру Кузьмичу, пусть хвоста накрутит сатаненку, за такое дело стоит.
– Ладно, сам знаю, что делать, – сурово осадил птицевода Ерпулев.
– Вот-вот, с ними без строгостей нельзя, – притворно сердито сказал Иван Иванович, провожая взглядом бригадира, и усмешливо покачал головой.
Исполненный гнева и решимости, Ерпулев поднялся в контору и, низко опустив брови, озабоченной походкой прошел в кабинет председателя мимо счетных работников, под их обжигающими любопытными взглядами. Владимир Кузьмич был один, чего и желал бригадир. Припав грудью к столу, он писал что-то в тетрадочке, перекатывая в губах папиросу. Услышав скрип двери, Ламаш поднял голову, прищурившись, невидящим взором окинул Ерпулева и, снова приникая к тетрадке, нетерпеливо буркнул:
– Здорово, Андрей Абрамович… Садись, отдохни, через минутку освобожусь.
Густые темные волосы Ламаша, раскинувшись двумя крылами, спадали на уши, кожа слегка просвечивала на затылке, намечая будущую лысину, и это почему-то вызвало у Ерпулева насмешливое снисхождение к председателю. «Голую плешь не прикроешь, как ни старайся, – подумал он, покосившись на его руку, которая быстро бегала пером по бумаге. – Стар становишься, гляди, скоро пежинами покроешься, как белая кобыла в старости». Разговор предстоял не простой, бог знает, что известно председателю, но в трудные минуты Ерпулев не терялся и напускал на себя наивное простодушие, чтобы и сомнения не было в его готовности терпеливо выслушать любые обвинения. Он легко и без возражений принимал упреки и даже нагоняи, сокрушенно разводя при этом руками, удивлялся, почему сам не мог сообразить, что содеянное им не ахти как украшает его, и тут же доверительно сообщал о своем желании немедленно исправиться. Самое удобное было создать у тех, кто его ругал, такое представление, будто парень он простой, не столь большого ума и из-за своей простоты нет-нет да и оступается. Сам же он в это время думал насмешливо: «Нет, постой, не на такого напал, меня голой рукой не возьмешь, я скользкий».
– Ну, Ерпулев, рассказывай, что ты натворил вчера, – сказал Владимир Кузьмич, складывая тетрадку и пряча в стол. – Орел, орел, нечего сказать! Как же ты так, а? На бюро вызвать хотим.
– Я? – Глаза, брови, плечи Ерпулева изобразили изумление. – Ей-богу, не знаю, о чем вы это, Владимир Кузьмич.
– Ну-ну, не знаешь, – проницательно улыбнулся Ламаш. – Напился, говорят, сев кукурузы сорвал. Такой-то пример подаешь, бригадир.
Ерпулев понял, что наступил как раз тот момент, когда простодушным признанием можно отвести от себя беду, пока в председателе не поднялся гнев.
– Владимир Кузьмич, не знаю, что наговорили вам, а только чую – напраслину, нет за мной большой вины. По чистой совести, ей-богу, как перед родным братом говорю, выпил с ребятами малость, ну, сморило меня, жара, а тут с пяти утра на ногах, не евши, – округляя глаза, говорил Ерпулев. – Ну, виноват, сам признаюсь, если б не жара… А Саньке я наказывал, чтобы сеялку направил, там пустяки сущие, на полчаса и дела. Он уже сеет, я только с поля…
– Гладко все у тебя, как по-писаному, – сказал Владимир Кузьмич, не веря ни честным глазам бригадира, ни его внезапному признанию. – Крутишь ты, ловко это у тебя получается, как что – так в кусты.
Он вдруг вспомнил, как сам вчера пытался убедить людей в своей правоте и ему, наверное, тоже не верили и с любопытством наблюдали за попытками выпутаться из неприятного положения. Сделались противны и недоверчивый, поучающий той своего голоса, и пораженно расширенные глаза бригадира, – врет, был, видно, в стельку пьян, – и эта неприятная необходимость наставлять уму-разуму взрослого и женатого человека. Ерпулев и без его наставлений понимает, что поступил нехорошо, и, возможно, испытывает стыд, а может быть, лишь хитрит и разыгрывает покаяние. Как было бы хорошо, если бы и в пустяках мы доверяли, тогда не стало бы нужды в таких назиданиях. А почему все же мы забираем себе право поучать, словно оно сопряжено с должностью, – чем выше должность, тем больше права наставлять?






