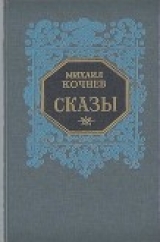
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Живой родник
Кто на морс бывал, тот знает, сколько в нем простору: конца-краю не видно, милок-соколок.
А откуда, паря, столько воды в море натекло? Все из больших рек да с высоких гор. А в большие – из маленьких, а в маленькие – из ручейков да канавок. И во всяком-то деле так.
Где нынче наш город стоит, в прежнее время не было ни каменных домов, ни фабрик. Речушка наша Уводь змеей выползала из лесных болот, изогнулась, словно ей на хвост наступили, и потекла по лугам да по лесам, путь себе выбирая, к матери своей, значит, к Волге. Пароходы по ней испокон не плавали. Но стары люди помнят: плоты по Уводи гоняли, бурлаки с бечевой ходили, да ведь больно давно все это было.
Ну, водилась рыбешка разная: щука, окунек, плотва, иногда и сомишко попадет – только редко.
И стояло на той, стало быть, речке село Иваново, где нынче Негорелая-то улица. Избенки так себе, низенькие, оконца маленькие. Положи на подоконник шапку – и все окно застишь. Бычьими пузырями затянуты крестовины. Избы почитай сплошь курные. Печь в избе есть, а трубы нет. Дым прямо под потолок шел. Затопят печку, а ребятишки из избы – в сенцы, от дыму спасаются.
Неподалеку от пруда притулилась избенка двухокончатая. Словно мокрая курица крылья опустила, застрехи съехали до земли, дверь не притворяется, стены осиновыми кольями подперты. Плетень около забора разваленный, где-где колышек торчит, как зубы у старухи. На гнилой соломенной крыше крапива весело принялась.
Видишь ты, милок-соколок, в той избенке проживал шерстобит Трофим. Летом он поле пахал, лен сеял; как белы мухи полетят, пастухи домой пойдут – Трофим лучок на плечо и отправляется, скажем, хоть туда же, за Клязьму, сапоги катать.
Жена-то у Трофима, Лукерья, все чахла, здоровьишко ее аховое, лицо черней земли. Лукерья зиму зимскую с гребня не слезала, пряла, лен на рученьки вязала, пряжу на тальки свивала, о посте ткала, а лето придет – на берегу холсты белила. Плохого не скажешь – доброй души женщина, работяга.
Дуняшка – хохотушка, прибирушка – дочка у нее росла, рукодельница. Слова грубого отцу с матерью не говаривала никогда. Души в ней отец с матерью не чаяли. Не росла – черемушкой цвела, во что ни одень – все к ней идет.
А через дорогу напротив горе мыкала вдова Стеша, – можно сказать, задушевная Трофимова любовь. В парнях-то он к ней частенько хаживал. Да что-то его родители по-своему одумали и послали сваху не к Стеше, а к Луше. Так и женили Трофима не на той, к которой сердце лежало. Да, как говорится, стерпится – слюбится. Мало-помалу забыл Трофим о Стеше и жил со своей женой, людей не смешил.
Стеша детей нажила, но не могла его забыть. Когда пройдет Трофим мимо окон, сердечко у нее так и застучит, как, бывало, в девчонках. Припадет к оконцу и смотрит вослед. Выдали ее замуж за Никодима кровельщика. Никодим да Никодим – кто не знал доброго мастера Никодима. Умер Никодим, оставил Стешу с двойняшками-близнецами: Оленкой да Огашкой.
Какая уж вдове жизнь, с мужем-то жилось не сладко, а одной и вовсе – хоть в гроб ложись. Часто-часто Стеша к Луше хаживала на запрядки с гребнем. Придет и двойняшек с собой приведет. Матери-то прядут, девчонки пряжу на цевки мотают, так вечер-то и течет помаленьку.
Хоть и лежала в глуби сердца у Стеши льдинка-холодинка, но жили они с соседкой Лушей душа в душу, как сестры родные. Разве только шутя когда к слову молит Стеша:
– Да, Лушенька-душенька, задушевная подруженька, знать, так бог судил: три зимы ко мне Трофимушка хаживал, а свататься поехал к тебе. Сначала-то я тебя невозлюбила, а теперь уж кровь остыла, все я забыла, все тебе простила.
А Луша ей:
– Возьми хоть с придачей, ничуть не заплачу.
Погутарят, посмеются, а расстанутся приятельницами хорошими. Лежит Стефанида у себя на печи да вспоминает что когда-то было, и помнится ей наедине, хоть и много с тех пор воды утекло, а сердце будто не совсем остыло. А может, оно никогда и не остывало.
Только сама себя тешила Стеша такой мыслью.
На исходе бабьего лета Луша со Стешей лен на лугу стелили. Луша с мостка сорвалась в реку. А вода-то он холодна, уж давно олень ногу окунул. Слегла Лукерья, день ото дня хуже и хуже, к смерти гонит пряху. Подозвала Лукерья мужа, а у самой слезы, слезы по землистым щекам.
– Трофимушка, родной, не встану я…
– Ну, полно-ка, Луша, бог пошлет – поправишься, пей вот горячего молока, даве Стеша принесла тебе криночку.
Подержала Луша в руках ковш с молоком и отдает.
– Мне уж все равно, лучше вон Дуняшка пусть выпьет, молочка-то она со светлого Воскресенья не пробовала. Позови ее сюда в останные…
Обняла мать льняную головку, обожгла детское сердечко своей горючей слезой, прошептала:
– Не плачь, Дунюшка, солнышко мое, не печалься, завтра мы с тобой пойдем за Уводь холсты белить, а сейчас беги к стефанидиным девчонкам, поиграй с ними…
Послушлива была Дуняшка, побежала к товаркам своим.
– Тетя Стефанида, мы завтра с мамкой холсты понесем белить.
– Понесете, ну и больно-то хорошо.
Тем временем Лукерья и наказывает мужу:
– Вот я больше вам и не помеха… Пуще храни Дуняшку, ни на кого не меняй. Схоронишь меня, не бобылем же тебе ходить, женись на Стеше. Лучше, чем Стеша, ты себе жены не найдешь, а для Дуняшки она будет, как мать родная.
Вечером пособоровали, а к утру Луша долго жить приказала.
Хоронили – плакали, особливо над материной могилой Дуняшка-сирота убивалась, горькими слезами заливалась. Стеша кутью варила, на погост вместе со всеми ходила.
Послушался Трофим совета жены, годок походил во вдовцах, на следующую осень женился на Стефаниде. К себе в избу с двоешками привел. Ее-то хибару продали и кузницу на дрова.
Стало теперь у Стефаниды своих две да падчерица. А уж с мачехой жить – не приведи и лихому татарину. На мачеху угодить не легче, чем по бечевочке, заслепясь, через быстру речку ходить.
Скорей зажженную свечку пронесешь через все село в бурю, чем уважишь мачехиной дури. Так уж исстари повелось: и рябая дочь, да родная, а та и красавица, да чужая. Все на мачех злых в обиде. Однако не всяка мачеха крапива, не всяка падчерица – маков цвет, что и лучше нет. Мачеха – такой же человек. Будешь хорошо делать, слушаться, никто тебя не попрекнет, что не по той половице прошла, не на свое место села, не свою ложку взяла.
Но как бы там ни было, пока ничего еще в волнах не видно, а уж Галаха, из чортовой светлицы пряха, так ее на селе звали, пошла звонить во все колокола, на всю Владимирскую:
– Ну, Дунька-сирота, пришла худая пора, прогонит тебя скоро Стешка с сумкой. Вона у нее своих две канарейки. Стешка-то на лукерьиной могиле на радостях ночью плясала, давно она молила на Лукерью смерть, не вымолила, так парным молоком хворую споила. Сама я видела: своим-то на воскресенье варит по целому яичку, а Дуняшке-бедняжке все половинка-сиротинка.
Треплет языком Галаха, а с чего взяла, и в избе-то ее у Трофима разику не видывали. Такой уж язык, наподобие крыла на ветряке, был бы ветер, а он махать не устанет. Эти наметки сколько раз слышала Дуняшка от Галахи. И впрямь стала она новой матери побаиваться, и особенно названных сестриц.
Оленка-то еще ничего – и так и сяк, а Огашка такая вертлявица, поскакушка, так на одной ножке и егозит перед всеми. Не успела в избу войти – это не так, другое не эдак, все дуняшкины куклы-тряпки к порогу побросала и Дуняшку прочь от себя толкнула.
– Не лезь, я лучше тебя. Все равно ты нашей мамке не родная и никто за тебя не заступится.
Что правда, то правда, Огашка, пожалуй, с лица поприглядней Дуняшки, хоть и Дуняшка не из дурных.
Мачехе пожаловаться Дуня стыдится, да и не привыкла она ябедой жить. Забилась за пряльну в уголок и посиживает, пряжу сучит над корытцем. Мать с гребня приметила, как Огашка распоряжается чужими куклами, – и к падчерице:
– Дуня, а разве у твоих кукол ножки не ходят? Сейчас я сделаю, чтобы они ходили.
Огашка-пострел уж тут как тут:
– Сделай сначала, чтобы мои ходили! Я лучше ее.
Мать сняла с гвоздя ремень, да и попотчевала Огашку.
– Сейчас же положи куклы на свое место, где были.
Сразу у кукол ножки живые выросли. Очутились они на своем месте. Наказала мать:
– Красотой своей не кичись, ты ее не пряла, не ткала, не за деньги покупала.
Прясть ли сядут, лен ли пойдут полоть, за стол ли сядут, – всем одинаков ломоть. Огашке это ой как не любо, да и Оленка тоже, нет-нет да и косо глянет на Дуняшку. Отец какой гостинец принесет, – опять мать делит по равным долям. Дуняшка видит такой привет, – и как мать родную полюбила мачеху. Устали девчонка не ведает, полы в избе вымоет, за водой сбегает, картошки начистит, и все сама, не дожидается, когда укажут.
Если кого-нибудь из двойняшек станет мать за делом посылать, а они в один голос:
– А Дунька-то у нас на что? Сходит и она, не велика барыня-боярыня.
А одни в избе останутся – поедом едят неродную сестру. Засмеется ли Дуняшка – дурочка, заплачет в обиде – привередница. Выгонят Дуняшку из избы, запрутся, завалятся сестрицы на печку за трубу и спят, пока отец с матерью не застучат в сенцах.
Однажды, братец мой, заставляет их мать рученьки расчесывать. Кому-де из вас полрученьки дать, кому целую рученьку. Две половинки и одна целая рученька припасена. Огашка: «Мне половинку», Оленка: «Мне половинку», а Дуняшка и не поморщилась, взяла целую рученьку. Да и расчесала ее пораньше и получше, чем сестрицы. Тех за работой одолела зевота, глядят, как бы на печку, на тепленькое местечко поскорей улизнуть.
В светлый праздничек поутру мать вынимает два яичка из горшка, кому, мол, из вас целое, а кому половинку? Ну, ясно, две сестрицы просят по целому. Дуняшка и тем премного благодарна – что мать даст. Так и быть, уважила мать родных дочерей: им по целому яичку, а падчерице-де и половинки хватит. Положила перед дочерями по яичку, у этой половинку отрезала да у другой и подала их Дуняшке.
– Ну вот, кто что просил, то и получил. По заслугам, по работе.
Остались ленивые завидущие с носом.
Пришла зима с метелями, скатерть бела весь мир одела. Вдоль всей земли раскинула зима миткали. Зима их пряла, вьюга их ткала, мороз белил, ветер шевелил.
В такую пору, бывало, в Иванове под каждым оконцем поет веретенце. У каждой стены стучат подножечные станы. Некогда ребятам потешиться в гулючки, в прятки, пошли девки, молодицы на запрядки, на посиделки.
Села Стефанида за пряльню и всех троих девчонок прясть усадила. Кого куда, в избе-то не повернешься, тесно, – Дуня за печкой, Огашка с Оленкой за переборкой. Да больно лень-матушка их одолевает, раньше их на свет родилась. Вздумали они отца с матерью обмануть: напряли всего-навсего за всю-то зиму по два тощеньких напрядышка, бросили их – одна в кленовую кадку, а другая в дубовую, – мол, потом и дуняшкины и свои запрядыши свалим в одну кучу, отец-то с матерью и не разберутся, кто сколько напрял.
Спросит мать: «Как-де у вас, девчонки, споро ли прядется?» А они: «Ничего, помаленьку подается». Ну, думает мать, подается, и больно хорошо. У Дуняшки ниточка что тонка, что крепка! Прямо такая ли тонина, ровней волоса. Дуняшка свои запрядыши кладет в лукошко.
Зима на исходе, грач на гнездо – пряха за стан. Мать и спрашивает родных:
– Девчонки, где ваша пряжа? Хоть много ли вы за зиму-то напряли, покажите.
А те бы и рады показать, да нечего, зиму-то целую проленилися. Стыдно, как-никак, девкам перед матерью.
– Сейчас, мамка, покажем…
– Где хоть у вас пряжа-то?
– Да вон, в кадках лежит. У нее в кленовой, у меня в дубовой.
– Ну-ка, покажите, много ли?
Благо в присеннике-то темненько. Одна залезла в дубовую кадку, другая – в кленовую.
Взяли обе по запрядышу и показывают. Уговорились. То одна четнет, то другая:
– Вот рученька да вот рученька.
Наклонятся в кадку да опять тот же запрядыш вынут:
– Вот еще рученька, вот еще рученька.
Да в третий раз этак же:
– Вот рученька да вот рученька, постой, мама, еще маленько, сосчитать все-то нехватит и счета.
Да долго так-то вынимали все одни и те же запрядыши-неприглядыши. Кто знает, поняла ли мать сразу, но сказала:
– Вот и хорошо, дочки, сколько было на веретене, столько будет и на спине.
Пошла к падчерице.
– А ты много ль напряла?
Дуняшка нынче, как маков цвет, у нее свой ответ:
– Еще бы, мама, немножко постояла зима под окошком, полно бы стало двадцатое лукошко.
У Дуняшки пряжа и ровна и чиста и в тальки перевита, когда только и успела! Двадцать талек на стол выложила. Сестрам-то и стыдно и завидно. Прикусили языки, помалкивают.
Из дуняшиной пряжи на всю улицу холстов наткешь, а те двое две напряли – и поглядеть-то не на что.
А платьишки-то на обеих за зиму поизносились. Просят у отца с матерью на весну-то по обновке, да чтобы им в первую очередь, а Дуняшка-то, мол, и так проходит.
Стефанида спрашивает старика:
– Кому сначала лучшую обновку справим, твоей или моим?
А Трофим:
– Всем бы надо враз.
Однако жена не вняла ему.
– Я своим-то, за их прилежанье, отлику сделаю.
– Ну, делай отлику, коли они хорошо пряли.
Сделала Стефанида своим отлику. Такого ли добротного тонкого льняного полотна-шелку наткала, что дотоль никто так-то и не ткал в селе Иванове. Все из дуняшкиной пряжи. На лужке под солнцем выбелила, на ручье вымыла, в щелоке да в золе выварила, соком лазоревого корня выкрасила. Стала дочерям платья шить. Сшила три платья. Надо полагать, всем по платью.
На троицын день собираются девчонки хоровод водить. Пристают к матери:
– Когда нам будет обновка, новая одежка?
– Пойдемте, она у меня в сенцах, давно припасена. Что было зимой на веретене, летом у каждой на спине.
Достает мать из дубовой кадки запрядыш-неприглядыш.
– Вот тебе сряда.
Положила запрядыш на дно да опять его же достает.
– Вот тебе еще сряда, – лучше быть не надо.
Да и в третий раз достает тот же запрядыш.
– Постой, дочка, немножко, там еще есть новая одежка.
Да так-то все и вынимала один и тот же запрядыш. У второй кадки – те же загадки. И начали реветь ее дочери. А Дуняшка, что напряла, все сполна и получила. Все три лазоревых платья ей достались.
Носи, Дуня, не марай, кое лучше, выбирай! Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на всякой работе видна.
Только Дуняшка-то не из корыстливых, оставила себе одно платье, а те сестрам подарила, чтобы без обиды – всем поровну.
– Нет, коли любят кататься, пусть любят и санки возить. Пусть сами напрядут. Я бы со стыда сгорела в чужое рядиться.
Огашка с Оленкой тайком гадают: на чем-де, на кислой опаре или на дрожжах приворожила-приворотила к себе падчерица их мать? Дуняшку судят, рядят, а сами на себя не хотят поглядеть.
Под троицкой березкой на гулянке нарядней Дуни никого не видели. Вот тебе и падчерица!
Только Галаха попрежнему языком трепала, благо язык без костей, мол, все это Стешуха пыль в глаза пускает соседям: нарядила сироту в огашкино платье, а вот придет Дуняшка домой, будет ей взбучка за эту обновку от мачехи.
Соседки ей:
– Полно-ка тебе, Галаха, чужие бока промывать, ни о ком ты хорошо не скажешь. Не та мать родна, коя родила, а та, которая вырастила дитя, уму-разуму придала да к делу произвела.
Огашка с Оленкой стали думать да гадать, нельзя ли, мол, как избавиться навсегда от Дуняшки. Поскорости выпал им подходящий случай. Пришел повечеру к Трофиму сборный староста из графской конторы по приказанью управляющего. Сам-то владелец села, граф Шереметев, в Питере жил. Редко когда в село заглядывал, разве только, когда чума загонит его из города или другая какая мерлуха. Все в руки управляющему передал, а тот оброки драл, будь спокоен, копеечки не позабудет. Ничем не брезговал, ни грошом, ни холстом.
Староста наказывает:
– За тобой, Трофим, недобор за прошлый да позапрошлый год, да еще за этот семь рублев, да холста семь кусков. Приноси в графскую контору, а то в середу за станом пришлю.
До самого доведись – не больно приятна награда. Трофим круто распорядился, жену с Огашкой и Оленкой послал за сыпину холсты полоскать, Дуняшку послал беленые холсты за огородом на бережку стеречь. Посылал – наказывал:
– Смотри же в оба, лес-то рядом, проворонишь – украдут, тогда лучше и в избу не приходи. Чем оброк-то платить стану?
Дуняшка послушлива. Раскинули на бельничке холсты за оврагом вдоль по дорожке. Кусточки рядом с бельником. Посиживает Дуняшка на белом камушке, зорко за холстами поглядывает, гусей хворостиной шугает.
Время за полдни. Побежали Огашка с Оленкой по кусточкам поиграться. Сами думают: «Вот бы хорошо, кабы у Дуньки холсты украли, тогда бы ее и в дом больше не пустили тятенька с маменькой».
И выходят им навстречу из кусточков два незнакомца, одежонка на них – одни лохмотья, знать бродяжки, все возможно – и скоморохи, дудари-пересмешники. На лбу-то, чай, не написано, кто они такие и по какой нужде меряют ногами матушку-землю.
– Девчонки, а девчонки, не ткут ли холстов и полотен ваши бабенки?
– Как же не ткать, то и другое ткут.
– Девчонки, а девчонки, подле этого ельника нет ли поблизости бельника?
– Есть бельник, вон за тем оврагом.
– А что там за сторож сидит над холстиной: с топором он или с дубиной?
– Стережет там Дунька-дурочка, нет у ней ни топорка, ни дубинки, пугает она гусей сухой малинкой.
Переглянулись ухарцы.
– А чьего отца она дочь, близко ли до ее дома от бельника?
– Их-то дом в другом конце, да дверь-то на кольце – отец с матерью за крашенцом уехали, никого больших дома нет. А вы что, купцы, за холстами, что ли?
– Мы сначала глянем, потом потянем, а потом и в торги.
Зашли ухарцы за кустарник, да и повернули прямо к бельнику. Огашка с Оленкой за ними – доглядывать. Захотелось бродяжкам холстов десяток скатать. Видят, Дуняшка у холстов сидит, не больно-то подкрадешься. Еще крик подымет, а губить девушку у них и на уме нет.
Думали, думали бродяжки и надумали.
– Ты, Агафошка, ступай к девчонке, зубы заговаривай да знаки мне подавай, а я стану той порой потягивать холст из-за куста.
Так и сделали. Филимошка по-за кустами ползет к холстам, Агафошка пошел прямо к Дуне-красе, льняной косе. Разговоры повел, да все хитрые, мол, дурочку-то в два счета обыграю.
– Здравствуй, Дунюшка-краса, шелкова коса.
– Спасибо тебе, странничек, на ласковом слове.
– Где тут дорога на село Оньки, на посад Пеньки?
– Поблизости таких-то и сел нет.
Филимошка уж подполз к холстам, знака ждет. Сейчас у них пойдет дело. Слово за слово, разговорилась Дуняшка, будто бы совсем и о холстах позабыла.
– А как у вас, Дунюшка, на колокольне звонят?
– А ты разве не слыхивал? Как и у вас: «Тили-бом, тили-бом», – отвечает Дуня и не ведает, что ведь это подвох. – А у вас разве не так?
– У нас вот как, Дунюшка, звонят: когда к заутрени пономарь Филимошка звонит, колокол сам говорит: «Филимошка, наклонись немножко, глядят из окошка». Во как!
Филимошка за кустами услыхал, принагнулся, ползет. Опять разговоры пошли.
– А как у вас, Дунюшка, к обедне звонят?
– Тоже так: «Тили-бом, тили-бом». А у вас как?
– У нас не по-вашему. У нас сам колокол выговаривает: «Эй, эй! К реке поглядывай! Тяни-тяни, потягивай! Тяни-тяни, потягивай!» Вот какой у нас колокол.
Филимошка того и ждал, почал потихоньку из-за куста холстины на себя потягивать. Порядочно он скатал. И все ему мало. Глянула как бы ненароком Дуня к кустку, а холстина-то, как живая, за куст ползет. Так и обмерло у нее сердце. Дело неладно. Кричать боится: еще порешат. Так это приветно улыбнулась она и простенько бродяжке:
– Эх ты, как у вас все чудно, не по-нашему. А скажи, как у вас дочка причитает, когда мать на погост несут?
– У нас-то? – Сам к кусту поглядывает. – У нас старшая-то ревет: «Хоть бы попряла еще часок, хоть бы еще нам кусок». А младшая-то еще пуще: «На руках не донесем – на лошади повезем!»
Услыхал Филимошка и принялся в две руки тянуть, чтобы побольше отхватить. Уж он больше и сигналов не слышит.
Той порой пустились взапуски Огашка с Оленкой к отцу, мол, у нашей Дуньки-ротозеихи половину холстов уволокли.
А Дуня не сплоховала, говорит она бродяжке:
– А у нас старшая-то кричит: «Караул, люди добрые». А меньшая-то ревет: «К нам воры пришли! Чужое понесли!» – Да так-то усердно она крикнула, что на всех ближних бельниках ее услышали. Бегут с разных сторон люди с топорами, с кольями. И Трофим поспел. За кустами-то который лежал, – этот утек. Агафошку помяли на бельнике, в судную избу отвели. Ни одного вершочка Дуня не проворонила.
А пока Огашка с Оленкой за отцом-то с ябедой бегали, у них на портомойне-то двух сырых холстин как не бывало. Успели, уволокли. Может, тот же Филимошка спроворил убегаючи. Ябедницам дома выдача сыромятным ремешком: с дела не бегайте, зря не клеплите на свою сестрицу.
Дуняшке мать на праздник козловы сапожки купила. А тем поведала:
– Вот когда и вы обе будете на работе и дома, как Дуняшка, тогда и у вас будут козловы сапожки, а дотоль вы меня и матерью лучше не зовите, непослушницы.
Тут-то Огашка с Оленкой усовестились и стали жить с названной сестрой в миру, в ладу. И все на селе стали скоро завидовать Трофиму и Стефаниде. Говаривали нередко:
– Что, мол, только у вас за дети! Чужие, а живут лучше родных.
Рабочая семья – она испокон текла из чистого живого родника, хоть и лежала тогда еще камнем-бременем на плечах у нашего брата постылая неволя-кабала.


