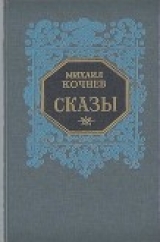
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Как говорится, шила в мешке не утаишь. Мало-помалу купцы, тузы-мануфактурщики, не только свои, а и заморские, проведали, что живет в России в одном мастеровом фабричном селе челночник Степан и есть у него челнок-летунок, ткет за десятерых, а сказывает на всю мануфактуру. Купцам сказки-то не очень нужны, но челнок прибрать они рады с полным удовольствием, чтобы в карман-то свой насыпать золотых бобов погуще.
И начали купцы-плутяги один за другим славить челночника. Каких только прощалыг не побывало у Степана за год! Подбирались и немцы, и мистеры, и сэры. Да всем у Степана ответ короток. Как ни увивались, ничего не получили. Тут вот что приметно: как купец к селу подъезжает, а утиный нос тут как тут, на пути, заезжим указывает на избу Степанову, на фабрику, где он работает, да еще потихоньку что-то жужжит каждому на ухо.
И вот однажды по зиме забрел на мануфактуру, где работал Степан, мастеровой, назвался челночником. Просится на зиму ради корки хлеба в челночную.
Порядил этого человека хозяин и положил недорого, и мурьи не дал: живи, где хошь. А время-то – крещенские морозы. Не пропадать же мастеровому! Степан приютил его у себя в избенке. Хоть и тесно, да ведь в тесноте – не в обиде. И копейки не выговорил Степан за житье с челночника. Живи на здоровье, как в своем дому. Правда, Степан с отцом-стариком посоветовался. Тот говорит:
– Жить-то ему у нас не полюбится: в избе больно тесно, ягнята под шестком, в клети теленок, и печь-то по-черному топится. Он ведь, сказывают, у московских дело правил.
А тот больно уж радешенек, хоть с ягнятами в хлевке готов ночевать, только бы потеплее.
– Мне бы зиму прозимовать!
Назвался этот пришелец не то Фогелевым, не то Могилевым, а прозвали-то его здесь просто – жилец да жилец.
И остался он зимовать у Степана. А работал в челночной. Когда пришельца нет в избе, старик, бывало, скажет Степану:
– Что за человек живет у нас! Что вежлив, что почтителен, а кажись, последнюю рубашку с себя снимет, только бы другому уважить.
Это правда: любил жилец лясы поточить в досужный час. Примется мотать турусы на колесах: где жил да кому служил, какие города видел. До вторых петухов прядет-попрядывает, пока всех в сон не повалит. В челночной точит челноки да шуточки-прибауточки сыплет, купцов поругивает, мастеров хвалит. И Степану пришелся по характеру захожий челночник.
У Степана на ту зиму спор большой вышел с хозяином. Наточил он новых челноков, мануфактурщику говорит: мол, не пора ли старые-то выбросить, поставить новые. А мануфактурщик ему на это:
– Погоди, надо подумать-погадать, еще ничего не видно, может новые снасти будут хуже старых. Соседи-то старыми челноками ткут. Как люди, так и мы.
Горько обидел Степана. Бросил Степан челноки-летунки в коробье. За что только человек маялся, покоя не знал?
Зиму прожил жилец да еще лето. Собрался уходить. Степану свой картуз подарил, отцу старику Трифону кафтан и опояску, матери Степана кубовую шаль купил да еще дал по двугривенному. Себе на память попросил челнок-летунок.
– Век вас не забуду, – говорит гость на прощанье.
– Добром – так вспомни, а злом – так полно, – ответил старик.
До околицы провожал жильца Степан, указал ему тракт до Сидоровского села на Волгу. Степан – домой, а челночник своей дорогой. Навстречу ему и бредет с перекатной сумой за плечами старая завистница с утиным носом. Как брат с сестрой, они встретились. Два худосочных, две продувные шельмы.
– Ну, как, верный путь я тебе тогда указала? Не трудился, а челнок-то в твоих руках очутился. Русские мастера меня не уважают, зато ты уважил. Вот тебе награда. Теперь эта Мечта не поможет Степану.
На Волге сел жилец на пароход, поплыл в Петербург. Там у него жили какие-то богатые заступники. А может, и не заступники вовсе. Ну, ушел и ушел. Мало ли в те поры мастерового люда скиталось по земле, всяк искал себе счастье!
– Эх, Мечта, скажи, посоветуй, – тужит Степан, – что делать мне? Боится мануфактурщик новых челноков. Разбудила ты, Мечта, и мою смекалку, а мало радости принесла она мне. Не о золоте-серебре прошу! Своим ответом душу мне хозяин заморозил.
Достал Степан челнок-летунок, а челнок и шепчет голосом, который никогда не забыть умелому мастеру:
– По высоким горам, по глубоким морям твое счастье скачет. Скачет, горько плачет!
На другой день тот же сказ у челнока:
– На чужой стороне жгут твое счастье, калят на огне, купают в воде, нет ему места нигде. Твое счастье горько плачет.
А на третий раз веселее заговорил челнок-летунок:
– Твое счастье молотами бьют, обратно везут. Волны в чужом море плещут, ветер злится. Твое счастье скачет, скачет-веселится!..
А в оконце-то показался утиный нос старушечий:
– Не бывать по-вашему, будет по-моему!
Тут вскорости приезжают на базар московские купцы и весть новую хозяину привозят:
– Что вы такими челноками ткете? Вон за морем-то до чего додумались!
И вот давай расхваливать привозные челноки-летунки: за десятерых, мол, один такой челнок ткет.
Стал хозяин смеяться над Степаном: вот, мол, ты мудрил, мудрил, и ничего из твоей затеи не вышло, а в Петербурге свою торговлю челноками открыла контора Фогеля-Могеля.
И закупил мануфактурщик, глядя на соседей, тех челноков долю не малую. Стали челноки ставить, ан не больно они летают, что-то заминает. Хозяин зовет своего челночника Степана.
Пришел Степан. Около новых станков заморский мастер по челнокам-летункам мается, конторой прислан. Уж он и так и этак, не слушается его челнок, да и на тебе. И то говори спасибо, хоть смирно в руке-то лежит. Но как только появился Степан, тут и взыграл челнок-летунок: то в лоб, то в нос щелкает заморского. Завертелся волчком, от станка кувырком этот мастер, а челнок и пошел поддавать ему по спине, по загривку. Сунулся хозяин, и ему шишку на лбу посадил челнок: не встревай за кого не след. Чужой мастер хотел было наступить на челнок, а челнок не простак – взлетел да прямо в глаз ему и угодил.
Тут Степан спокойно взял челнок-летунок. Заговорил челнок-летунок приветливым голосом:
– Здесь я родился, снова к своему хозяину попал в теплую руку!
Тут все поняли, что дело мастера боится.
Степанов челнок – светлый бок, сказывали, бывало, и ткал и небылицами забавлял. От него, знать, и полетели, как скворцы во все концы, веселые историйки по нашим фабрикам.
В тот день, когда челнок-летунок улаживали, на пустыре за фабрикой встретились Мечта людская и заплесневелая опара, старуха-завистница с утиным носом.
– Ах, ты все еще здесь? – прошипела карга. – Вот когда я с тобой рассчитаюсь и с твоими мастерами! Вы у меня непроглядное облако украли. Я загублю вас всех!
– Да, я здесь, но я тебя не боюсь! Никто о тебе не соскучился в нашей рабочей стороне.
Чихнул было утиный нос, но красавица кинула ей под ноги серебряную пряжинку.
И там, где стояла старуха с утиным носом, – вмиг образовалась горстка золы, словно крот нарыл.

Новая дорожка

Дорогой перевоз
Высоко село Высоково: видать с горы – Волга-матушка течет, пароходы, лодки-парусники несет. А за Волгой – фабрики.
Может, доводилось, и ты краем ушка слыхивал про высоковских-то лодочников? Зря не охаишь. И прежде-то они стояли не в плохом кону. Да ведь в поле не без урона, в семье не без урода. Волга-то у них под окнами. За леском-то рукой подать – фабрика. Кажись, Разоренова купца. Да, поди, помнишь: в старину-то песни пели про него. Разоренов он и есть Разоренов. Всю заволжскую сторону разорил, без гвоздя окна у мужиков забил: кого загнал к себе на фабрику, кого по миру послал.
Вот что памятно. После пятого года вскорости приключилась в Высокове беда, и не маленькая.
Высоковские-то не столь на соху-борону глядели, сколь на фабричную трубу. Фабричная труба по нашим местам надежней считалась. Мужики работали кто где: у Разоренова, у Коновалова, также на Томихе многие. Речка Томка есть такая.
Кто Волгу-то не любит? Языка у нее нет, а манит, рук у нее нет, а к себе тянет. Такая уж река душевная. Одно время перевоз-то через Волгу городская казна держала. С лодками мужиков-перевозчиков не больно подпускали к Волге, отшугивали. А то и лодку загубят.
Но высоковские тоже мастера своего ремесла. Эти приладились. Больше в водополь выручались. По ночам Волга проснется, начнет льдины шалашами громоздить. Вот тут, братец, и не зевай, коли ты смел да умел.
Нужда другого – ночь-полуночь – гонит на тот берег. Сердита Волга в такую пору, но перебираться надо. Только к высоковским перевозчикам она долго оставалась милостива. Эти умели на нее покой наводить. Даже когда не унимается река, они все равно потемну волокут свои челны-лодки на воду. Рисковали, ну, зато выручались, конечно.
Почитай, у каждого на подволоке или под клетью лежала легонькая боковушка смоленая.
В пригородке, о бок с высоковскими, за оврагом жил Вахромей – «тройная уха». Этот поудалей всех усердствовал в водополь. Выше крыши всплескивают волны, а посули Вахромею пятерку – никакая волна ему не страшна, перевезет честь честью. Одна отметка ему – речной волк.
Что нащелкает весной на тайном перевозе, тем и живет. Да промышлял еще рыбой разной и не малы деньги наживал. А то что-нибудь перепродаст, и греет весь год бока на печи: землю пахать или к Разоренову на фабрику, как другие-то, его не тянуло, – и без того сыт. Смел был Вахромей да оборотист, этого не отымешь. Но больше трафил приладиться к пирогу сбоку да тяпнуть всю серединку. За это мужики его недолюбливали.
Вахромей уважал спотайку, особинку, так дело править, чтобы никто не знал, не ведал из соседей – кого перевез, сколько сгреб. Темная ночь – верная приятельница Вахромея.
Против вахромеевой избы, окнами на Волгу – изба Алеши Бережкова. Этот на фабрике у Разоренова работал. Но свою лодочку на всяк случай берег под клетью. Весной рыбу, скажем, половить, как ты без лодки-то? Гребец тоже, не скажи, отважливый и работы не боялся.
С давних пор ходила по селу у высоковских такая неписанная порука, нерушимое обещание: в беде все за одного, в опасный час – один за всех. К примеру: перевозить – перевози кого хочешь, но чтобы городская казна об этом ни гу-гу. Главное, коли ночью взялся за весло, – ворон не лови. Утопишь человека, хоть и не по своей оплошности, – лучше на берег не ступай, сам за потерянным сигай белорыбицей на дно. Не сиганешь – свои же сбросят с берега. Строг обычай, а откуда он пошел?
Один промах может все село охаить, казна узнает, суд да дело. Знал об этом Алеша, как и все, и ни разу мастерство весельное не обесчестил.
Раз так-то весной, поздненько вечером, заехал в Высоково какой-то ученый человек. Гостил, вишь, неподалеку где-то, да получил из Москвы телеграмму – жена при смерти. Прочитал и той же ночью решил – прямо на поезд. Уговаривали. Не послушал, не внял. Надо надежного перевозчика. Алеша-то Бережков крайний. Расстроенный господин к нему и постучал. Никаких денег не жалеет, только перевези.
На огонек-то, следом за гостем – шасть к Алеше в избу Вахромей. Сразу сметил, что человек-то не скуп, а по виду барин, стало быть в кармане – густо.
А тот уж сладился с Алешей. Не будешь разбивать уговор, неловко. Так Вахромей по-другому: навел тень на ясный день.
– У тебя, Алеша, я слышал, лодка-то стала, как старое корыто. Смотри, не сгуби человека. Волга нынче озорует, ревет, – чу, гуд какой!
Гость стал глядеть на Вахромея ласковей, на Алешу с опаской.
Алеша потуже опоясывается.
– Мое корыто смолью покрыто, где не взять веслом, возьмем удачным числом. А на что Волжанка-служанка? Вчера на заре с горы, сам видел, белой чайкой опустилась она на воду у Зеленого мыса. Чего нам пугаться? Гукну – поможет светлу холстину проложить меж льдинами.
Собрались, а Вахромей за ними. Не сидится ему. На берегу-то многие ждут с лодками.
Неймется Вахромею, опять стращает Алешу, только бы отбить пассажира:
– Смотри, тройная уха, ей же ей, утопишь седока, душу из тебя вытолчем вот на этом месте.
За милую душу в какой-нибудь час доставил Алеша пассажира на тот берег, без всякой платы, ради уважения к хорошему человеку, и обратно троих захватил. Справил свое дело, лодочку поволок домой. Вахромей-то под дождем, под ветром зубами зря всю ночь стучал на берегу у куста.
– Ах, пофартило же Алешке, чтоб ему пусто было. – Думает Вахромей, что Алеша много заработал.
В избу Вахромей вошел, пнул кошку, пиджак за рукав – бросил на голбец, сам – на печку, кости греть. Незадачливого зависть скребет.
У Разоренова-то одно время работал на фабрике Кузьма Кленов, тоже рожденный из Высокова. Парень – клад, ростом невелик, зато умом не обижен. Ты не гляди, каков человек в плечах, слушай, каков он в речах. У кого речь и дело ступают вместе, неразделимо, такому человеку цены нет.
Алешкин сверстник Кузьма-то. Одногодки. По одному букварю учились азбуке в приходской школе. В мальчишках и стерлядку вместе лавливать плавали к Зеленому мысу.
Выросли – дороги-то разминулись у них – так уж, знать, жизнь велела. Каждому свое на роду написано.
Молодой ткач Кузьма как поступил на фабрику, на первом же году крепко сдружился с тайными книгами. Хорошая книга – верный друг. Стал на подпольные сходки к большевикам собирать надежных ткачей. Прокламации приносил.
Да проследили за ним синие мундиры, что громили квартиры у рабочих. Ну и начали травить парня. Слежка, аресты, вызовы.
Пока не поздно, Кузьма под чужим паспортом скрылся из своих мест. Далеко ли, близко ли он – кто знает? Может, в Иванове, большом городе, а может, в Шуе.
Но не забывал земляков, навещал. Нет-нет, да и появится нежданно. Подберет свою минуту, глядь, речь держит у ворот на летучке. А то в лесу, за Волгой, соберет на сход ткачей и ближних мужиков, чтобы к делу большому готовились сообща, чтобы держались люди одной мысли против царя, помещиков и фабрикантов.
Приставу второго стана Еремееву дали весть, чтобы нос держал по ветру, когда Кузьма Кленов близко. Да зря Еремеев бил сапоги. Пристав-то на весь стан один, а народу-то большие тысячи. Никак не удавалось захватить молодого большевика Кузьму. А сколько раз получал Еремеев верные слухи – где-то рядом Кузьма, около стана. Близко молодец, ан не ухватишь голыми руками.
Грач в белом клюве принес первую проталинку. Жаворонок в горлышке принес на поля первый серебряный ручеек. Как в лазури-то запел жаворонок, с Красной горы побежали ручьи к Волге. Благо дружное начало, а там пойдет. Взыграла веселая вода. Белизну потеряли снега, затуманились, словно миткали неотбеленные лежат в низинках, последние дни свои доживают.
Солнце день ото дня поджаривает да поджаривает. Тут и Волга проснулась. Не сразу она из-под зимней шебуры спину солнцу показала. А уж коли показала, ну, тут ее не уймешь. Заворочалась, поднакопила за зиму силушки и пошла, пошла лед кромсать, с волны на волну бросать. Погнала ледяные дома-терема, начала качать корабли в затонах, сваи выворачивать у причалов.
Страшна Волга в такую пору. А если ветер ударит – ну, тут и вовсе не подступайся к ней с лодками. Оплошника в два счета слизнет разгульной волной. Бывали такие несчастья. Дожди зарядили надолго. Небо нахмурилось. Сиверко разгулялся, даже у жаворонка горлышко захватило: в туманном поле, под прошлогодней былинкой притаился до солнышка.
А Волга озорует, силу в себе почуяла, сверху караванами тащит лед. И столько нагнало его под Кинешму – затор. На оба берега выбрасывает льдины! Сквозь щели черные седыми гривами хлещет вода. Такой дружной, буйной водополи старики не помнят.
В такую погоду от городской казны перевозчики и думать не думают спускать лодки на воду. Кому охота плыть сомам на закуску?
Треск, грохот над рекой – только эхо гудит по ближним лесам и рощам на обоих берегах.
Высоковские волгари поглядывают со своей горы. Так, мол, красавица наша, ты подольше покапризничай! У самих лодки прилажены, давно зашпаклеваны, просмолены. У Вахромея не лодка, а целый артельный струг красногрудый. Вахромей раньше всех обиходил свою посудину.
Тем постом Алеше Бережкову нездоровилось. До лодки ли хворому? В крещенье ходил на прорубки в озерки за щучкой да зазнобил руки.
Глядь – перед вечером приметили Кузьму на этом берегу. К Разоренову на фабрику шел. Языки купленные шепнули в сумерки приставу Еремееву: мол, не зевай нынче, Кузьма, наверно, с фабрики пойдет спать к матери в Высоково, в свою избу. У него старая мать, ткачиха, в одиночестве доживала свой век.
Пока там собирался, снаряжался увалень краснорожий, Еремеев-то, Кузьму надежные люди повестили: не к часу-де ты пришел, Кузьма, не придется тебе и ночку покоротать с родимой-то Краснорожий битюг может нагрянуть, лучше потемну катай на тот берег. На том берегу вокзал.
Невелики у Кузьмы сборы. Шапку – с гвоздя, пиджак – на плечо, простился с матерью, да и на улицу.
Под окном тьма, как под овчинным тулупом. Огоньки по горе мигают, фабрики за Волгой на том берегу светят сотнями окон.
Ветрило с холодной стороны так и свищет в уши. Корежит лед под высоким берегом, стонет сердитая Волга, ревет вода, просится на простор. Разлив и так, почитай, версты на две ширины.
«К кому же мне за перевозом постучаться? – гадает Кузьма. – Дай к товарищу своему зайду, к Алеше Бережкову».
Вошел. Алеша на конике под кафтаном. Так, мол, и так, брат Алеша, гонятся за мной. Хоть и нездоровилось Алеше, он и слова не сказал, кафтан сбросил, надевает кожаные сапоги с длинными голенищами.
– Эх, Кузя, перекинуть на ту сторону в такую хвиль не штука. Я готов. Только лодка у меня, боюсь, рассохлась, не потонуть бы. Постой, пойдем к Вахромею. У него лодка-вездеходка.
К Вахромею оба. Тот лежит на печи, кряхтит. Может, по условию ждал кого. Алеша с просьбой:
– Давай-ка, дядя Вахромей, сплаваем на тот берег.
Вахромей прищурился, подумал.
– Так что? Сплавать не беда. Кого перевозить-то?
– Да вот Кузьму.
Поглядел Вахромей, видит – с этого седока добыча невелика, заохал, палец сунул в рот.
– Во, во, глянь, ноет окаянный, гнилое дупло, к погоде-то хоть плачь. Не застудить бы, тогда и в рот ничего не возьмешь, – прикидывается больным.
– А ты крученую нитку возьми, петелькой накинь на зуб, а концы к скобе и дерни. И вся маята. Я так-то недавно свой зуб лечил, – советует Алеша.
– Боюсь крови, ой, боюсь. Рад бы перевезти, да не погожусь. Идите к другому. А сам-то ты, Алеша, что?
– Да лодка рассохлась. Ладно, дядя Вахромей, нам торговаться некогда. Дай мне твою вездеходку. Через полчаса будет Кузьма на том берегу.
Но и тут съюлил этот налим, вывернулся:
– Что ни дать, с полным моим удовольствием, да на корме у самого дна мышь дырку проточила: овес зиму-то лежал в лодке.
Глянул не по-доброму Алеша.
– Пока говорили, мышь дыру проточила? Зубастая же у тебя мышь, – сказал Кузьма. – Ладно, Алешка, пойдем.
Дверью хлопнули. Ушли. Захихикал на печи Вахромей:
– Всяких голяков стану я перевозить! Чего с них взять-то? Дай им лодку! Ишь, какой он, тройная уха!
– Будь что будет, – решил Алеша, – садись в мою лодку, Кузьма. Может, переплывем. Тонуть станем, Волжанке-служанке крикну.
При фонаре на скору руку уделали лодку. Взвалили ее на плечи и на перевоз, под гору, к Волге. Сели. Кузьма к рулю, Алеша на весла. Плывут. Между льдин лавируют. Где с подходом, где обходом. Где по волне, а где у льдины по спине лодку волоком.
Вода ярится. Хлещут черные гривы из расселин. На середине реки и затерло пловцов. Темка. Напирает льдище, то и жди – нахлобучит ледяной горой. Стужа, ветрено, а с них с обоих пот катится. Льдиной к льдине так прижало лодку, что треснуло днище.
– Ну, Кузьма, держись! Затирает, не выберемся.
– Не отчаивайсь, Алешка, только бы чуть посветлело.
– Хоть полоску бы маленькую светлую! Сразу видно бы, куда править. Эй, Волжанка, добрым людям служанка, что же ты, иль забыла доброе правило? Для милого дружка и сережка из ушка. Кинь нам с бережка белую холстинку, только подлинней, мы бы выбрались по ней.
Никого вокруг. Только Волга черные гривы катит, брызгами обдает. Вдруг будто на берегу девица запела. Да так запела, что половина Волги посветлела. Из-за рваной тучи луна выглянула в прореху. Между колотых льдин засверкала светлая водяная тропинка – волжанкина новинка. Хоть и с великим трудом, но все-таки выбились гребцы на светлую полоску. Оглянулись, а на том берегу кромешная тьма. В одно место уставилась луна, только туда, где лодке проплыть.
Выскочили на берег товарищи. Под куст отволокли лодку. Алеша проводил Кузьму к знакомым, что у Коновалова ткали.
Пока Алеша провожал друга, Вахромей с печки давно спрыгнул, как встрепанный, и про гнилое дупло забыл. На лодке дыра сама зашпаклевалась.
Пристав Еремеев прибежал с нарядом, не мало насулил: за оба конца десять рублев, а коли пофартит в погоне, так пообещал схлопотать Вахромею бумагу на беспошлинный перевоз.
На посульный-то кусок широко разинул Вахромей рот. Встрепенулся.
– Ваша милость, я хоть в землю гляжу, но и на земле вижу, что за народ шатается по берегу. Не поскупитесь еще на пятерочку, так обязательно догоним их. Знаю, что за забота гонит вас на тот берег. Алеха, наверно, только-только от мыска отчалил. Я покороче знаю путь, сгадаю им наперерез у того берега. Только, в случае, вы на меня покрикивайте. Это нужно, сами понимаете. Пусть мужики думают, что вы меня силком погнали.
В Еремееве весу, как в хорошем рождественском борове, под ним половицы выгибаются.
Плюхнулся пристав в смоленую лодку. Вахромейка на весла налег. Сначала от берега-то на светлую полоску потрафили, ходко пошли. Неравно и перехватят Кузьму-то. Да светлая полоска оказалась ненадежна. Блеснула и погасла. На самом-то стрежне и начало кружить: ни туда, ни сюда. Плутали, плутали они впотьмах среди льдин. Совсем закружились. Держат путь вперед, а их, как на грех, отжимает назад к берегу. Пригнало чуть не к мыску, откуда отплыли.
Еремеев вспомнил наказ перевозчика, давай на него покрикивать да со всего плеча шашкой-то в спину молотить. Мол, такой-сякой немазаный, чего ты плутаешь, завтра в стан сволоку, лодки лишу.
Вахромей теперь и сам не шибко рад, что связался с этим боровом перекормленным.
Вспомнил Вахромей про Волжанку-служанку, за добрых людей заступницу. Хмыкнул, припустил блудливую слезу: мол, казенного человека по важному делу везу. Выручай, Волжанка! Только выручи, не поскуплюсь, за твое здоровье свечу дорогую поставлю Николаю угоднику. Кинь с берега на воду светлую новину.
Бушует Волга. Ветер еще злей. Так и прыгают волны через борта. Обоим небо с овчинку показалось в тот час. Швыряет лодку, словно щепку с волны на волну, колотит о льдины.
Вдруг на том берегу в темноте слышно девица запела.
Да так она запела, что еще пуще Волга почернела. Завей, горе, веревочку, – льдина льдину ковырнула, на ребро повернула, вздыбила, обрушила целую гору на хваленую лодку-вездеходку.
Плавает в черной полынье лодка смоляная красным днищем кверху. Да сломанное весло качается на волне. Ни пристава, ни перевозчика.
Через всю Волгу с берега на берег перекинулась светлая новинка-дорожка, где одной лодке только впору проплыть.
Алеша – тем светлым рукавком, где потише-то, и гребет к своему берегу. Видит – лодка вверх дном. Смоленая. Днище красное, с двумя медными буквами: вахромеева лодка.
«Кого же это Вахромей перевозил? – думает Алеша. – Ведь теперь высоковским волгарям беда неминучая! Суд да дело. Человека утопил. Все село замарал. Никто теперь не поверит высоковским. Какие, мол, вы перевозчики?»
Алеша – скорее в село. Поскликал ближних. Так-то и так-то, мужики. Те и ахнули.
– Ах, он, тройная уха, что наделал! Век перевозили, чужой полы не обмочили, а он, на-ко, и сам и седока с собой захватил на тот свет. Чай, дубина, во хмелю был. Всех нас доли лишил, жадный чорт!
Дома Вахромея нет. Жене-то пока ничего не сказали. Багры, крючья побрали, смолья сухого да пакли с керосином. Лодок сорок засветили факелы у Зеленого мыска.
Баграми, крючьями шарят по дну. Волгари знают дно, как в своем корыте. Поддели багром сначала Вахромея, за ним тянут и борова – пристава.
Оказался на ту ночь в Высокове бывалый человек, ночлежник, вроде знахаря, и присоветовал мужикам:
– Если утопленного умело постегать, душа может на прежнее место встать.
Будто на одной реке сам он видел такое диво. Да не послушались его волгари, пошли по домам.
Всю славу волгарей высоковских замарал жадный Вахромейка! Как они выпутались из этой беды – в том мало веселого.
А Кузьму Кленова не раз и не два после той буйной весны перевозил Алеша Бережков через Волгу. Добрые люди знали, у кого Кузьма перевоз держит, да помалкивали.


