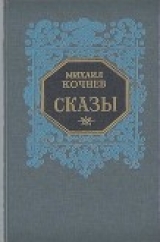
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Простолюдье со слобод, ткачей с затрапезновской фабрики тоже от стара до мала всех силком выгнали, заставили почище нарядиться. Народу – последнее место на берегу. Городьбой по обеим сторонам, где царице пройти, солдаты стоят. Мухе не пролететь, не то, что ткачу протиснуться.
Вот сошла Катерина со своей челядью разнаряженной по мосточкам на берег. Генералы ее белое шелковое платье за подол держут, чтобы пыль не мела.
Губернатор на коленки припал перед ней, чуть парик с него не свалился от усердия. Царица ему ручку, бриллиантами усыпану, протягивает – целуй. Поцеловал он, за ним повалили к руке дворяне, купцы, самые-то воротилы. Затрапезнов хлеб-соль на золотом блюде, салфеткой накрытом, подносит, а ту салфетку также Диаклетиан ткал. Купчихи с дочками тоже к руке лезут.
От берега до губернаторского дома персидские ковры дорогой разостланы. Вся улица отборной, как янтарь, пшеницей посыпана, цветы, флаги на всех заборах. Купцы, дворяне порадели царице на удовольствие.
Народ к царице не подпущают. Да фабричным от того ни жарко, ни холодно, к руке приложиться, – чай, не к караваю, сыт не станешь. Поглядели со стороны и ладно.
Только Диаклетиан мечется по берегу. Хочется ему к царице проскользнуть. Он и так и этак, а ходу нет ему. Оттерли Диаклетиана.
Тронулась царица со свитой к карете. Идет, на народ не глядит, старухи все попадали, лбами в землю уткнулись, крестятся, приговаривают:
– Мати, наша заступница, благодетельница, перед богом за нас, грешных, ответчица.
А этой ответчице и дела до народу нет. В гости-то она не к ткачам приехала. Все старухи, бабы ниц лежат, одна Маринка с букетом стоит, как высокий куст лазоревый. Заметила ее царица, властно оком мутным повела:
– Вон ту, с цветами, ко мне.
Знать, красота маринкина поразила ее.
Затрапезнов с губернатором метнулись к Маринке, схватили под локотки. У Маринки руки-ноги задрожали. Вдруг да сейчас царица жалобу в букете заприметит, возгневается, прикажет Маринку в Волгу бросить. И бросят эти, в узких белых штанах, царицыны прихлебатели, с народа поскребатели. Затрапезнов с губернатором первые утопят, им что, половину города снесут, лишь бы царице угодить.
Припомнил тут Затрапезнов плясунью у костра, и ладони у него стали мокрыми, уши холодными.
«Не нажить бы с ней беды. Что за птица? Не наплела бы чего монархине».
Подвели Маринку к царице, лбом ткнули о царицыны туфли. Та локоть холеный подставляет – приложись, мол, отведай царской благодати.
Маринка поцеловала локоть, отпихнули ее в сторону.
Царица букет передает вельможе – длинноногому, синегубому старикашке в узких белых штанах, в черных лаковых, словно зеркало, сапогах.
– Будет тебе, князь, от царицы подарочек, знаю, какие цветы мой князь любит, – и сама кивает на красавицу Маринку.
«Все пропало, – молвил себе Диаклетиан, как увидел, что букет-то у вельможи в руках, – не дойдет до царицы наша жалоба».
Села царица в золоченую карету, поехала обедать. И, вишь ты, братец, не к дворянину губернатору, а к купцу, к Затрапезнову. За ней на версту поезд протянулся. Старый вельможа в белых штанах сел с Затрапезновым вместе. Затрапезновская карета за царицыной катится следом.
Купец всю дорогу похвалялся, как-де вольготно живется на его мануфактуре работным людям. Вельможа слушает, головой кивает, сам цветы маринкины нюхает. Приложился носом к белому цветку, да и вынь тот цветок из букета. Рот шире варежки разинул – грамота цветком сложена. Развернул, жалобу прочитал и Затрапезнову подает:
– На-ка вот, погляди, какие цветы на волжском берегу цветут.
Затрясся Затрапезнов от ярой злости.
– Смутьяны с низовья идут, вот и мутят. Ради бога, не помрачайте светлого путешествия в наш благодатный край их императрическому величеству, а мы уж вам посоответствуем.
Вельможе того и надо – изорвал бумажку, на ветер пустил.
– Что за девка? Чьих родителей? – у купца спрашивает.
– Одному богу ведомо, ваше сиятельство. Может, из-за Которости, а может, со дна Волги. На моей мануфактуре нет таких.
Вечером соцкие приходили к Маринке, а она, на счастье, была у соседки. Диаклетиан не присоветовал Маринке пока на люди показываться, а он, мол, все узнает, выведает, дошла ли до царицы жалоба. Не дошла – новую подаст.
Диаклетиан так рассудил: букет попал старику-вельможе длинноногому, челобитная от рабочего люда пролежит под спудом. Надо ухитриться царице в руки подать жалобу.
Царица у Затрапезнова со своей свитой пиры пирует. Вино рекой льется. Для царицы вина у купца не застоялися, мёды не заплесневели. Расщедрился купец, за вечерним столом внес серебряную повалиху бриллиантов и осыпал бриллиантами царицу. Сам в ноги ей упал, подносит чудесную скатерть с узорами Диаклетиана. Приглянулась скатерть царице, и она в долгу перед миллионщиком не осталась. Вынула гербову бумагу, печатку золотую приложила, подает ему:
– За эту скатерть получай из моей казны на новую фабрику.
Кроме денег – земли, леса, угодьев, лугов и прочего несчетно количество десятин безвозмездно отписала. Торгуй, езди с товарами по всем селам, городам, по всем торженцам, базарам, ярмаркам беспошлинно, не плати ни постоялого, ни кружечного. Эва, сразу сколько отвалила!
Пока там пировали-кутили, Диаклетиан с Галонкой Тырой да Лукой Ковырялой сидели в спальном бараке, думали-гадали, как царице жалобу передать.
Диаклетиан больно был настойчив, несговорчив. Порешил – во что бы ни стало на своем поставить.
Давненько над одной салфеткой радел он. На той салфетке – как живой, волжский цветок, каждая клеточка. Все больше в неурочны часы трудился, по ночам, при светце. Прочил Маринке на подарочек ту салфетку. Здесь он такой узор придумал, как душа его хотела, как сердце просило.
В одночасье судьба той салфеточки повернулася: пришлось салфетку царице дарить. Узорец был чуток недописан, еще ночку посидел, что задумал – сделал: жалобу внес в узор, коротенько, но ясно, зоркий глаз заприметит.
Утром салфеточку за пояс заткнул, пошел в рисовальню, сидит над новым узором.
Царице захотелось заведение купеческое повидать. Припожаловала со свитою на фабрику. Старый вельможа с трегубый, в белых штанах, с ней же. Купец ведет гостей по фабрике, ужом извивается.
Царица его спрашивает, сама на старого вельможу глаз косит:
– Это твоя, что ли, мне вчера цветы поднесла?
– Не моя, а живет где, – узнаю, – купец говорит.
– Как ее зовут?
Растерялся купец, не знает, что ответить, да и ляпнул:
– Волжанка.
– Эту красавицу Волжанку я возьму к себе в служанки. К моему отъезду разыскать ее и на мой корабль доставить, – повелевает царица.
Диаклетиан эти речи слышал.
Ровно горсть гороху царица в глаза купчине бросила, так и зарябило, и в жар, и в озноб его кидает: от Волжанки сызнова жалоба может на него поступить к царице.
– Ваше величество, да у нас в купецких домах получше этой девки есть, – наворачивает купец разговор на свою борозду.
А царица:
– Хочу эту.
Пришлось купцу прикусить язык.
– Который тут мне скатерти расписывает? – царица спрашивает.
Мануфактурщик к Диаклетиану подбегает, шепчет:
– Становись на коленки.
Встал Диаклетиан, поклонился земно царице. Подошла она поближе, пытает:
– Что тебе, мастер, нужно за твое старанье, уменье? Проси, будет по-твоему.
Диаклетиан вынул салфетку узорчатую.
– Одно мне надо, примите этот подарочек от рабочего человека и накройте им стол, на котором вы указы по фабрикам, заводам составляете.
– Что ж, давай. Спасибо тебе.
Золотой Диаклетиану бросила, сама и не глянула на салфетку, на руку кинула тому вельможе – старичонке синегубому, в белых штанах. Опять в руки вельможе попала жалоба Диаклетиана.
Говорили в старину: до бога высоко, до царя далеко. Но на деле-то выходило: если и близко царь – не велика благодать.
Несет вельможа салфетку, сам все на узоры поглядывает. Царица-то впереди идет.
Пригорюнился Диаклетиан. Попадет салфеточка на стол, да не на тот. И золотому дареному Диаклетиан не рад. Все старанье прахом пошло.
Воротились с фабрики, устала царица, отдыхать на балконе легла под балдахином шелковым. Старый вельможа зашел к хлебосольному владельцу заведения в тайный угол, развернул дареную вещицу.
– Что же ты, купчина, какие салфетки ткешь? Такой узор – прямо тебе разор. Выткан сей подвох шелковой ниткой, да хитрой рукой, прыткой.
Ясно: старикашка метит ударить по купецкой толстой мошне.
Купчина много говорить не стал, ключ с пояса, да – к сундуку железному. Поставил на стол мешочек с золотом. И опять все шито-крыто. Вельможе-то дает другую салфетку, тоже диаклетиановой выделки. А эту в свой ларец кинул.
Ночью у мануфактурщика опять пир-кутеж.
На ту пору, на тот час Диаклетиан потайными тропинками прибежал к Маринке в избушку. Сидят они в чулане на лавке, в оконце луна заглядывает, за стеной мать прядет на гребне.
– Эх, Маринушка, дорогая моя, радость ты моя! Пропала вся наша затея. Это не горе, есть другое – оно горше вдвое. Какой нынче месяц-то невеселый на небе…
Обнял Диаклетиан девушку, прижал к широкой груди. Так-то горячо он и не целовал, кажись, никогда, будто сердце его чуяло, что впоследние коротают они эту ночку вдвоем.
И говорил он ей, себя не помня:
– Везли-то меня сюда – ведь не думал, что привыкну здесь. Да на счастье, как увидел тебя, все пошло по-новому. Если и писал я хорошо расцветки, так это ты мне их принесла. Ты сама – мой лазорев узор.
Густой чуб уронил Диаклетиан на грудь девушки, знать не решается что-то сказать.
Маринушка догадлива была.
– Что ты голову, сокол мой, повесил, или беду чует ретивое?
Рассказал он ей о царицыном хотенье.
– Зачем только я научил тебя цветы подавать царице! Загубил я, бестолковый, и тебя и себя, потопил я нашу радость навсегда в Волге, под проклятым царским парусом. Ведь напасть-то за порогом стоит, нас дожидается.
И заплакал парень первый раз в жизни, не стыдясь горьких слез, горючих.
– Царская ты теперь, государская, не царице ты нужна, нужна ты тому долговязому вельможе синегубому. Вот кому тебя прочат.
Помутнело, потемнело в глазах у Волжанки. Даже было и не поверила.
– Нет, уж лучше с камнем в Волгу. Не царице, не вельможе я на поруганье росла, выросла.
– Погоди, постой, подумаем давай, ум хорошо, а два лучше, может, как выкарабкаемся из беды, только бы вместе. Ведь лучше обоим в Сибирь, чем так-то…
Но не дали им договорить. Гремят в сенцах за дверцой посыльные: один от царицы, другой от Управы, третий от губернатора. За Маринкой, за кем же кроме в такой неурочный час? Так и упало у нее сердечко. А Диаклетиан шепнул ей: «Ты, мол, только не горячись, не груби, улыбайся и на все отвечай: «Премного благодарна, мол, с удовольствием пойду к царице во служанки», только бы они тебя в покое оставили, хоть до утра, а там бог нам судья да добры люди». Сам за сундук прилег Диаклетиан. Маринка не помнит, как и дверь открыла, но духом не пала, встретила улыбчато, низко в ноги всем поклонилась.
– Ну, голосиста пташица, счастливый тебе талан выпал, самой царице ты приглянулась.
– Ишь ты, ведь из лачуги и прямо во дворец!
– Ни купецких, ни, боярских девок не нужно, а ты понадобилась.
Опять низко поклонилась Маринка.
– Вот спасибо-то вам, какую радость вы мне принесли, теперь я всю ночь от радости не усну…
Мать Маринки за переборкой как это услышала, так без памяти и повалилась на посудницу. Дочка к ней с уговорами:
– Не плачь, маменька, это же счастье нам выпало, век будем молиться за царицу…
У самой сердце готово от боли на куски разлететься. Уж так-то ласточкой, касаточкой притворяется. Хочет посланных задобрить, лаской им угодить, чтобы хоть еще на единую ночку оставили ее с другом и с матерью.
– Еще раз, милостивые господа, в ноги вам кланяюсь, соберу я сейчас все свои платья, а утром завтра или когда прикажете приду сама, куда мне будет царицей велено.
– А велено тебе, кинареица, прибыть к светлейшему князю Порфирью в его покой. По повеленью светлейшего мы за тобой прибыли. Собирайсь, пошевеливайсь, ночь-то долга, около князя успеешь, напоешься.
Торопят Маринку, стоят у порога, ну куда бедной девчонке деваться от трех таких лоботрясов? И подумала она в ту минуту, помыслила: «Волга-заступница, поилица ты наша, кормилица, что же ты катишь волны свои не под самыми окнами? Белой чайкой пала бы я на воду. Что же ты, гром-молния, по небу не прокатишься в этот час? Спалила бы ты, молния, мой дом вместе со мной, поразила бы ты моих обидчиков…»
Но на небе, как и прежде, светит ясный месяц, не тревожат его ни боли, ни печали людские. Только свет его синий искорками засверкал на щеках у Маринки, в слезах у девушки. И уж было улучила она такой миг, чтобы на улицу броситься. А усатый зыкнул:
– Эй, девка, не дури, собирайсь по чести, не то хуже будет.
Ударил он Маринку. Она бросилась в оконце. Шум, крик поднялся. Издевка над человеком пошла. На крик-то выбежал Диаклетиан из чуланчика. Сбили картошину с воткнутой лучиной, впотьмах тычутся лбами, машут кулаками. Не поймешь, кто кого тузит. Пожалуй, ушел бы Диаклетиан, но какой-то из них пронзил ему плечо шпагой, что ли.
А Маринки как и не бывало в избе, будто чайкой взвилась и на Волгу улетела. Глядят – по бумагам-то Диаклетиан ткач из покупных, потому в сыскную коллегию его не повели, а прямо к хозяину на двор. Рассказали все хозяину.
Царица после хмельного пира еще изволит нежиться, а уж мануфактурщик по двору фабричному расхаживает, то к одному, то к другому дубцу приноровится, хороших палок припас. Не дожидаясь, когда уедет его почтенная гостья, решил дубьем парня отпотчевать, – вот, мол, государыня, как учим народ свой почтению и повиновению.
Привели Диаклетиана, спутанного по рукам, с распоротым плечом. Помутнели соколиные глаза у молодца, только брови у него задергались, лишь одно бросил он хозяину:
– Ты, мытарь, ноздри мне рви, меня не жалей, – мастерство мое пожалей, не нашим ли стараньем ты славен и царство наше славно? Где царица-то? Чего же она смотрит?
Мануфактурщик стал говорить вкрадчиво да насмешливо.
– Здесь она, здесь. Она смотрит, очень даже смотрит, какие цветы ей подают, какие узоры на салфетках ткут, кто ее покой возмущает, всех по заслугам обделяет. Мне бог послал – на новую фабрику подарила, да лесу, да угодий. И тебя вот не забыла. Награда тебе пожалована. Принимай. Не знаю, все-то враз унесешь ли? Перво-наперво за твои хитрости-кляузы два ста батогов. Во-вторых, за твои поклепы на хозяина – сто да полста розог березовых мягоньких. Да на острастку, чтобы и впредь ты спокойствие монархини не омрачал, еще полсотенки, это уж сверх сыти получай. За свою кляузу-жалобу стал ты богаче всех. Без портного, без иглы я велю тебе сшить в самый раз кафтан на твоей спине клетками-салфетками, носи кафтан, не снашивай, другим жаловаться на хозяйские порядки заказывай. Эй, Гришка, Мишка, возьмите его, угостите, как я сказал!
Диаклетиана три дородных мошенника на фабричном дворе растянули на бревне и давай плетьми тело белое писать.
Бросили его связанного у бревна. «Наперед кляузы пущать станешь, – ноздри вырву, на цепи прикажу от барака до ткацкой водить», – вот каких наград-почестей насулил мануфактурщик первостатейному скатертных дел мастеру. А вечером-то кузнец в замки заковал Диаклетиана, и повели его по городу к острогу.
Как вели-то его в замках, с перевязанным плечом, на повязке руда-кровь запеклась, все это Маринка из надежного потайного оконца от подружки своей видела.
На мануфактуре в тот же день было сказано: надлежит Диаклетиану на вечно поселение итти на Камчатку. Своей печаткой царица этот указец скрепила. Шепнул ей синегубый вельможа, что и с жалобами кляузными к ней этот ткач лез, народ фабричный мутил, что он и Маринку спровадил в потайное место. Разгневалась царица и своей ручкой приписала на том указе: сему ткачу ноздри рвать, а потом уж на Камчатку гнать.
Видела Маринка из потайного окна, как ноздри рвали у ее друга на фабричном дворе. А других-то ткачей на это изуверство выгнали глядеть, да чужим несчастьем казниться. Перестала Маринка на улицах показываться. Да ведь летом не зимой, и в лесу прокормишься на худой конец.
Искали, искали Маринку – не нашли. Не полюбилось это царице: так синегубого вельможу и не порадовала.
Села царица под золотой парус и поплыла вниз по матушке по Волге. Да и то молвить: что не плавать ей? На своем веретене она со всей России золотую кудель пряла, последнее у мужика отбирала, а с мастерового семь шкур драла.
Так ткачи-то наши ни при чем и остались.
Когда царица на корабль садилась и впоследние доложили ей, что так и не нашли красавицу Маринку-Волжанку, разгневалась царица на губернатора и назвала его при всех дворянах гуменной вороной. Да строго-настрого приказала:
– Не будет через месяц у меня на дворе эта взбалмошная девка, – не сидеть тебе больше в губернаторах. Со дна Волги достать чтобы!
Губернатор челом царице в ноги:
– Землю от Ярославля до Астрахани на семь аршин взрою, всю Волгу неводом прочищу, а найду, как мне монархиней повелено.
Корабли поплыли, за кораблями по берегу мальчишки бегут. Не успела царица убраться со двора, настала ткачам худая пора. Оставила царица ткачам милость, от нее спина у рабочего под плетью ломилась. Не забыл хозяин ни одной буковки из их жалобы.
Но самое горевое житье настало с той поры для Маринки. Диаклетиана угнали. Самой на мир показаться нельзя, будто волчица затравленная. Повсюду ее ищут. Попадешь им в когти, прощай ты, вольная воля!
А ведь не зря она выросла на волжском берегу, кажду весну вереницы птиц встречала и провожала, стоя на бугорке. И сама за ними вдаль мечтой своей уносилась. Не напрасно, знать, мнилось Маринке, что слаще воздуха, чем на Волге, нигде в мире не было, да и нет. Сколько песен хороших по лету приносили с собой бурлаки, а как они пели! Не у них ли и песни-то Маринка переняла. Не у них ли и плясать-то она выучилась. И в такие минуты, бывало, покажется ей, будто она и есть та вольная белая чайка, что грамотки на белом крыле писала.
Не с того ли, как подует ветер с Волги, а Маринка сидит с другом на бугорке, вскочит она, бывало, и, как чайка крылья, раскинет руки навстречу ветру, словно вспарить на воздух птицей залетной хочет. Хоть и небольшая, но была у нее воля, а теперь и этого лишат. Кто за нее заступится?..
Месяц плавал на синем небе, как белый лебедь по морю. От месяца дорожка зыблилась, дрожала на воде. Дремал сосновый лес на высоком берегу. Вдруг заплескались на Волге сотни крыльев. Брызги жемчугом разлетались. Высоко брызги летели, падали на белый камень, что лежал на берегу.
Какие птицы били по воде широкими крыльями, и не скажешь, но скорей всего это пали на воду белы гуси-лебеди. В радость, в сладость вольная волжская волна. До глубокой полуночи они тешились.
Той полуночью пробиралась Маринушка задворками мать старую проведать. Тут и заприметили ее злые люди все из той же из сыскной Управы. Погнались они за девушкой. Их дюжина, а она одна. Вихрем от них пустилась Маринка. Через плетни, заборы перекидывалась, хотела к лесу выбиться, но пригнали ее к белому камню на берегу Волги. Одно спасенье – бросайся в воду. Ширина-то здесь, глубина-то! На воде гуси-лебеди гуляют, широкими крыльями плещут. Глянула на них Маринка и стоном вырвалось у нее из груди:
– Родные, погибаю ни за что, хоть бы вы спасли!
А уж Губернаторовы слуги ближе да ближе улюлюкают, с трех сторон окружают, только на крыльях и можно вырваться. Пока они по слободкам-то гнались да гукали, многих и ткачей разбудили, ну, жители-то, – вестимо, любопытно, кого ловят, – тоже побежали к реке по берегу.
Вот уже торопятся десятские по закочкам, сейчас схватят. Подбежала Маринка к обрыву и крикнула:
– Прощай, маменька, прощайте, люди добрые, прощай, милый мой полюбовничек.
С высока крута берега в Волгу девушка кинулась. А навстречу-то ей поднялись с воды птицы белые и полетели в теплу сторону, к синему морю. Только плыл по воде лазоревый платок.
Сколько ни шарили неводами, ничего не нашли. Может, гуси-лебеди знают, куда делась Маринка. Но люди добрые, что в ту ночь на берегу-то были, будто все в один голос говорили: нет-де, вовсе не утопла Маринка-Волжанка, подхватили ее птицы, на воздух подняли, и сразу у Маринки, как у чайки, легкие крылья выросли.
Не с того ли так белы, чисты крылья чайки волжской, что пала на них чистота-красота девичьей души?
Так вот и сберегли наши фабричные в памяти, как лазоревый узор, судьбу девичью. А за то, что люди не забыли ее и не единым словом не положили напраслины на ее чистое сердце, весной она с первой вереницей на волну чайкой садилася, помогала, выручала добрых в беде. И стала Маринка-Волжанка на многие годы не царице, а добрым людям служанка.


