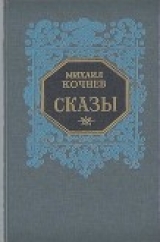
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
В тяжелый год
Не сразу заулыбалось солнце в наших высоких оконцах.
Старая-то была такая жизнь, хоть живым в гроб ложись. При царских-то порядках, при буржуях-то сколько было народу искалечено, изувечено, сколько золотых рук охаяно да от родного дела оторвано!
Уж то ли не мастер – золотые руки был у нас в отделочной расцветчик Кирилл Кумачев! Еще в ту германскую войну, в самую-то разруху, слетел Кириллушка с места. Не ужился с главным мастером Лисицким. Какой узор ни представит – на Лисицкого никак не угодит, не потрафит. Не стерпел Кирилл, – а он был крутой, – разругался и ушел из отделочной. Да так и остался без работы, – стало быть, и без куска хлеба.
Дальше – больше, прижало Кирилла, жизнь-то день ото дня тяжелее.
Шло время, за войной, как за бурей гроза, революция грянула.
Народ рабочий снова весь по фронтам. Фабрики день работают, неделю стоят, а многие и вовсе замерли. За что ни возьмись – этого нехватки, того недостатки. Кирилл без работы ходит сам не свой. Не будь хромым, на фронт бы пошел. Товарищ Фрунзе тогда со своими полками шел в Туркестан, наших, ивановских, много с ним отправилось.
Можно сказать, с медным грошем переломленным, что оставил царь в наследство России после себя, народ принимался вершить такое дело, которому и примера в жизни не было. Всю жизнь начали с корня перестраивать.
Мастера-то, хозяйские прихлебатели, вроде того же Лисицкого, свои шубы-еноты забрали – и поминай как звали. Без нас, мол, советская власть долго не наздравствуется. А каждый честный человек, если совесть у него теленок не слизал, частицу той тяжести доброхотом принимал на плечи. Но тяжелее гор высоких легла гора тягот да хлопот на богатырские плечи нашего дорогого товарища Ленина.
Ни хлеба не было, ни хлопка, ни дров; тиф лютует, голод косой косит. Одежонка, обувенка подбилась, поизносилась. А тут каркает над нашей безунывной головой все мировое воронье, летит с разных сторон: к дележу бы не опоздать. От восходу алого до заката темного, от теплой синей волны до белой льдины небо-то над нами пороховым дымом заволокло.
На нашей фабрике в то время стал за директора Фрол Сапожков, свой же ткач. Плохого не скажешь, с умом дело вел. Но все-таки третьей доли, не пряли, не ткали против прежнего. Половина станков стояла. А отделочная, так та почти и вовсе перестала жить. Ни мастеров, ни красок. Да и не до лазоревых было узоров: нужны сукно на шинель да солдату на гимнастерку фланель, марля на бинты, каждая холстинка, половинка сукна дорога, чтобы у советского воина нога не замерзла.
Пришел Кирилл к новому директору – они и до того друг друга знали – и говорит:
– Вот что, Фрол, сказал я себе: кончаю мешочничать. Надоело по горло. Не по мне такая жизнь. Я же корня-то не купецкого, нашего трудового. Давай отогреем мастерскую, и стану я снова лазоревы узоры писать. Не век быть войне. А пока что учеников возьму, глядишь, я тебе еще молодых мастеров выучу. Дай ты душе моей простору.
Не внял его просьбе Фрол, не оценил, не дал его душе простору. Сбил спанталыку приятеля: теперь-де не до твоих узоров, хочешь государству помогать – приходи, возьму на работу, за чесаля поставлю. Из расцветчиков да в чесали! Не принял Фрол в расчет, что этим обижает человека и его ремесло почетное.
И схлестнулись они в фабкоме, да и не на шутку, так что, кажется, на всю жизнь рассорились.
Снова Кирилл, как неприкаянный, ходит-бродит, дела себе по душе не находит.
Вот пришла зимушка-зима, вьюжливая да метелистая, наткала белых холстов на тысячу концов. Уж такая ли голодная и холодная выпала! Народ-то не дремал, не сдавался без бою: по всем далеким губерниям пошли рабочие отряды за хлебом. Да хлеб-то, он эва где – у чорта на куличках. Один отряд в Казани, другой в Рязани, не едут туда сани. В деревнях кулаки хлеб прячут, из обрезов стреляют, а середняк за хлеб ситцу просит: сидят раздеты, разуты. Ну ладно, что же, и ситцу дадим, да на чем повезешь за тыщу верст? Каждое колесо, каждая железная ось на строгом учете. У государства есть и поважнее, понеотложнее дела-заботы: только успевай снаряженье на фронт поставлять, армию подвозить, раненых. Да мало ли чего! Как подумаешь – и где народ сил столько брал, чтобы все пережить, переломить?
Весна пришла, мало радости принесла. На той фабрике, где Кирилл раньше работал, кое-как добыли семян на посев. Проведрило, собрались свое поле пахать. У каждой фабрики свой план. Улицы, овраги, горы – все взрыли, подняли. Пахать – оно, конечно, не шутка, да пахать-то, вишь, не на ком, нечем. Вот беда-то!
Кончают работу. Фрол Сапожков напоминает: сегодня, мол, всей фабрикой на субботник – поле фабричное запахивать. Попробуй после смены еще смену протаскай на себе плуг, попаши! Небо ясное, милый мой, черной тучей покажется. А все ж таки ходили, пахали, субботники, воскресники выполняли.
На пашне дюжинами в плуг впрягалися. Директор Фрол Сапожков рядом с ткачихой Лизаветой Веретенниковой тянут, плуг из последних сил. А уж и без того все вымотаны. Фрол только зубы стиснет, как тиски, идет бороздой молча за коренника в самодельной лямке, налегает грудью на кленовое дышло. Рядом-то с ним Лизавета кланяется тому же дышлу. Жалко бабу-то сделалось Фролу. Говорит:
– Ты, Лизавета Ивановна, отдохни, мы уж как-нибудь сами, без тебя, твою долю осилим.
Остановились. Лизавета ладонью размазала пот соленый по щекам. Еле-еле отдышалась она, работяга безотказная. Посидела на меже. Потом встала, ответила:
– Кабы сердцем, душой не понимала, ради чего все муки принимаю, перемогаю, кажись, давно бы и помину-то от Лизаветы тут не было. Тяжело, а вот не поддамся беде. Назло разным титулованным державцам, белым генералам, князьям, купцам, приползням заморским, всем проклятым мировым буржуям. Не то что лопатой да киркой-мотыгой, надо будет – ногтями землю всцарапаем, зубами выгрызем, свое возьмем. Не уступим голоду, не сдадимся ни в жизнь паразитам-неприятелям. Наша возьмет! Ленин и вся его партия с нами. Выстоим.
Вот в чем весь секрет таился. Он, секрет-то, на первый взгляд, такой простой, но не забудь – правда в нем неизмеримая. Слова-то эти у Лизаветы из самой глубины сердца вырвались.
Однако много ль соберешь с подсобного клина? Опять зима. Опять та же горюха. А эта зима еще злей. Из четверых ребят у Лизаветы Ивановны в ту зиму тиф унес двоих.
В тот год ткачам тяжело пришлось. Ткать нечего. Продотряды телеграмму за телеграммой гонят, и одна другой не легче. Первый шлет: хлеб, мол, есть, дело за вагонами. Из другого края: хлеба, мол, девать некуда, шлите ситцу. Одно горе не огоревали, другое на пороге: паровозы на боку лежат, как старики дряхлые. А те, что ходить могут, топить нечем.
У Сапожкова на ткацкой дела невеселы. Однако голову он не вешал, и так и этак прикидывал. Но видит, что пришел крайний час, своими силами никак не управиться. Посоветовался Сапожков с одним, с другим и с Лизаветой Ивановной совет держал. И сговорился пойти за подмогой в Совет. Председателем в те годы был старый ткач, большевик подпольной славы. Все его знали, любили за отзывчивость души рабочей. А у председателя народу-то полным-полно, словно уговорились все к одному часу, в один день понаехали чуть ли не со всей губернии.
– Ну, ты что, Фрол? – председатель Сапожкова спрашивает.
Не успел Сапожков просьбу выложить, выходят шуяне – неуемные миряне, тоже ткачи. И у них печаль не слаще нашей: не нынче-завтра фабрики останавливай, топлива осталось – в ребячьей шапке унесешь.
Но они-то не простаки, приглянулся им поблизости торф, уж давно они на него поглядывали, как зять на блины. И решили шуяне потихоньку да полегоньку торф этот на свои фабрики забрать, в печи положить.
Председатель их порадовал: мол, при всей моей любови к вам, не дам ни единой горсточки. Лучше и не просите.
Торф-то был под бронью у Ленина, только сам Ленин и вправе был снять ту бронь. К Ленину в Москву ходоков послать? Ленина от дела отрывать? Но ведь без топлива топки гаснут, немеют гудки. Хочется председателю помочь ткачам, не знает, чем и как, голова кругом.
Вскоре середские приехали. У них еще хуже. Топлива остается – в зубах поковырять. А недалечко от Середы вылезло из кондовых лесов торфяное болото, скажем хоть, Космынино – его и в год не объехать, тепла-то в нем, пожалуй, не меньше, чем в солнце. Середские сами бы и торфа накопали, сами бы и привезли. Да поди ты, сунься без спросу.
Не пущают. Как так? Почему? Советская власть все земли, леса и недра отдала народу. А тут, видишь, нашлись хозяева из соседней губернии, не пускают середских на свое болото: вы, мол, из-за межи, вы не нашенские. Что ты с ними сделаешь? А ведь болото – не курица, не перетащишь его в корзинке поближе к своей ткацкой.
Просят середчане председателя: или, мол, ты к нам топливо, откуда хошь, гони, или, куда надо, пиши бумагу, чтобы Космынино болото к нам приписали. На том болоте – не мхи, не кочки, а жизнь наша.
Кабы на то воля председателя, он бы рад по кочке сам все болото перетащить поближе к Середе, в свою губернию. Но никто ж не даст ему прав от чужой губернии откусить полбока. Председатель-то уж говорил с соседями неуступчивыми. А те в ответ: болото нам отдано. Болото на новую карту занесено давно. И тому болоту хозяин дан.
Тут еще председателю из губпродкома говорят: муки осталось в глазах попылить, нечем детей кормить, на исходе подмет, свал, отруби, солод – тоже вчера остатки роздали.
Стиснул кулаки председатель, по комнате зашагал.
И такая тишина, словно свинцовая, повисла над всеми. Тут-то и повела речь Лизавета Ивановна:
– Теперечко вроде бы обидно нам духом падать: сколько всего перетерпели, вынесли, чай, уж наше-то солнце теперь не за горами. А чего нам, товарищи, бояться своей чести, своей совести? Да, к примеру, не ради красного слова, себя возьму. А разве я сколь могла, насколь сил моих хватало, разве не работала, не помогала? Работала. Разве я сама в плуг весной не впрягалась? Впрягалась. Торф копала? Копала. Дрова рубила? Рубила. Вот они, мозоли, никогда не сходят – ни зимой, ни летом, светят одним цветом, ни мылом их не смоешь, ни алмазом не сведешь. С отрядом под Казань за хлебом ездила? Ездила. Чуть голодную в степи волки не съели… Да и каждый-то из нас все отдает, ничего от советской власти, как от родной матери, не таит, потому что в свое дело крепко верим и в нерушимое слово Ленина. А теперь вот так пришлось, что нужна и нам выручка. Я так скажу: не осудит нас Ильич за это, еще спасибочко нам скажет, вот помяните меня о ту пору.
– За что спасибо-то? – обронил слово кто-то.
– А за то, что сознанье в нас большое есть. Вот за что. За хорошее. За плохое спасибо не говорят. Из последнего он поделится, поможет нам. Бумагу зря изводить нечего, печатями скреплять. Я так скажу: человек был и есть краше всех бумаг, всех печатей. Нечего думать, гадать, скорей надо выбрать самых верных и правильных людей и послать к Ленину.
Так и решили. Фрола и Лизавету тоже выбрали. Через день-два и в путь-дорогу пора.
Вместе с председателем Совета поехали ткачи-ходоки в Москву. От нас до белокаменной езды-то всего – ничего. Приехали – и прямо к Ильичу. Как узнал он, сказывали ходоки потом, что ткачи к нему со своей нуждой приехали, желали бы хоть на минутку повидать его, будто бы другие дела отложил. Вот наши и вошли, одеты запросто, у кого что есть. В Кремле дело это было. Свету-воздуху много. Простые люди пришли к такому человеку, что всему миру виден. Сказывают, и постесняться-то наши ходоки даже не успели, а уж Ленин приветил их, собрал всех поближе к себе, вокруг стола.
Ровно, соколята в гнезде вокруг сокола расселись. Повели разговор-беседу. Говорить-то они не наговорятся, но сами все тайком на часы поглядывают. Наказ дружеский не забывают: когда входили по лесенкам, приступочкам, им у дверей секретарша присоветовала долго Ильича не задерживать: минуток, мол, пяток поговорите, и хватит, потому что на этот час у Ленина неотложная работа под рукой, на столе. А наши, чай, не лыком шиты, не колуном тесаны, сами понимают, что всякая минута Ильичу дороже золота. И так-то умел Ленин со всяким разговор повести, что у каждого само слово на ответ из глуби души просилося.
Давно это было, а не забудется никогда. Только кто же может слово Ленина сказать-передать? Кто силу души его передаст во всей красоте? В сердце, в памяти сиянье душевных слов ленинских навечно осталося.
Все-то в жизни рабочего люда было дорого Ленину. Всю землю мог объять он мыслью и каждому труженику дать долю радости. Наши заботы и радости были его заботами, близко к сердцу его лежали.
Всем Ильич руки пожал, всех усаживал. Он про старое наше бывалое не забыл спросить: как, мол, думаем о том, что было и что есть сейчас? Как раньше жили, сколько получали, помногу ль работали? Фрол Сапожков отвечал на то: не взыщите, мол, Владимир Ильич, уж какие мы рассказчики, вы получше нашего всю старую нашу жизнь знаете, всю глубь людского горя измерили. Мало веселого в прежней жизни.
Слушал ткачей Ильич, на заметку брал. А потом-то разговор неприметно на иной лад повернул: купцов, мол, клянем и клясть будем, поделом им клеймо каиново, а теперь давайте думать, как сделать, чтобы наша страна стала всех сильней, чтобы наш народ стал всех счастливей.
Свои мысли ткачи сказывали. Видят, что и ихний совет Ленин ценит, бережет каждое слово умное, рабочим сказанное, ставит со своим рядышком.
Собеседники жалеют дорогое время отнимать у Ильича. А Ленин: нет, мол, рассказывайте. А когда ткачиха Лизавета Веретенникова старое припомнила, Ленин взял карандаш, на память себе записал о лизаветиной горькой доле. Лизавета, как увидела, даже смолкла от удивления.
– Продолжайте, продолжайте, Лизавета Ивановна, я вас слушаю, – так тепло, душевно, с улыбочкой, еле заметной, Ленин ткачихе говорит.
Есть что припомнить Лизавете Ивановне, есть чем погордиться, есть что внукам рассказать. Как по-простому, по-рабочему отвечала она Ильичу, ее-то ответ ручейком впал в море необъятное мыслей Ленина.
Будто так было. Говорит Ильич:
– Все, Лизавета Ивановна, ты поведала – как пахала на себе, как детей на погост несла. Сколько ты на свои плечи приняла, но ничто не согнуло, не сломило тебя. А и с виду не богатырша ты. Откуда у нас сила такая? Не за деньги же она куплена.
Слов на ответ, Лизавета не искала, она их на сердце у себя держала:
– Владимир Ильич, сила-то вся в нашем сознании. Без того сознания рабочего никогда бы нам не выстоять.
Думала-то Лизавета по-своему, а совпала ее дума с ленинской. Похвалил он ее за то, что истинную правду молвила.
Во все-то складочки, во все порядочки рабочей жизни вникал Ильич. Про детишек первей всего спросил: как питаем, обуваем как. И про поля, огороды наши, про воскресники речь была.
У кого память коротка, тот откладывает дело в долгий ящик, а долгий-то ящик – тот же гроб, значит, дело похоронено. Не откладывал Ленин просьбы ни на едину минуту, нынче же обещал за ткачей перед Советом Народных Комиссаров хлопотать.
Высоко орел над землей летит, далеко видит: сколько колосьев на полях зреет, сколько рыбы в реках, в озерах плещется, сколько сел-городов на земле стоит, сколько труб фабричных дымит во всю полноту, сколько в половину полноты, сколько стоит омертвелых.
Чуткое ухо у орла. Слышит он, о чем колосья, травы и полях, в лугах шепчутся, что листья, ветки в лесах поговаривают, о чем волны на морях перекликаются, слышит, где станки стучат весело, где гудки поют полным голосом, где вполголоса.
Слушал Ленин ткачей, не перебивал речей, давал приказание, мудрое отцовское повеление.
Коль рубашку шить не мерявши, красы со швей не спрашивай. Коли в лес по дрова без топора пойдешь, много дров не нарубишь. Вполовину дело сделано, коль оно только приказано. Сделано дело, закончено, если приказано и проверено. Давал Ленин напоминанье, чтобы каждый день по вечеру ему самому лично докладывали, как его указанье выполняется.
Так Ленин сам работал и всех учил, всем завещал-наказывал.
Даже сами себе не поверили ткачи: ни одно слово ихнее не пропущено, не оставлено без внимания.
Уж заботить Ильича лишней заботой язык у ходоков не поворачивается. И так уж много Ильич помог. А Фрол Сапожков, – он осьмушку хлеба привез в кармане – закусить дорогой, – сам того не замечая, вынул из кармана черный кусок с колючками. Ленин-то и заметил. Ну, ясно, неловко Сапожкову. Он хотел было убрать, ан поздно. Кусок уж у Ленина в руках.
– Это хлеб? – спрашивал.
– Паек на день, да и такой-то не каждый день.
Еще распоряженье при всех писал Ильич. Заходил разговор о продотрядах: помогают ли городу? С ходоками как раз был начальник одного отряда, только приехал из деревни.
– Помогать, товарищ Ленин, помогаем, да вывозить не на чем.
Отдал распоряжение товарищ Ленин – выехал паровоз с вагонами в хлебную сторону, побежали автомобили по дороге прямоезжей от Иванова в сибирские города.
Не весна ли красна везла цветов вороха белорозовых? Нет, то ситцы нарядные везли в деревню ткачи. Не зима ли на ста возах за весной вдогонку пускалась, везла сугробы снегу? Не зима это, не сиверко, – везли ткачи на машинах миткали белые, полотна тонкие братьям своим, хлеборобам. Не золотые россыпи рассыпалися, янтарное зерно мужики в мешки сыпали.
Ленин знал, где хранятся семена лучшей всхожести, никаких других, только тех семян велел нарядить ткачам. Диво на поле фабричное выехало: не набат гудит, не соседи горят, не потоп, не наводнение – побежали мужики со всех сел к фабрике, а там без Сивки, без Пегашки сам плуг электрический ходит по полю.
Но когда еще с того поля урожай сберем, когда еще из деревень хлеб привезем? И об этом позаботился Владимир Ильич.
На железной дороге, на главной станции, паровозы стоят. Бежит паровоз, вагоны спрашивают:
– Паровоз, паровоз, куда нас повез?
– На фронт, на фронт, – паровоз отвечает.
У другого паровоза вагоны спрашивают:
– Паровоз, паровоз, куда нас повез?
– За черным углем, за красным железом.
У третьего паровоза вагоны о том же спрашивают.
Отвечает паровоз:
– По наказу Ленина ткачам хлеб везем.
Чем ответить Ленину, как не работой честной!
На столе, на красном сукне, вся страна перед Лениным. В березовой роще по ведреной осени столько багряных листочков не нападало, сколько конвертов пестрых лежит перед Лениным. Со всех концов, со всей земли советской. Не узоры на них, не жилочки, на каждом написано: «Ленину». Все прочитаны, стопками сложены. Не стерпела Лизавета Ивановна, спрашивала:
– Как же вы, товарищ Ленин, ужели все письма сами прочитываете?
Этот спрос не показался в обиду Ленину. Ведь и сама Лизавета за станком стоит, на каждую ниточку зорко глядит, не пройдет мимо близны или узелка. Кабы сама до каждой ниточки не касалась, так не заулыбалась бы весело ткань.
– Коли письма мне, Лизавета Ивановна, мне и читать их, – говорил Ленин.
– Дивно, когда же вы делать все успеваете?
Помнится, рассказывают, такую мысль-думу сказал Ленин:
– Как же мне ваших писем не читать? Ведь письма-то ко мне думы, мысли хорошие несут. Советская-то власть и наша партия и сильны-то тем, что всегда с народом идут, за собой народ ведут к новой жизни.
Подумала тогда Лизавета Ивановна: чтобы Ленина отблагодарить, надо каждому по-ленински работать и жить. Нет счастья большего.
Говорил еще Ленин, что без букваря не школа, без рубашки не ученик. Из одной-то волости писали ему, что ребята на печи сидят, из-за трубы сычами глядят, надеть нечего. Уж во что ни стало – на первое время надо каждому школьнику хоть по рубашке. Кто, как не ткачи, помогут советской власти?
Узор расписной на ситчике Лизавета Веретенникова подносила Ленину: не побрезгуйте, мол, на моем старании, может им лампу накроете, за которой пишете. Залюбовался узором Ильич. А узор тот писан был еще в стары годы несговорчивым мастером Кириллом. Узнать захотелось Ленину о мастере. Сапожков рассказал, как оно на самом деле было. Мастерская узорная на замке, красок нет, мастера узорных дел разлетелися, кто куда. Да и не до узоров, мол, нам теперь. А Кирилла назвал Сапожкова несознательным.
Ленин-то спросил: мол, что же этот ваш Кирилл, кто он? Из купцов, из заглод бывших, из буржуев? Или подпевала их?
– Какой буржуй, – говорят, – под станом родился, в фабричной бочке крестился. Только мозги тот мастер себе вывихнул: подавай ему мастерскую, учеников дюжину, а в чесали итти и не думает.
Призадумался на коротку минуту Владимир Ильич. Не корил он мастера, а сознательным назвал. За честь своего мастерства человек болеет, за то спасибо ему. Весна придет – каждому цветку и роса и солнышко. Советская власть пришла – каждому таланту расти, цвести. Не смотри, мол, товарищ Сапожков, из оконца только своей фабрики, вся-то жизнь под твоим окном не уместится. Надо Кириллу дать полный простор. Война-то не веки вечные будет греметь. Думай о завтрашнем дне. Как же строить заново начнешь, если у тебя мастеров нет? Нам и сталь звонкая нужна и ситец нарядный, ивановский. В нашей-то советской стране, среди красот-доброт, чем каждый из наших народов славится, и ивановский узор расписной не затеряется.
Что теперь явью стало, Ленин еще в те поры видел ясно: и наши новые села с приселками, и города с пригородками, и фабрики-красавицы с солнечными окнами.
Видел он, как ожили миллионы веретен, видел, как вся земля, и города, и села, и люди обновляются.
До высокой двери провожал он ткачей, на прощанье каждому крепко руку жал, добра-счастья желал, в работе успеха, в жизни радости, всем подарил по частице своего сердечного тепла.
Вышли веселые, на часы глянули, удивились немало: чуть не целый час беседовал с ткачами Владимир Ильич. Денек-другой по своим делам задержались ходоки в Москве – и домой. Приезжают, а уже ленинский маршрут с хлебом ждет на станции.
Рабочий за добро добром платит. Принялись из развалин подымать, оттаивать замороженные фабрики.
Не в корзине, не в сундуке везли ходоки болото Космынино к себе в Иваново, везли они его около сердца. Тепло, огонь, жизнь везли. Шуйские получили торф. Ленин-то ведь наказывал: каждое, мол, новое веретено на земле нашей тепла прибавит.
Потекли люди на фабрики со всех концов. И, кажись, если бы в те дни во всех топках погасло пламя, то хватило бы тепла в сердцах у рабочих, чтобы своим теплом отогреть фабрики, в ход пустить. Лизавета Ивановна поет на радостях:
Тут и пряжа, тут и лен
С миллионом веретен.
Встретились Сапожков с Кириллом. Сапожкову теперь не до обиды, да и Кирилл не прежний.
– Слышал, Кирилл, у кого были?
– Еще бы не слыхать!
– А вот не слышал, что хорошего про тебя Владимир Ильич сказал. Он привет тебе прислал.
– Полно-ка смеяться. Много нас таких-то, только об нас и заботы у Ильича.
– Истину правду, Кирилл, говорю!
– Коли правда, спасибо ему за привет, – Кирилл говорит, – а спасибо свое я в узорах выпишу. Только сделай то, что велел тебе товарищ Ленин. Мне Лизавета все рассказала. Простору душе моей дай.
По слову Ленина дал Сапожков душе мастера Кирилла простору. Стал Кирилл на свое место, непочатый родник не заглох. Расцвела душа Кирилла. Теперь он писал не то, что купцу под сорт, а то, что душе его мило, что зоркий глаз подсказывал. И днюет и ночует Кирилл на своей фабрике, никак душу не натешит.
Увидала его Лизавета Ивановна.
– Помни, Кириллушка, всегда, как Владимир Ильич про нашу-то почетную работу говорил.
– Кто ж из нас забудет про то? А уж мне ли не помнить!
И сколько раз выручал Ленин ткачей.
Со всей страны всем честным людям не заказаны были пути-дорожки к товарищу Ленину.
Миллионы веретен запели в округе. И такой ли светлый день встает, разгорается. Солнце в окнах горит, заливает корпуса, играет на лицах, в глазах ткачих, на узорах сверкает, на ситцах. И солнцу-то красному с людьми радостно.


