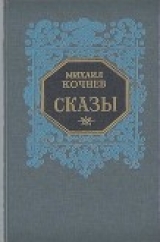
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
С радостью Таня отозвалась, но и погордилась, что ее золотая крупица труда всей советской стране пригодилась.
Кузьмич-печеклад
Солнце новой жизни нашу землю озарило – душу человека светлой мечтой метило. Плохая-то привычка человеку не на роду писана. Черные пятна – людям на душу бесправье клало да подъяремщина.
В молодом сердце, скажем, у ровесников Октября, светлый огонь горит, это и не диво. Сверстникам-то Октября сияла новая заря. Под ее светом росли, учились, – все пригодилось в жизни, в хорошем деле.
Ан, поглядишь, и старый-то молодому у нас не уступит. Вон того же Антона Кузьмича Кирпичова, печебоя, возьмем. В войну-то он немало удивил всех, кто его знал. В былые годы дали ему потешное прозвище «Кузьмич – кленовый сундучок». Ну, вроде скопидома, что ли…
А ведь на всю Владимирскую губернию, может, всего-навсего один такой-то печеклад уродился. Редко приходилось Кузьмичу пиво пить, но зато часто доставалось печи бить. Другого печегнета хлебом не корми, только с печи не гони, а этот нет: много он печей склал, да мало на печи спал.
Печничать-то не в свайку тешиться, – тут весь гвоздь; вся удача не в печничной кирке, а в руке. Варежки-то люди носят одинаковы, да руки-то у людей бывают разные.
Еще водил с собой Кузьмич молодого печеклада. Не из корысти взял, по просьбе. Взять-то взял, стало быть, а не торопится открывать подручному все тонкости дела. Лето водит за собой, другое водит. Глину тот ему месит, кирпичи подносит. Случается – позволит старшак молодцу нижний кирпич положить или «зеркала» докладывать – и это считай за счастье. Но чтобы очелок вывести, почать колпак или шатер, или обороты с разделкой доверить – лучше и не проси. Только и ответит:
– Заломчик склал, и это в счет. А теперь гляди на печь, слушай ее речь, пока я лажу задорожку.
Ни за что не даст взять неумелыми руками корневые-то узлы. Все сам: и дутье, и кожух, и зольник, а пуще, чтобы хайло задалось веселым, с хорошим голосом, когда затопит печея.
Такого печебоя, поистине, не учи печи, не указывай подмазывать. Надо, – из одной глины собьет печь, да такую, что печево испечь, что лечь, спину погреть, потешить старые кости в мороз. Дров брось полено – огонь гудит в трубе по третье колено. Все умел: хошь складет прокальную, хошь поставит расписную зеркальную. И кузнечные, и стекловарные клал. А обжигальные тоже любил. Складет обжигальную – хоть пенник в ней вари.
Молодой печеклад зорко приглядывается, а сразу никак не раскусит, в каком же кирпиче главный орешек таится. Спросит другой раз, когда сядет печник на закурку:
– Дядя Антон, где же главный узелок – всего мастерства замок?
Печник покуривает, улыбится сквозь дымок:
– Толку мало нахожу в речах, ты лучше учись на кирпичах. Я с Мелентьем покойником обдумывал, вот так же у него в печеглядах без годка десять лет выходил. И не каюсь. Спасибо ему, не обезнадежил. Отказал мне на всю жизнь свой секретец.
Затянется цыгаркой да подбавит:
– Надо сходить на печище, достать красной печины, да уметь сказать над печиной заветное слово, – вот и козыри в руки, и весь печников закон ляжет двугривенным на ладонь, печничай тогда. Ах ты какой, тебе бы все сразу. До моего-то секрета надо итти три зимы да три лета. Отсюда далеко стоит гора Опока. Лежит там пакет, а в пакете секрет. Сходить туда никому не запрет.
Вот и спрашивай этого печного колдуна!
Кто не знал Кузьмича? Тоже подряды-то брал по выбору, не во всяки ворота постучит кирочкой.
Пустили слух длинноязыкие печеи, поварихи: мол, коли щами Кузьмичу не угодишь на подряде, он те под под-от положит голик, а то и хуже подстроит – лягушонка посадит, – после-то и хлебы не взойдут, и тепла не жди от такой печи. Чего не намелют балаболки, стоя перед загнеткой в поварне.
На деле-то, где Кузьмич печь клал, там и пар и жар. Слышал он про голик, только усы поглаживал:
– Ага, испугались? На то я и печник, знаю, под чей зольник положить голик.
Полюбится печекладу хозяин – много не калякает о цене. Лучше других складет и не подорожит. Но в другой дом не заманишь калачом. А уж если заманишь – возьмет за работу, что ему хочется, плати, сколько ни заломит. На фабрике-то, кажись Полушкина, вон ведь что уделал печеклад.
Сказывали, у Полушкина в новой сушилке печь стала дурить. Дрова, как в яму, а тепла от печки мало. Приезжие печники клали. Да не зря стариками сказано: «не ищи хорошего мастера на чужой стороне, ищи у себя на дворе».
Может, и не знать бы такой беды, да главный-то инженер по фабрике – «сэр – кошку съел» – встрял, ну и помог напортить.
К слову сказать, такая метка не зря прилипла к этому чистоплюю. Сам себе прилепил ярлык. А народ фабричный, – он до слова чуткий.
В фабричной конторе сторож старик Гонобоблев дремал у печи в углу, пока там книги-то конторщики не захлопнут. Для повадности завел сторож кота Михрютку, с белой звездочкой на лбу. С кем же сторожу потолковать? Хоть Михрютка и о четырех ногах, а все с ним поповадней. Другой раз потолкует сторож с котом.
Раз Михрютка забрался в шляпу к сэру посидеть. Шляпа-то на подоконнике лежала. Добро бы только посидел, а он и следок по себе оставил. Смекнул: посудина-то удобна для такой надобности. Сэр за шляпу да к сторожу:
– Чего сегодня твой кошка съел?
– Вот уж не знаю, вы лучше у нее спросите.
С этого дня и пошло гулять по фабрике новое имя – «сэр – кошку съел».
Этот «сэр – кошку съел» по-своему, по-заграничному, все планы расписал. Душа у него была суше ели сухостоины. На наше-то мастерство и глядеть не хотел. Управляющего Минея Полиэктовича Персикова водил за собой на поводу. Персиков-то знал печеклада Кузьмича.
Антон Кузьмич сам приходил рядиться. Брался печь сложить в новой сушилке по-своему. И недорого просил, да, знать, непочтительно глянул на высокое фабричное начальство. «Сэр – кошку съел» и говорить не стал. Не приглянулся ему Кузьмич. Тут и Персиков под чужую дудку запел.
– Эх, сундучок, не забудь, это тебе не изба, а фабрика. Нам не пироги печь, а ситцы сушить.
– А мне, что фабрика, что изба, только всей и разницы – повыше труба. Сделаем – хоть пироги печи, хоть ситец суши, хоть пенник, как в старину, вари.
Все-таки отказали Кузьмичу. Сложили в новой сушилке печь, как «сэр – кошку съел» пожелал. Затопили. Дыму – полна сушилка. Шипит, трещит, ни тяги, ни тепла. Под шатром-то дым колесом, а в трубу-то не хочет. Давай перекладывать английскую затею. Переложили. Еще немалу смету вбухали в расход, – побольше дыму прибавилось.
Позвать Кузьмича «сэр – кошку съел» не хочет. А Персиков думает: где, мол, Кузьмичу одолеть такую громадину? Тут по-заграничному плановали, и то – того и жди – дым глаза повылущит.
Кузьмич зашел в сушилку. Топят. В сушилке, как в овине.
– Ох, гоже, дым-то хорош, на аглицкий лад.
И ушел он.
В третий раз переложили. За спасибо-то кто тебе будет? Опять платили. Словом: шей да пори. Но, наконец, получилось. Обрадовался «сэр – кошку съел».
Печь не дымит, в трубе дым воет Печь как печь, да только тепла попрежнему нет. Улицу-то не нагреешь ни дровами, ни углем, сколько ни вали в топку. А обошлась печь в крупную копеечку.
Сколько ни дулся «сэр – кошку съел», буркнул Персикову:
– Надо сломать, твой печник звать.
Послали за Кузьмичом. Так тебе и жди, пошел Кузьмич, не тут-то было. На первый зов не пошел, на второй посул сказал: подумаю. На третий поклон – не торопился, но все ж таки явился.
Может бы вовсе не согласился Кузьмич, да несчастье подхлестнуло. У напарника молодого, у Викентия Огурцова, хибаруха сгорела, а дело-то к осени. Семья Викентьева в шалаше на огороде. Как ты станешь в шалаше зиму зимовать? Не воробей, не совьешь себе жилье под застрехой. А капиталу у Викентия откуда же быть?
Взгоревал Викентий: что делать? Антон-то Кузьмич вынул тавлинку, постучал в донце желтым выщербленным ногтем, почесал в пожелклой бородке:
– Не вешай, Викентий, голову, так и быть – выручу. Пойдем. Сложим печь – вот тебе и горе с плеч. Неделю печь будем бить, а в воскресенье пиво пить. Так ли? Ну то-то же!
На фабрику пришли. Посидели около холодной печи. Печь заняла полдвора, а толку – ледяная гора. Покурили. Поглядел Кузьмич на печь, потупился, уронил улыбку себе в желтые усы. Сел на свой кленовый сундучок около печи, начинать не торопится. Вынул костяную тавлинку, постукивает о донце, сам тихонько мурлыкает:
Эх, печь, моя печь, деревянная,
Ох труба, моя труба, оловянная,
А в такой печи
Не спечешь калачи!
Что ни сесть, что ни лечь,
Кто сложил такую печь?
А в моей-то печи
Сами греют кирпичи!
Встал, постукал колотушкой по высоким зеркалам, стало быть по бокам печи, заглянул под опечье, спустился, осмотрел своды, под потолком побывал. Потом кафтан с плеч – полез в печь. Колпак и шатер не приглянулись ему. Все выверил. Спросил – сколько раз перекладывали, сколько мастерам платили, много ли дров сожгли? Персиков-то жалуется на дорогих мастеров, на прожорливую печь. Кузьмич слушает, понюшкой табачку себя нет-нет потешит.
– Да, печь у вас здорова, как собор Покрова. Печь-то, как послушаю, стала не простая, золотая! Годок еще потопить такую обжору – Витовского бора нехватит. Ну, так и быть – вылечу. У Кузьмича слово твердо и надежно, как синий обжигной кирпич-железнячок.
– Дорого ли возьмешь? – это первей всего важно Персикову. Не глядит, что перед ним мастеровой человек, а не купец.
– Я, знаешь, никогда не торгуюсь. Дело сделано, сделанному делу и цена видна. Сколько тем, столько и мне.
Мыслит Кузьмич: уж двадцать-то рублей за такую работу положит Персиков. До Кузьмича печебои только напортили, а получили по две красных на брата. Трое клали. А их двое.
В недельку с небольшим вдвоем, не торопясь, управились с сушильной печью. Покурили, затопили, все честь-честью просушили. Принимай, хозяин. Завыла печь, запела, загудело в трубе. Брось полена три – огонь во все зеркала, под сводами воет, и в трубе плещет по десятое колено. А жару хоть отбавляй, ранее воз дров сожжешь, а тут и одной охапки хватит. «Сэр – кошку съел» пришел, поглядел, ничего не сказал, только лошадиное лицо его стало почему-то темным. Стал считать: высоту, ширину печи, стал дни прикидывать. Велел Персикову рассчитать мастеров по своей таблице. Персиков послушался и выложил: пять целковых обоим.
– Это за такую-то печь? – удивился Кузьмич.
– Разве дешево? Хватит с тебя. Те месяц работали, а вы только неделю.
– Так всяко дело измеряется добротностью своей. Ты вот что цени!..
Но уж где тут торговаться: печь готова.
Поздно спохватился Кузьмич, что не всякому слову можно верить. У хозяина слово – как тонкий лед: зыбко, ненадежно. Но дело-то сделано. Не станешь ломать печь. Взяли пятишку и пошли с фабричного двора.
– Это все «сэр – кошку съел» подстроил. Не лучше купца этот покупной пес. Обвалилось бы в твоей печи чело, застряло бы в трубе помело, – за воротами пожелал Кузьмич и фабриканту и его приспешнику.
Контракту не писали, куда ты пойдешь с жалобой? Да не больно рабочую-то жалобу близко подпускали к казенному столу, к синему сукну.
Пуще Кузьмича закручинился Викентий Огурцов. Вот тебе и новая изба!
Обидели честного мастерового. Но на факте-то вышло: плюнули в колодец, да к тому же колодцу с ведром пришли.
Позвал Персиков Кузьмича печь класть в новом дому.
– Ну, хозяин, уговор дороже денег. По нынешней поре всяк товар лицом красен, мастерство тем паче, – с этого начал ряду Кузьмич. – Сложу, услужу, но чтобы денежки на сундучок. Начну класть на новолунье, чтобы спокойная душа была у печей, тепло будет.
Стряпуха Патрикеевна услышала этот уговор и пустила злую побаску о Кузьмиче: этого, мол, сморчка кормит его кленовый сундучок.
С той поры и стали все печники кликать «Сморчок – кленовый сундучок». Дескать, жаднее-то Кузьмича на всем свете не найдешь.
На накат первый подовой кирпич кладет Кузьмич, а печея Патрикеевна бежит от соседей, горстку печины на развод тепла несет. У соседей-то больно хорошо печь сложена. Как игрушка, и места немного занимает, а греет теплее солнца.
И не диво: эту печь Кузьмич клал.
Патрикеевна норовит подложить под нижний кирпич-то щепоть печины. В заговор пустилась:
– На жар, на пар, на печиво, на варево, на всякое жарево, на печь, на опечье, на запечье, на подпечье, на припечье. Складите печь, чтобы шли пироги под очелок белые-беляны, вылезали на шесток красны и румяны! Солнцу – на светлоту, нам – на теплоту.
Подсыпала горстку печины.
– Кума, – говорит Кузьмич, – ты чего это мое тепло принесла и меня не спросилась?
– Ты ведь какой! Твой-то глаз и печиной не отведешь, – мелет Патрикеевна.
– Да, это верно, мой глаз – алмаз.
– Чего в ящике-то? Али лягушку на подпечье принес? – сунулась к ящику.
– Целых две, да три голика, посмотри. Захочу – так сложу, что не испечешь ты пироги румяны в своей печи, а захочу – и по-другому сделаю, смотря по твоим щам, – смеется Кузьмич.
Беспокоится Патрикеевна: на смех не подсунул бы он голик под печь. Тогда под загнеткой всегда будет лед. Не зря все лето верещал в запечье у Чумичкиных сверчок. Это Кузьмич тут замешан. Его напасть. Слышала Патрикеевна от кухарок: кто этого печеклада обидит, тот добра не увидит. У него под фартуком есть белый камешек-лимарек; пошепчет над ним печеклад: чего хочешь напустит.
Патрикеевна все свои голики припрятала, кои за сундук, кои под сундук, только бы Кузьмичу не попались под руку.
– Слава те, Христе, завтра новолунье. На новолунье сложут, будет печь ладно греть, – утешает себя Патрикеевна. – Лимарек-то, чай, захватил? – выведывает у Кузьмича.
– А то как же, кума, хоть и далеко – занарок посылал за лимарьком на Опоку, – ухмыляется Кузьмич, сам, знай, дело свое делает.
Крутится около кирпичников Патрикеевна. Уж больно любопытна, а пуще стережет, чтобы голик не подсунули.
– Кузьмич, рыжий фартук, а ведь ты колдун, это ты сверчков пускаешь в запечье. Ох и злой ты, все по обиде! Секретный ты человек. А уж дерешь с людей, никого не жалуешь.
– Заработать – не украсть, – посмеивается Кузьмич.
Склали печь. Кузьмич руки вымыл. Холщовым фартуком вытирает.
– Затопляй, Патрикеевна.
А та:
– В печи обиду свою не оставил?
– Оставил, на золотник, не больше.
Нащипал Кузьмич лучины на растопку. Завыла жара в печи, огонь чище золота – и ни дыминки. Пламя так и пляшет, в семь грив до самого свода, так и машет красным крылом чуть ли не до шатра. Кузьмич поглаживает желтые усы, конечно, не для красы. Никакого обману. Всякое дело человеком ставится. О чем больше-то калякать? Истопливо сгорело. Хоть калачи, хоть блины пеки. Двадцать целковых положил Кузьмич в шапку, пожелал на прощанье доброго здоровья хозяйке и печи.
Кленовый ящичек за плечом, шагает домой, доволен и весел.
– Не тужи, Викентий Огурцов, вот тебе на новую избу первый взнос, глядишь, понемножечку и наберем. Птица по соломинке таскает, гнездо свивает.
А Персиков-то хорош гусь: без слова дал согласье на плату – знал кого позвал, а тут, вишь, раззвонил по всему свету, будто-де Кузьмич снял с него чуть ли не последний крест.
У мастеровых на этот счет своя песня: мол, Кузьмич, молодчина, умеешь отличать чин от чина.
С той поры-то, братки, много лет прошло. Елочка под окнами у Кузьмича, что на рожденье дочери посадили, стала высокой елью. Персиков умер.
«Сэр – кошку съел», как блоха из старой шубы, давно ускакал за море.
Антон Кузьмич свой сундучок с поскребками, с молотками, с печниковой кирочкой на чердак отнес. Годы-то не молодят. Уж давно в Красную Армию проводил он своих внуков. Без подожка теперь – ни шажка. Домик его – на Зеленой фабричной улице. Он да старуха – вот и вся семья у Кузьмича.
Хоть и прозвали прежде его «кленовым сундучком», да что-то от трудов праведных не нажил он при царе палат каменных. Да и не помышлял он о них никогда. А нынче-то жизнь под оконцами Кузьмича повернулась солнечной стороной: и заводы, и фабрики, и палаты каменные – все теперь у народа.
Стар Кузьмич, заплетаться стал. Станет штаны надевать, никак ногой не потрафит в колею. Даже наказывал старухе, ты, мол, теперь шей про меня пошире невода.
Но хоть и состарился Кузьмич, а жизни радовался, как молодой.
Но вот пришла беда – затворяй ворота. Фашистские захватчики смертельную петлю хотели надеть советским людям. Только шея-то у советских людей высока, кость крепка, а душа и того потверже. Выдержка хорошая нажита, советской властью людям привита. И пуще всякой силы – полное доверие своему правительству у народа.
И случилось в те годы такое. Одну новую школу по зиме заняли под госпиталь на фабричной улице. И свету много, и просторно, и клуб, и сцена, и красный уголок с газетами. И радио в полный голос поет, говорит. И над подушкой у каждого наушники.
Все бы хорошо, да в одном не задалось. Морозы-то как ударили, печь и задурила. А зима, чай, помнишь, пришла злющая, немилостивая. Без хорошей печи и поварам и докторам горе – ни кашу сварить, ни повязку вымыть.
Взялись своими силами починить, да не сумели.
Тут один солдат Советской Армии, наш землячок, рука на перевязи, и подходит к начальнику.
– Знавал я печника с нашей улицы – золотого старичка, уж тот бы нашу печь вылечил. Не знаю, жив ли? Уходил я на войну, так он еще меня у своей калитки обнял да угостил понюшкой табачку из костяной тавлинки.
– Кто он таков?
– Антон Кузьмич Кирпичов.
Адрес верный указал служивый: и как найти, какой улицей ближе проехать к мастеру. Ждать да гадать некогда. Сели начальник госпиталя и солдат в санки, покатили искать знаменитого печника.
Скоренько нашли, вежливо вошли, степенно поклонились.
– Здесь Антон Кузьмич проживает?
– Здесь, товарищи-граждане, он самый это и есть я, – отзывается с печи седой старина. Сидит на краешке, голые ноги с печки свесил, пятки в печурках греет. За переборкой старуха ворчливая за что-то пилит потихоньку своего супруга, не слышит, что гости у порога.
– Да перестань ты, голубушка, солнышко мое, Пашенька. Куда я ходил? Где был? Это дело общественное. Хоть один раз в жизни, но не послушаюсь я твоих инструкций, хоть ты на меня протокол составляй. Послушай лучше, что добры люди нам скажут. Зачем пожаловали, товарищи воины Красной Армии?
Те ему свою заботу доложили. Почесал затылок Кузьмич.
– Ах, ребята, что-то мне неможется нынче, знать, к плохой погоде. Эва в трубе-то гуляет ветрило. Ну, да так и быть!.. Только ведь я печник-то дорогой. Может, слыхивали про одного нашего печника по прозвищу «кленовый сундучок»? Так это я самый и есть в наличности.
Как эту присказку услышала старуха за переборкой, сразу перестала допекать старика.
– Ладно, дед, заплатим, не обидим, так и быть, только выручи.
– За хорошую плату что не выручить. Хоть я зубы давно съел, а ведь хлеб-то все равно и мне нужен.
Кряхтит Кузьмич, сам слезает с печи, обувает сапоги – ноги-то его не слушаются; полушубок надевает – руки-то в рукава не лезут.
Сели, поехали. Доктор и спроси печника дорогой, от нечего делать:
– О чем это вы, Антон Кузьмич, дискуссию вели с хозяюшкой?
Кузьмич варежкой с бровей снег смахнул.
– Небо делим пополам, все никак не разделим.
Больше не стал спрашивать начальник.
По крутой-то госпитальной лестнице еле-еле поднялся Кузьмич, сел на стул, уж он чихал, чихал, кашлял, кашлял. Солдаты сзади-то стоят, свою квалификацию пишут печнику:
– Эх, ну и богатырь, и где такого откопали? Знать, из музея привезли.
– Растрясут кости у дедушки, – не оберешься греха от бабушки.
– Тише ты, это – всесоюзный архитектор прибыл.
– Главный зодчий по заслонкам.
А старичок-то хоть и стар, но чуток. Чихал, чихал, а сам все послушивал. Обернулся да шептунов-то посошком легонько кого по лбу, кого по плечу:
– Чего зубы скалите? До войны-то в стахановцах ходили? Так ли? Ну-ка я сейчас вас на своем деле испытаю. Будете у меня за помощников; посмотрю, что вы за стахановцы. Кто в деле мастак – тот и в поле вояк!
Всех шептунов-то велел доктору отдать ему под команду. Начальник уважил. И попали пересмешники под начало к «главному зодчему по заслонкам».
Со всех сторон, не торопясь, обошел Кузьмич печь, все посмотрел, выглядел. Сел против печи на табурет, в руке посошок, и давай помощников гонять, что им делать, указывает. Посошок-то, как живой, так в его руке и полетывает, только успевай потрафлять за его указкой.
– Повыше чело, чтоб не задело помело! В трубе покруче змеевичок, слушай, что велит вам кленовый сундучок. А ты давай управляй шатер. Да ты лезь туда, не бойся: сажа не волк, не укусит. Поспевай, солдат, на то ты мной и на службу взят! Стахановец красен не словом, а делом. Летай смело!
На помощничках-то рубахи взмокли, хоть через колено выжимай. Шутя, шутя, нагрел он им спины. Посошком знай выкидывает артикулы, свое вспоминает:
– Вот у меня в стары годы ученик был, Викентий Огурцов, любо-дорого посмотреть. Сгиб в девятнадцатом году. За большое дело сложил голову. Он за семерых за вас один бы управился. С отрядом Михаила Васильевича Фрунзе ушел, да и не возвратился.
Дал Кузьмич помощникам с обеда-то до вечера две перекурочки маленьких, и за это говори спасибо. Зато к ужину печь готова.
Затопили. Запело, заиграло в трубе. Будто заново печь переложили с исподу до верхнего кирпича.
Погладил Кузьмич белую бороду, вздохнул, а глаза хитрющие.
– Ну, поняли, где собака зарыта?
А те не больно-то поняли. Вот вам и зодчий по заслонкам.
– Открой, дед, свой секрет, – все в один голос просят.
– Отсюда недалеко стоит гора Опока, на горе сарай кирпичный под крышей черепичной. За сараем речка, за речкой местечко. Под тремя кирпичами, за семью сургучами лежит пакет, а в нем мой секрет. Сходить туда никому не запрет. Ну, товарищи, красные солдаты, желаю, чтобы щи вам подавали с пылу, с жару, жирного навару, выздоравливайте скорей, дубасьте фашиста, чтобы дух собачий из него вылетел. И я бы с вами пошел, да вы больно ходки, не угонюсь.
Солдаты его провожать собрались чуть не всем госпиталем.
– Спасибо тебе, дедок. Один всех согрел.
– Не хвали печника сгоряча – пока не вынешь калача, – поклонился старик солдатам, надевает шапку.
А начальник госпиталя ему пачечку червонцев сует за грудинку. Старик пощупал пачечку – хрустят, новенькие, только с молоточка. Схмурил брови, положил деньги на стол. Будто чем-то недоволен. Деньги-то не берет и не говорит напрямки, что мало. Начальник ему – еще половину пачечки. Он и эти отложил. Начальник было еще добавить хотел. Кузьмич и говорит:
– Нет, дорогой товарищ, не удивишь ты меня щедротой. Я свою плату взял сполна. Мне от всей Советской Армии спасибо сказано. А армией-то кто правит? Кто ее ведет? Сам товарищ Сталин. Вот что дорого! Хорошо, что нынче пригодился я вам хоть в малом деле. Одно прошу – довезите до дому, а то, чай, старуха, у окна сидючи, наахалась. Не ушел ли, мол, к молодухе-завитухе. Строга, прямо беда!
И улыбка у деда во все лицо расплылась.
У крыльца-то, когда начальник стал прощаться с печником, в шутку спросил:
– Много пображничал на веку, Кузьмич, что жена так строга?
– Как рассудить, – Кузьмич отвечает, – у этого дела два конца: один семейный, другой общественный. Вот, к примеру, третьеводни печь перекладывал у Марьи Камешковой, муж-то у нее на войне пал героем. Чего уж взять с солдатской вдовы? Сиротское дело. А старуха-то у меня смолоду казначей, любит денежку позвончей – вот и брюзжит, зачем-де я от денег отказался. Я ей говорю: не касайся, солнышко, Пашенька, моей программы. Беда-то не одной Марьи касательна. Эта беда и у меня за пазухой… Спасибо, товарищ начальник, что мастерством моим не побрезговали. Спокойной вам ночи! Вон луна-то бордовым кушачком подпоясалась, к вёдру, к ясному дню! К нашей победе!
Все годы, пока шла война, каждый раненый солдат, уходя из госпиталя, уносил в сердце светлый подарок. А подарок-то весь не мал не велик: душевный рассказ своих товарищей о знаменитом печекладе, о хорошем советском человеке.


