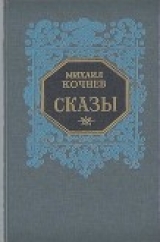
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
А Ноздрю так всего и бьет, так и трясет.
Двумя горами сошлись у Степана брови. Кафтан на камке однорядочной плечи давит, сбросил Степан его, канаватный бешмет, в нитку строченный, дышать не дает, шапка соболья с малиновым верхом бархатным тяжела стала, сорвал ее со своей головы Степан, через плечо бросил. Ну, жди беды!
Бухнулся Савва, как тюк с полотном, у ног ползает, то Степану, то Ноздре кланяется.
Схватил полу Степанова кафтана, серебром шитую, целует, крестится, к сапогам сафьяновым тянется, чтобы как к иконе приложиться, пощады просит…
– Не я резал розги, не я рвал ноздри… Как я умру? А что со светелкой моей станет? Мяльную избу я не достроил, с купцом Киселевым по векселю за краску-крутик не рассчитался. Без покаянья да без причастья… Как это… Милые мои, сынки любезные, ноздри вырвите, только жизни не лишайте. Век за вас бога молить буду. Все мои бурлаки, работные за тебя молятся, не побрезгуй, прими коробье с подарочком, от наших прях и тках. Переслать просили.
Охватил Степановы ноги, сам седой головой о землю колотится…
Как глянул Степан Тимофеич на седую голову, отца родного вспомнил и чует: сердце в груди, как янтарь на огне, тает, и вроде слову своему он больше не хозяин.
И не рад, что Сергей Ноздря рядом стоит. Никогда такого с ним не было… Жалость к горлу подступает, слово привычное никак сказать не может. Все ждут – вот сейчас Степан рукой махнет. И хотел уж он сказать: вставай, мол, купец, да ступай своей дорогой.
А тут кто-то за спиной у него и скажи:
– Эх, растаял, слезой старик пронял…
Этот шопот вольных людей нынче не в расчет атаману. Решенье справедливое ищет он, чтобы зря не обидеть. Словно два ручейка сейчас в сердце к нему бегут: один велит помиловать, другой – расправиться. Которого из них послушаться? «А если бы я к нему попался или вон Ноздря, как бы он с нами обошелся?» – думает Разин, а люди стоят.
Почему-то нет у атамана крепкой веры словам Калачева. Да еще, как на образину его, а ее решетом не прикрыть, глянет, на ноги толстые, как ступы, на глаза мутные, осоловелые, – нет в таком правды, и совести мало. Хоть одна слеза притворная и на пол катится – не шибко ей доверяй, а злая-то подальше прячется. Уж кто-кто, Степан-то лучше всех знал: народу бездольному верь – спокойно спать ложись, а купцу-боярину верить верь, а сам крепче за саблю держись.
Тут-то и вошел бурлак, не высок собой, да широк в плечах без мала сажень, с расшивы калачевской, он с артелью у купца подряд держал с понизовья лямку тянуть.
– Эй, бурлачок, речной ямщичок, скажи-ка: как хозяин учил вас за Степана Тимофеича богу молиться? – спросил Ноздря.
– Учил… Подарком велел одарить, медом отпотчевать Степана Тимофеича, если повстречаемся, в рубаху дорогого тканья нарядить. Тому, кто рубаху передаст, – награда посулена. Меду целый кувшин припасен. Один у нас украдкой хлебнул глоток – и на тот свет отправился. И рубашку золоченого тканья не зря припасли, слух есть, ее купец сначала на холерного надевал… В коробье она.
Мертвой зеленью у купца приплющенный нос подернуло. Не обманул верный глаз, сердце вещее не ошиблось, не зря лютой ненавистью горячая кровь в грудь атаману ударила. Смертный враг перед ним: только дай ему волю, он не только Степана, а весь кабальный люд изомнет в труху, не только ноздри вырвет, а и головы всем сорвет… Вон она – рваная ноздря, навек Сергея обезобразила…
Не за себя Степан Тимофеич мстит, народ он строгой карой, своей сильной рукой оберегает.
– Плыл бы ты, купец, со своим товаром хоть до Астрахани, не тронул бы я тебя, кабы ты меня не обманывал да злое не замышлял, сказал все по совести. А у тебя на это духу нехватило.
Тут махнул Степан Тимофеич рукой. И не видел больше Саввы. Других торговцев отпустили.
Тканинка пригодилась вольным людям на паруса да на одежду.
Ночью пир горой затеяли.
Костры жгли, светло на острове стало. У костров молодцы-удальцы, вокруг острова струги разинские, паруса при огне порозовели.
Встал у костра Степан Тимофеич, ковш поднял, да как гаркнет, что было силы-моченьки, – с полчаса ему эхо в лесах, в Жигулевских горах вторило:
– Пей, гуляй!
– Гуляй-а-а-а-й!
Полился мед в чаши, брага зашипела, ковши зазвенели.
Не мед, не брага разымчата, а воля вольная молодцов пьянит, души радует. Битые, кабальные, острожники, работные люди, дворовые – здесь все равны, со всеми запросто Степан Тимофеич ковшом чокается. У каждого сама душа поет, потому и песня хороша… А в той песне все своего заступника Степана Тимофеича хвалят, величают:
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горой взойди над высокою,
Над дубравушкой над зеленою,
Над урочищем добра молодца,
Что Степана свет Тимофеича!
Обогрей ты нас, людей бедных,
Добрых молодцев, людей беглых.
Гульба пошла – за сто верст рыба в Волге не спит. Земля ходуном под ногами ходит.
Крикнул Разин:
– Эй, Сергей, пляши давай!
Тряхнул Сергей рассыпчатыми кудрями из-под повязки кровяной, притопнул, в ладоши прихлопнул. Не устояла Наташа, в круг вылетела, платочком над головой махнула – вихрем, кругом пошли друг за другом.
Пляшет Наташа, дробью отбивает, низко Степану Тимофеичу кланяется, все его вызывает.
Сверкнули у Степана Тимофеича глаза, бархатный кафтан с плеч стряхнул, рукой подхватил Наташу за талию, другую руку лебедем над ее головой выгнул, стукнул каблуками и пошел, пошел.
Уж рассветать стало. Захмелели молодцы. От шатра к шатру Сергей ходит, Наташу ищет. Искал, искал, никак не найдет. У куста, глядь, сидит она с кем-то. Саблю вынул Сергей.
– Ну, вставай!
Крикнул, да так с поднятой саблей и замер у куста: перед ним сам Степан Тимофеич сидит на камне, и Наташа с ним рядышком.
– Сережка, это ты? Все не спишь? Лихо ты плясал даве.
Снял Степан с плеч свой кафтан и набросил на плечи Сергею соболью шапку с малиновым верхом надел на сергеевы кудри. Схватил Сергей шапку соболью, скомкал, хотел под ноги бросить, затоптать. Может, и бросил бы, да Разин опередил словом твердым. И сказал-то не шибко.
– Бросишь – не подымешь. Эта шапка вместе с головой на землю падает.
Надел Сергей шапку, в пояс Степану Тимофеичу поклонился, да и пошел потихоньку от куста. Тяжела соболья шапка его кудрям показалась, да носить надо.
Выпил Сергей с горя-горького три ковша меду, да и спать лег. Только и промолвил:
– Эх, девка, девка, а я-то думал…
На заре дышится легко, вольно. Зашлось сердце у Наташи, сидит она рядом со Степаном Тимофеичем, черные кудри его приглаживает, а он в даль сизую смотрит да грустнеет больше и больше. Так бы и припала она к этим кудрям, расцеловала их, обняла бы, приласкала Степана Тимофеича, да оторопь берет. И Сергея-то ей до слез жалко. Зарозовело небо, вдруг вскочил Степан Тимофеич, повел плечами высокими.
– Эх ты, Волга-матушка!
Подхватил Наташу на руки и над головой поднял. Обмерла она: вот сейчас или в Волгу бросит, или поцелует. А он держит на руках, смотрит ей в глаза и говорит:
– Не садись ты больше со мной рядом. Хмелею я, когда ты близко. А хмельной-то я озорной, неуемный. Чай, Сережка тебя ждет, ступай да утешь, пусть зря-то дурень на меня не пеняет. Скоро свадьбу вашу сыграем.
И вроде жалко Степану стало, что девку-то от себя отпустил, когда глянул вослед ей да увидел, как из-под ног ее с высокого берега камушки посыпались.
Стал Степан Тимофеич князишек, купчишек пугать, дома по ветру пускать, караваны останавливать да гостинцы раздавать народу. В царевом дворце переполох пошел.
Царь самых верных воевод послал, приказал живого или мертвого поймать Стеньку Разина, а всех молодцов его погубить, в Волге потопить, плоты срубить, столбы с перекладинами на плотах поставить, шелковые ожерелья привязать, по десятку на каждом плоту удальцов Степановых повесить и плоты вниз по Волге пустить.
Легко сказать, да не легко орла запоймать.
У царя войско храбро, а Разина молодцы и того похрабрее. Что ни бились, одолеть Степана Тимофеича не могут.
А он все выше да выше с низовья подымается.
Сколько Степан Тимофеич кораблей на дно пустил, и не счесть.
А как Степан-то Тимофеич разбил несметные царевы войска на реке Камышинке, тут еще столько да полстолько их подвалило.
Раным на заре поднялся Степан Тимофеич на утес высокий – и Сергей с ним. Из-за гор кровяное солнце всходит. Ветер теплый со степей дует, травы цветут, запахи душу пьянят. Беляк по Волге играет, а стрежень все чернее и чернее становится. Ветер кудри Степановы расчесывает, приглаживает.
Корабли его, струги легкие всю Волгу заполонили от Саратова чуть не до Астрахани.
Орел-степняк над утесом кружится, словно что сказать Степану Тимофеичу хочет.
– Что это стрежень-то почернел? – Степана Тимофеича спрашивает Ноздря.
– Сам не знаю, – отвечает Степан.
В даль туманную вглядывается. Вся округа лежит перед ним, как на ладони. Луга ровные, будто скатерти, кресты колоколен золотом на восходе горят, стада по степи рассыпаются, и далеко-далеко Волга-матушка с голубым поднебесьем сливается.
И никого-то на всей земле в этот ранний час выше Степана Тимофеича нет. Раскинул он свои руки могучие, и по жилушкам силушка похаживает, вздохнул всей грудью, да еще раз вздохнул, словно впоследние сладким волжским воздухом хочет надышаться вдоволь.
– Сладкий какой, разымчатой воздух-то здесь, Ноздря, а! Воздух-то, говорю, родной, свой. Хорошо-то как, милый мой…
Обнял он Сергея, к груди прижал, а потом припал к земле, чутким ухом к утесу приник.
– Ноздря, послушай, земля просыпается, дышит…
Глядь, вдали что-то белеется. Что бы это? Не караван ли? Караван, да не с шелком, не с бархатом, не с питьем, не с яствами, – со свинцом царским да с порохом. Кораблей из-за рукава выплывает видимо-невидимо. А за кораблями-то плоты плывут, а на них-то столбы стоят с перекладинами.
Вправо глянул – царевы знамена над степью колышутся, на рысях летят все конные. Слева по берегу пешие идут, по дорогам пыль стелется.
Потемнел Степан Тимофеич, как стрежень.
– Вишь, Сергей, за дорогим товаром, за нашими головами караван царев плывет, слуги царские торопятся. Ну, да хорошему товару и цена не дешева. Встречать будем. Чай, не стать привыкать. Давай-ка обнимемся да поцелуемся. Что-то орел низко над нами кружится.
Обнялись они на том утесе высоком, крепко-крепко поцеловались и к стругам пошли.
Как три раза-то из пушки выстрелили, заскрипели уключины, наверх Степановы молодцы поплыли.
На атамановом корабле Степан Тимофеич в рубашке шелковой с галунами, о правую руку Ноздря в шапке собольей с верхом малиновым, о левую-то Наташа стоит.
– Эй, волжские, донские, камышинские, наворачивай, не бывало еще такого утра горячего!
То не две тучи черные сошлись, не гром, не молнии в небе грянули, – ударили пушки Степан свет Тимофеича, а им с царевых кораблей откликнулись.
С берегов степаново войско хотят в затылок обойти.
Сверху напирают царевы корабли – красногрудые струги помешались с кораблями белыми, словно птицы красноперые в лебединую стаю попали.
Не туман, не роса над Волгой от Камышина до Саратова, – пороховым дымом Волгу окутало. Рыба-то вся на дно ушла.
Не буря сосны столетние с треском наземь валит, – трещат палубы, мачты, паруса, солдаты в Волгу валятся, все в дыму потонуло, и свои и чужие перемешались.
Топорами сплеча орудуют, баграми за снасти корабельные цепляют, стонут, плачут, кричат, ругаются…
Корабли пылают хуже, чем в аду, люди из огня в воду прыгают. Ни та, ни другая сторона не уступает…
Долго бороньище тянется. А царевы войска все подваливают да подваливают…
Покраснела к вечеру вода в Волге, стала теплой от крови.
– Волга, мать моя, чем я тебя прогневал? Или песнями мы тебя не тешили, не величали? Или свою сторону родную на чужую променяли? Или паруса на моих кораблях хуже царевых были? На что ты прогневалась?
И еще злее молодцы Степановы рубятся, колют, бьют на все стороны…
От утра до утра молотили они, рук не покладаючи. Видит Степан, трети войска его не стало.
На вторые сутки еще стольких нет. На третьи сутки по заре видит Степан – и совсем мало у него народу осталось.
– Уходить надо! – кричит Сергей. – Тяжела рана, да залечим. Соберем войска больше прежнего, была бы голова. А без тебя все пропадем!..
А Степан окунул черные кудри свои в Волгу и, вроде себя не помня, Волге сказывает:
– Нет, не дамся я им: ни мертвый, ни живой. Не царю я сберег свою голову, а тебе, Волга.
Как увидели с царевых кораблей шапку соболью с малиновым верхом, кафтан однорядочный со Степанова плеча на Ноздре: «Хватай, держи атамана!» – кричат.
Струг Ноздри окружить, отбить в сторону трафят, живого в полон полонить, думают, что Степан это.
Тут вдруг Ноздря, слова никому не сказав, улучил минуту подходящую, перескочил на другой струг, а с ним еще молодцов десяток, в саму гущу царских кораблей на струге врезался, весь план у тех расстроил, весь удар на свой струг принял. А Степан-то глядит: что ж это? Ноздря на измену пошел?..
– Стой, куда? Эх ты, собака, изменник, шапку мою позоришь! Знать бы раньше, снял бы с тебя шапку вместе с головой…
– Потом на Наташу глянул, глаза кровью налились. Гаркнул своим, кто жив еще:
– Поворачивай! С попутным апостольские скатерти подымай!
Как захватили царевы войска Ноздрю, тут и пальба заметно стала утихать. Привели его на царев корабль.
– Кто ты? – спрашивают.
– Сами-то не видите, кто я? – отвечает Ноздря, у самого с-под собольей шапки кровь ручьем льется.
Обрадовались царевы слуги: как же, Степана Разина запоймали!
Из-под парчовых парусов перетянула Наташа Степана пересесть под простой парус – белый. Три легких стружка припасены были. На одном стружке парус парчовый, на другом золотой, а на третьем-то простой парусиновый, – ту парусину сама Наташа наткала.
И сел Степан Тимофеич под парус парусиновый.
Птицей стружок летит. Глядит Наташа на Степана Тимофеича, темнее грозы-бури он. Чует ее сердце, отчего так разгневался. И говорит ткаха-девушка:
– Степан Тимофеич, ты скажи, ответь-ка нам, друзьям твоим, потечет ли вспять Волга-река?
А Степан-то ей строго так:
– А ты что мне за спрос еще?!
И больше ни слова. Помолчал, глянул, видит: люди ждут его слова, как земля после стужи ждет солнышка. И ответил он:
– Не бывало того и не быть тому, чтобы Волга-река снизу вверх потекла! Чтобы вольный казак быдлом стал!
– Не бывало того и не быть тому, чтобы Сергей Ноздря твою шапку опозорил и людей наших запятнал. Ты послушай, ты поверь мне, свет Степан Тимофеич, своей грудью Сергей твою голову спас… – говорит Наташа.
Холодно так глядит на нее Степан, вроде и веры ей нет от него.
– Уж я-то, Степан Тимофеич, знала нашего Сережу вдоль и поперек… Прямой судьбы он человек… Намедни он со мной на камушке сидел, душу свою мне сказывал: «Дороже вот этой реки да Степана Тимофеича ничего на свете нет. Ежели придет самый трудный час, себя не пощажу, под саблю острую брошусь, за Степана Тимофеича свою жизнь отдам!»
Стоял Степан Тимофеич, вдаль глядел, сам слушал, взгляд мягче стал, грустнее чуть. Вдруг снял шапку, поклонился, да и говорит:
– Навсегда слава Сергею Ноздре! Человека можно лютой казнью загубить, а слава, она смерти не боится… Пусть он в вольной песне живет!
И все тут, глядя на атамана, поклонились, добром помянули Сергея.
Далеко уж отплыл легкий парус Степана Тимофеича. Тут на царевом корабле и догадались, что в собольей шапке перед ними был вовсе не Степан Тимофеич. Сергей лежит на полу, встать не может, последний час его приходит. С полу-то чуток приподнялся, на локти оперся, да и говорит из последних сил:
– Мне моя голова не дорога. Дорога голова Степана Тимофеича, была бы она на воле.
Больше ни слова, не проронил. Так и умер Ноздря на чужом корабле.
Погоню на низовье снарядили.
– В синем море, а споймаем! – царевы слуги хвастают, паруса подымают, на весла налегают. Шестами, гребками на самый стрежень корабли выпроваживают.
На стрежень выплыли, их понесло на остров. Крик тут поднялся:
– Держи! Держи! Шестами подхватывай!
Лодки готовить в дело начали.
А три-то паруса за коленом из глаз пропали. Два парчовые по сторонам плывут, белый парус вперед ушел. Волга разгневалась, потемнела, почернела, как Степан Тимофеич в сердитый час, нахмурилась. Почала корабли, как щепки, бросать, того и жди, на берег выбросит. Верховую бы надо, а тут, царевым слугам на радость, Степану Тимофеичу на беду, начал низовой хилить, да и здорово. Шамра в лицо бьет, беляк по Волге катится, словно зайцы белые прыгают.
Паруса царевы широки, высоки, а Степановы три паруса маленькие. Большой парус быстрей бежит, – догоним, думают слуги царские.
А Степан назад оглядывается. «Батюшка, низовенький, выручай!» Лодка его стрелой летит, чуть воды касается, за кормой брагой пенистой волна кипит. Ветер свистит, паруса полощет и в уши Степану нашептывает: «Степан Тимофеич, Степан Тимофеич, лева опущай, права приворачивай, о бел камень на повороте не расшибись. Мы подхватим сейчас твой парус, в чисто море вынесем…»
И больно уж рад Степан Тимофеич, что догадался под белый парус сесть, – пропадать бы ему под большим парусом.
Да, Волгу-то он знал так же отменно, как сердце свое.
И государевы кораблики стрелой летят, – только бы им миновать остров, а там в рукаве они Степанов парус нагонят.
По небу туча плывет черным-черна. Завыл, застонал ветер в мачтах, поперечинки трещат, паруса рвет, корабли в разны стороны бросает, обрывки парусов треплет, носит.
– Сажай паруса! Снимай! – кричат с главного-то корабля.
На таком ветру большое полотнище сними попробуй.
Дернули парус вниз, – не идет, буря не дает. Как покрепче-то ветер рванул парус, надул, тут вверх дном головной корабль и опрокинуло, о каменный остров ударило, на красный берег выбросило.
А другой-то корабль изловчился, мимо острова, мимо того страшного места пробежал, за ним и другие проплыли. За островом плесо влево повернуло, на рукав вышли, низовой теперь дует не по ходу, а поперек Волги. Паруса пуще прежнего полощет. Затрещал головной корабль, набок его клонит, мачты на нем в дугу выгнуло.
– Сажай! Руби отноги! – командуют.
Бросились отноги рубить, да не успели. Поперечинка рухнула с треском, с грохотом, словно из пушки выстрелило. Тут опять верховой начал дуть, ударил в лоб. Якоря кинули. А ветрище такой разгулялся – с якорями судна тащит назад. И вот, братец ты мой, – поверишь или нет? – как все вышло-то. Якоря, значит, бросили, глядят – с низовья навстречу парусов белых несчетно число. Да ходко как они подплывают. И такие огромадные, почитай до самых облаков мачты подняты. Откуда взялись? Досель такого-то на Волге и старики не видывали, и по морям под такими парусами не плавали – больно белы да широки.
– Что за караван такой?
Главный-то государев слуга и говорит:
– Ну, пропали, это Стенька Разин снизу своих на подмогу двинул… Так оно и есть… А мы на якорь сели. На дно всех отправят…
Другой ему:
– А может, то облака плывут?
А уже сумеркаться начало.
– Облака! Эти облака покажут тебе кузькину мать, как поближе подплывут.
И давай скорей снасти налаживать да потемну-то от тех парусов ухлестывать. Вот они как Степана-то Разина боялись! На их счастье, попутный снизу подул. Ну и успели, унесли головы. А то нивесть бы что тут было…
Темнеть стало. Плывет Степан Тимофеич под белым парусом.
Ветер парус полощет, стружок не то по воздуху летит, не то по воде плывет. И чудится Степану Тимофеичу, как ветер шепчет: «Счастье тебе, Степан Тимофеич! Слава тебе, Степан Тимофеич! Зорче гляди, Степан Тимофеич!
Сверху-то за тобой гонятся, на низу под Астраханью перенять тебя хотят. Пронесу я твой парус у них под самым носом».
Так и есть: у морских ворот заслон выставили. Стража не спит, вдаль глядит, прислушивается: не плывет ли кто сверху.
В темноте-то проплыл мимо стражи Степан Тимофеич рукавом тихим около самого берега, а из рукава на простор вольный, в синее море Хвалынское.
На заре видит он: высоко-высоко летят над морем розово-красные гуси-лебеди, весело курлычут, любуются, как гуляет вольный молодец по морю синему под снастью парусиновой. И крикнул Степан Тимофеич, а ему за морями гулом высокие горы ответили:
– Гуси-лебеди, скажите там моим молодцам, донским да заволжским, бедным людям да батракам, кто уцелел, пусть далеко не разбегаются, снова вместе собираются. Свою думу до конца мы не додумали, свое дело не доделали. Придет наш час, – доделаем!
Волжанка-служанка
В воскресный день, в досужный час, сидели ткачи у костерка, вели спотайной совет – свое горе, кабальную жизнь проклинали.
Разговор этот шел на зеленом лугу, на высоком берегу, недалече от большой мануфактуры.
Сидело у костра, ни много ни мало, ткачей дюжина, а средь них Диаклетиан Москвитин – черная копна волос, кари глаза, орлиный нос – молодой рисовальщик, да Галонка Тыра – ткач-бородач, да старик Лука Ковыряло – два рубца поперек лба, голос что ерихонская труба. Кулаком Лука размахивал и такие слова выговаривал:
– А и не было вовек и не быть тому, чтобы Волга-река вспять потекла, чтобы лен-долгунец косили косой, чтобы поросенок яичко снес, чтобы скатерть соткать на подножечном стану, чтобы ваша затея впрок пришлась. Разделают вам спины плетками, узорными салфетками!
А неподалечку примостилася на поваленной березке Маринка-Волжанка – частоплетенная черная коса, темней ночи глаза, сарафан расписной перехвачен узко в поясу. Волжанкой-то ее свои же прозвали за ясны очи, за бело-румяно лицо, за красоту вешнюю. Голос у Маринки, что ручеек ключевой в лесной тени. С малолетства с фабричными людьми дружила, ума-разума набирала, припасала. Ни слова она не молвила, все старших слушала, а поболе всех того, на кого украдкой вполглаза взглядывала, в ком души не чаяла, – на молодого рисовальщика Диаклетиана.
Поспорили ткачи меж собой, да так ни к чему и не пришли. Загоревали пуще прежнего. А Диаклетиан сдвинул шапчонку набекрень, приложил к губам свирельку камышовую.
– Полно-ко горевать. Там увидим, Лука, выйдет ли по-твоему, иль по-моему. Ну-ка споем давай.
Звезды на небе спокойно мигают. В костре сучья потрескивают. Залилась свирель, сердца, души обожгла, всколыхнула, встревожила.
Затянули ткачи старинную, бывалую, у сердца согретую.
У горючего бела камня
Во кручине, во печали
девушка плакала,
Что обидели ее купцы заморские:
Покупали холсты да недодали;
Что обидел ее злой-лихой боярин:
Полюбезного дружка в солдаты сдал;
Что отец с матерью ее печаль
к сердцу не приняли,
На чужу дальню сторону
за постылого замуж выдали,
Что с дворовым ее на мануфактуру продали.
Не дают ей здесь на улицу ходить,
Запрещают дружка милого любить.
Вырасти у того белого камня
Красы чудесной розан-цветок.
Выходила из того цветка девушка.
Всем обличьем она красна, ясна,
Во полуночи в Волге она купалася,
Белой чайкой на волну садилася
И на белом на перышке грамотки писала,
Во сеноты эти грамотки носила.
Где люди плохо живут,
Плохо живут, все задаром ткут,
Все задаром ткут и за то их бьют.
Стала девушка-красотка Волжанкой,
Всем честным-добрым служанкой.
С последним кораблем по осени
В теплу сторону она уносилася,
С первым кораблем по весне на волну садилася.
Ты, Волжанушка, ты, служанушка,
Прилетай ты к нам, приголубь ты нас.
– А у нас и своя Волжанка не хуже есть, – повернулся Лука Ковыряло, берет Маринушку за рукавок, тащит на середину. – Попляши со мной.
По подметке, по руке, по ладони, по щеке хлопнул, топнул и пошел-пошел ногами работать:
Ходи, Матвей,
Не жалей лаптей,
Сами лык надерем,
Сам лапти сплетем…
А и чем не Волжанка-служанка наша Маринка? Сядет дома прясть – как живая снасть, станет песни петь – соловьем звенит, а пойдет плясать – где еще такую плясунью сыскать!
Уморился Лука, оступился Лука, спотыкнулся Лука, покатился Лука. А Маринка вкруг него пляшет, пляшет, платочком машет. От кусточка до пенька, от пенечка до куста, разгорелась, разошлась. Блики полымя на щеках так и плещут.
О ту пору сам купчина, хозяин мануфактуры, обходил сарай спальный, услышал весельбу, пришел на огонек. Стоит за кустом, смотрит, что сыч, слушает, как поют.
Не взять ему, кто тут вихрем носится по кругу у костра: не то девка из Слободы, не то из-за Которости. Уж не сама ли это явилась Волжанка-служанка? У кусточка на одной ножке завертелась, закружилась, сарафан на ней вздунуло цветным парусом.
– Эй вы, полуношники, в сарай пора, – мануфактурщик гаркнул.
Сразу веселье погасло. Плясунья словно рассыпалась мелкой росой по траве, по цветам. Словно месяц скрал. Была и нет.
Вылез купчина к костру.
– Это чья попрыгунья?
Ткачи-то переглянулися.
– Сами не знаем. По берегу гуляла, на огонь забежала да, вишь, и пропала. По всем видам – Волжанка-служанка.
– А о чем она вас выспрашивала?
– Знамо дело: много ли ткем, хорошо ли живем. Выдает ли хозяин муку и поскольку на душу.
Лука Ковыряло молчит, покряхтывает.
– А не спросила, много ли лентяев хозяин зря хлебом кормит?
– Небось это ей и без нас ведомо, – Лука Диаклетиану подмигнул.
Догорал костерок на высоком берегу. Не выходила больше Волжанка на огонек в ту ночь.
– Пустая твоя затея, Диаклетиан, беды наживешь, помяни мое слово, – сказал Лука на прощанье и побрел к себе, на слободку.
Диаклетиан с товарищами – в спальный сарай. Стоял тот сарай на широком пустыре, вокруг – высокий березовый тын с острыми поверх гвоздьями. Вот как хозяин радел о работных людях: знать, боялся, не утащили бы из спального барака ткача-переборщика.
Хоть торцовый-то забор и с гвоздьями, хоть у ворот и сторож с дубиной на плече, перекинулся Диаклетиан через забор. Очутился на высоком берегу, у белого камня, рассыпался соловьим свистом да с прищелком, и выходит к нему из куста плясунья веселая.
Уж как ласкал, целовал ее Диаклетиан, знать, от его горячих поцелуев звезды дождем с неба сыпались. Молодость-то хмельная, неуемная, она ничего не боится, ни в чем ей нет краю.
– Я ведь слышала, тебя хозяин хвалит, твои-то скатерти на царский стол продает. И как это все у тебя выходит: и сам узоры наводишь, и сам на переборном стане ткать умеешь. А узоры-то ты с чего списываешь?
– Самые лучшие с тебя, Маринушка, – он ей в ответ.
– А и полно шутить тебе.
– Не шучу, вот до зорьки просижу с тобой, и узор сама зорька за меня наведет, а уж я-то после сведу с него. Эх, кабы дышать повольготней, не то бы я сделал. Не зря, чай, барин других за полсотни продавал, а как показал мои узоры, сразу за меня с ярославского купца три сотни получил. Э, пропади оно пропадом погано дворовое житье. Здесь хоть тоже кабала, а все-таки чуток получше.
Призадумалась Маринка, затуманилась. Сама-то она была из посадских ремесленных людей, крепостной доли не ведала. Отец ее берда делал. Да рано умер. Жила она с матерью в слободе за Которостью, на базаре лен покупала, пряжу пряла, а мать те тальки носила на мануфактуру. Чтобы пять клубьев оброку не платить за девку, от Приказа таила, говорила, что дочь где-то у барина в дворне живет. Маринка тоже разных притеснений и надругательств много приняла. Приходилось по неделе в подполе у соседей сиживать, когда староста доглядывать приходил, не две ли пряльни у них в избе.
Говорит она другу своему милому:
– Я весной птицам завидую. Поглядишь, летят они, куда им хочется. И так ли сердце зайдется, ничего бы, кажись, не пожалела, жизни бы самой, только бы так же вот хоть один денек пожить: лети – куда захочешь, песню пой – какая по сердцу. И все ты своими глазами видишь, что есть на земле. Даже и смерть-то у птицы красивая. Нет ничего на свете дороже и слаще вольной воли. Давай, Диаклетианушка, будем деньги беречь, копить. Накопим, выкупишься ты, и тогда мы с тобой…
Сколько хороших дум было ими у того камня передумано!..
А разговоры в ту ночь вели ткачи не понапрасну.
Крепко обидел мануфактурщик по зиме мастеровых. Кого на мороз выгнал, кого ради корки хлеба оставил на заведении. Ни соляных, ни дровяных никому не дал.
Ткачи-то и задумали отблагодарить хозяина в такой день, который ему по гроб не забыть. Знали, что за гости в его хоромы въезжи. Кабы не Диаклетиан, может никому бы это и на разум не пришло. Узнал он откуда-то, что царица Катерина по Волге катается, в Ярославль в гости будет, и задумал на хозяина ей жалобу подать.
А и то, старики сказывали, что у ярославских-то дворян и купцов царица Катерина, бывало, и гащивала. Чего было и не гащивать: миллионы на угощенья-развлеченья сыпались.
У ткачей до царицы дельце потайное припасено. Об этом дельце у костра на лугу Диаклетиан с Лукой и спорили. Взяли диаклетианову сторону подножечники и переборщики, порешили жалобу от всей фабрики на хозяина Затрапезнова подать. Диаклетиан ее и писал.
Затрапезнов Диаклетиана-то в Москве купил. Дорого заплатил. Помещик, что продавал своего крепостного мастера-художника, чтоб картежный долг покрыть, знал, какой талант уступает.
Прибежал однажды Затрапезнов в светличную рисовальню, как встрепанный, приказал все работы бросить и готовить скатерть не на продажу, а на особенный заказ – для царского стола. Смастерить узорец небывалый, шелку, серебра и золота не жалеть.
Долго Диаклетиан корпел, спину не разгибал над узорами, сделал такую скатерть, что и словами о ней не сказать. Каждая ниточка в ней, каждое волоконце горит, сияет. А узоры какие!
Скоро уж и царице в Ярославле быть.
Затеял Диаклетиан такую хитрость: может, мужика с жалобой к царице не подпустят, а вот девушек, кои помоложе да с лица привлекательны, тех, может быть, вместе с хозяйскими да княжьими дочками подпустят руку царице поцеловать. Тут и сунуть царице жалобу.
Как одумал, так и сделал. Уговорил свою невесту нарвать букет, жалобу цветком свернуть, запрятать в середку и вместе с букетом царице подать.
Согласилась Маринка. Приоделась чистенько. Лазоревую повязку по заушки повязала, надела поднебесного цвета платье. Цветов нарвала за Волгой, в букет белым цветком вложила потайную грамоту.
В день приезда царицы, когда народ к пристани повалил, и Маринка пришла. Сбоку притулилась вместе с незнакомыми фабричными и слободскими девушками. Гусары-усачи в шляпах с перьями, шашки наголо, на Волжанку глазом косят. Вот это красавица! Словно солнышко, среди девушек ярче всех она светит. Княжьих, купецких дочек с ней и вровень ставить нельзя. Ни одной еще такой красавицы во всем Ярославле и окрест не было.
По другую сторону дороги, на горке, с фабричными – Диаклетиан. У него тоже грамота в картузе наготове. На запас писана, коли Маринке не удастся подать.
Увидали наконец: корабли царицыны плывут, передний корабль под богатым парусом. Музыка гремит, в барабаны бьют, на солнце трубы блещут.
С берега пушки начали палить, земля трясется, над Волгой-матушкой дым гривами. На всех церквах, соборах звонари норовят колокола разбить. На берег-то все дворянство высыпало, купцы за дворянством в затылок, головы в божьем масле, как блины о масленице, блестят маковки. Духовенство с хоругвями, с иконами, с крестом, с ладаном тоже тут.


