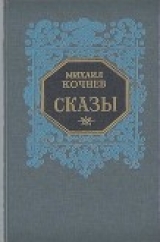
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Белый парус
Летели раз гуси-лебеди с синя моря над нашими краями. Летели да все любовались: больно края-то хороши. А сверху все им видно, лучше чем с колокольни. Солнышко светит, на полях рожь сияет, луга коврами раскинуты, а промеж лугов, полей леса стоят.
Летят над нашим местом и в толк не возьмут, – что ни летели, – чай, полземли облетели, – а такого чуда не видывали, чтобы среди лета на лугах белые снега лежали и не таяли, словно кто заколдовал те снега. Спустились гуси-лебеди пониже и видят: не белые снега лежат, это холсты отбеливать раскинули. Полюбовались гуси-лебеди, да и дальше своим путем-дорогой полетели.
У холстянщика Калачева бельник как раз под окнами был. Белым-бело на бельнике. По одну сторону дороги – холсты лежат, по другу – тоже. Бабы на пригорке сидят, товар берегут. Вышел и сам хозяин на свое добро полюбоваться. Похаживает по бельнику: глядь, катит по дороге купец Усов, ровно на пожар торопится.
Шапка с него слетела, под ногами валяется, рыжие волосы ветер треплет, на лице бородавки земляные запеклись, весь грязью обрызган.
– Ты это откуда? – Калачев кричит. – Постой!
Остановил Усов лошадей, сам не отдышится.
– Что, на трахту потрясли, что ли?
– Да нет, хуже, брат. Челом бил государю нашему князю Якову Куденетову Черкасскому. (А князь этот и ту пору и владел селом Ивановым). Слышал, чай, по весне был я со своим стругом на Макарьевской ярмарке, для своего промыслишка положил на струг товару – воску, шелку и краски, да сыновья Антипьевы села Тейкова со мной, Иван да Гришка, кладь бросили. От Макарья по рекам судном к Шуе везли. А на реке Оке людишки беглые, тати лесные, нас встретили, воск, шелк, краску и стружок отняли. А по сказке Антипьевых да по моей сказке всего на струге товару было рублей на половину тысячи… А кроме того, сукна грабежом взяли. Не мои сукна – чужие, а те сукна закупил я государю своему, про его обиход… Лучше бы самого меня громом убило…
Увидел Усов, что неподалеку бабы на пригорке сидят, отъехал подальше и шепчет Калачеву:
– А повыше Астрахани, пониже Саратова, слух идет – и похуже творится. Народ на низовье помутился. Людишки черные государю Лексею Михайлычу покоряться не хотят. Свой царь у них, свой заступник. Какой-то Степан Тимофеич, вон кто. Удалой, говорят, кремневой, а буйный, как Волга в бурю, – инда застонал Усов. – Но, вы, дьяволы! – стегнул лошадей всех трех и к себе погнал, только мостовины под колесами прыгают.
Сам-то Куденетыч в Москве больше жил, в село редко заглядывал, а эти два мужика, Калачев с Усовым, в довер к нему влезли, разны послуги княжие правили, ну, вестимо, и себя не забывали.
Вскоре пришли к Калачеву на работу наниматься шестеро молодцов, седьмая девка с ними. Чьи они и откуда, никто не знал. Никаких бумаг при себе не имели, и, видно, шли они своей дорогой, да переняли их и вернули. Пришлось им в Иванове остановиться. Народу в те поры нехватало, в светелки и беглых брали. Хозяину что: беглый ты или какой, знай тки. Вот и эти семеро из таких, должно, были.
Попригляделся Калачев к одному кудрявому парню, что был смелее всех, и спрашивает:
– Сережка, это ты – Павлов сын, в Тейкове ткал да из светелки убежал? Пока гулял, родители твои померли, а изба сгорела. Ты ли это?
– Ну, а хоть бы и я. А ты что, к губному старосте побежишь или воеводе в Суздаль докладывать? Так-то прогадаешь только…
Народу недостача, а то бы, возможно, и донес куда надо Калачев. Взял всех семерых Калачев. Взять-то взял, а наветку дал: чтоб жить тише воды, ниже травы, с кабацкой голью не водиться, хозяйское добро в кружалы не носить, сказок и небылиц про своих хозяев не выдумывать, на житье не жаловаться и всегда быть в хозяйском послушании, без хозяйской воли ни на шаг не отлучаться; а не то: «Дыхну воеводе – и хуже будет».
Стали они жить-поживать, товары разные ткать. Ткали отменно. Особо девка отличалась, Наташа. Красиво работала. Нитка оборвется – кажется, она и пальцами не успела прикоснуться, а нитка уже срослась и узелка не видно. Побойчее наших оказалась. Разок хозяин ожегся о Наташу. Что-то в простанке заметил, не чисто вроде, обрывов много, да было стукнуть хотел ее. А она, не будь глупа, схватила челнок да на него:
– Ты, – говорит, – руки покороче держи, за скало не задень, пальцы обломаешь…
И осекся хозяин.
А уж чтобы побаловаться с ней, и не помысли. Строга была. Видом статная, глаза серые, косы русые в два ручья, грудь высокая.
Больше всех ладила она с одним парнем из их же артели, с Сергеем. Всех помоложе он был, а такой ядреный. Брови черные дугою, и кудри на лоб спадают, глаза карие, соколиные. Бывало, случится, тряхнет кудрями, – на лбу клеймо видно. Тоже за стан сел.
Видит Калачев, хорошо молодцы работают, усердно. Похвалил их, а сам думает: «Что этим поблажку давать? Набеглые, нечего им потакать».
И стал на них нажимать. Что ни стараются они, и все им никакой отлички нет. День ото дня житье хуже да хуже. Что ни живут набеглые у Калачева, все себе в убыток.
Сергей пригляделся да прислушался к народу и зачастил в избы, где хозяева победней. Калачев узнал, что Сергей на чужие дворы шляется, не полюбилось ему.
– Ты, – говорит, – пошто на чужие дворы ходишь? Или хочешь, чтобы я тебя на железную цепь посадил?
Заказал Сергею отлучаться. А Сергей все равно, как только стемнеет, тайком да уйдет куда-нибудь.
В субботу на воскресенье немножко пораньше Калачей отпустил парней из светелки – в баню сходить, пыль, грязь с себя смыть.
Помылись парни, с устатку-то да после горячей бани только ткнулись на подстилку, и заснули мертвецким сном. Ни свет ни заря будят их: сам воевода прикатил, и дьяк, и подьячий с ним – в красных шубах, в бобровых шапках. И пушкарей и объезжих с собой прихватили, словно в поход собрались. Объезжие-то за полицию в старое время правили. Губной староста, и тот сзади всех на пеганке брюхатой притащился. Кошке улицу перебежать – и то страшно. Ну, мужики скорее двери на запор, кто – в омшаник, кто – в яму. И ребятишки, как клопы, и щели забились. Не то страшно, что с ружьями приехали, страшно то, – это уж завсегда, – раз воевода в село: подавай ему на стол и въезжее и праздничное кормление.
На всех воевод кормлений не напасешься. Кормление-то один раз в году родится.
Холст не пирог, не укусишь холстину, а и к холсту воевода приноровился. Холст-то ему вкуснее пирога с грибами показался.
Въехали в село. Не войдешь, не выйдешь. Во всех прогонах с ружьями стоят. Объезжие с воеводой, губным старостой и Калачевым по дворам пошли. Идут по сторонке: через две третья – изба пустая, где двери, окна заколочены, а где ни окон, ни дверей и в помине нет, одни гнилушки, разваленные стены да крыша соломенная. Прошена избушка-старушка, стоит, колом подпираясь, никому не нужна.
– Что избенок пустых много? Куда людишки подевались? – воевода Калачева спрашивает.
Калачев в ответ:
– Людишки-то тают, как снег по весне. Половина беглые. Хитрят. И никак ты их не удержишь… Отпросится куда-нибудь с коробом на торженец стаскаться, и Шую или в Вичугское, да и не воротится. А то и тайком уходят. Стан и колоброд в избе бросит. Хоть на цепь железную всех сажай… А в пустых избах – всякому ворью, беглым людишкам пристанище… Повелеть бы жечь у таких жилье…
Воевода свою должность правит – как бы в карман себе нащелкать побольше. В каждой избе за что ни то да зацепится.
Что воевода скажет, а дьяк тут же, чернильное рыло, уткнется носом в книгу, скрипит гусиным пером – с кого сколько, на заметку берет, и пузырек с чернилами у него на груди висит взамен креста.
В те поры воеводы за все гребли. На лето приказывали печи в домах глиной замазывать, чтобы от пожаров оберечься. Не замазал печь, заглянет в избу воевода или губной староста, ну и попал хозяин за провинность: алтын подай или холсту кусок старосте на постой тащи.
А узнают про которого, кто в гром купался, – тут уж одним куском от властей не откупишься. Кто в новолунье на луну поглядит, за это тоже не миловали. Колдовством да идолопоклонством считали. Воск лить, в мяч или в шашки играть, песни по ночам петь – за это – ой как влетало.
Все село облазили, за овраг в косоплечую избу после бобыля, Архипки беглого, наведались. Тут Сергей со своими приятелями горевал.
– Чьи это? – воевода спрашивает.
– Мои парни, в работу взял. Этот вот тутошний, – указывает на Сергея, – почудил он немножко, погулял малость, а теперь одумался, ткет у меня и этих вот с собой привел.
– Прилежны, послушны ли? – воевода допытывается.
– Да пока что под рукой все у меня, не блажат, – выгораживает Калачев парней. А то вздумается воеводе отобрать даровые руки, к себе угонит.
И с этих попытался воевода хоть что-нибудь да ущипнуть:
– Сказывают, вы идолу поклоняетесь, в мяч играете, в карты тешитесь, в образины горазды, поете по ночам, маски строите да носите, видели люди, на качелях качаетесь?
Сергей не больно-то испугался и отвечает:
– Полно-ко, по-твоему, идолу кланяемся, а по-нашему – своему хозяину Савве Садофьичу. Вот он. Играть мы от темна до темна играем – челноком, за станом сидючи. И петь поем, словно волки на луну с голоду. И маски носим, когда из светелки идем: в пыли, в пуху – не узнаешь нас. И качаться мы качаемся: только не на качелях, а на своих ногах от усталости, когда из светелки и эту дыру бредем…
Воевода ногой топнул, плетью по сапогу хлопнул.
И сразу видно, что погулял, парень. Смотри у меня. Помалкивай больше – складнее будет.
На крыльце Наташа встрелась.
Крикнул на нее воевода:
– Чай, тоже воск да олово льешь?
– Лью, лью, батюшка, каждый день лью, только не воск и не олово, а свои слезы, – Наташа в ответ.
– Я тебе, муха осення! – на нее воевода кричит, плеткой стегнул. – Ты этих людишек сплавь куда-нибудь поскорее, – велит воевода Калачеву.
В обед сели за стол наши ткачи, ударил старшой ложкой по столу, и пошли в двадцать рук похлебку поддевать из ведерного блюда. Тут, брат, не зевай. Похлебка вкусная, с наваром, в ней крупина за крупиной бегает с дубиной.
Потом про чуму разговор пошел, будто чума во всех селах и городах по Волге косой косит.
– А все-таки с низовья идет не чума, а радость сама, – Сергей говорит, – да злые люди застили пути, не дают ей итти.
А Калачев тут как тут.
– Эй, ты, лясник-балясник, держи язык за зубами, на длинный язык и топор найдется.
– Нет, хозяин, на мой язык топор пока не припасен, – ответил Сергей, встал, да и за свое дело пошел.
У хозяина инда рот искривило, схватил он Сергея за рубашку.
– Ты что это больно смел стал! Да я, знаешь, за непокорство парусины натку из тебя. Кто ты такой есть? С какой каторги убежал? В замки закую, опять отошлю туда, откуда улизнул, – грозит хозяин. Сам трясет парня.
– И здесь не слаще каторги. Пусти, что ты ко мне прицепился?
Так ли еще прицеплюсь!
Да было и хотел стукнуть Сергея, а тот чуть поразвернулся да как тряхнет высоким плечом. И тряхнул он, со стороны поглядеть, совсем легонько, – Калачев кубарем от него отлетел.
– Ах, так-то ты со своим содержателем поступаешь? Ну, постой, я из тебя дурь палкой, как зерно из сухого снопа, завтра же выколочу!
Сергей ткать в светелку пошел. Ни слова не сказал больше, только губу прикусил да ноздри у него немножко вздрагивают.
Светелка у Калачева в огороде стояла за малинником, на сарай смахивала. В два ряда станы поставлены, у кого пяток, у кого и больше, у Калачева так цела дюжина станов была. В окнах железные решетки вставлены, да пыли, пуху изрядно на потолке и на стенах налипло. Зимой при лучине ткать начинали, при лучине и заканчивали.
Сел Сергей за стан, начал челнок из руки в руку бросать, бердом приколачивает, только стаи потряхивается да стены дрожат. Наташа поблизости ткет, другие тоже. Сначала Сергей все молчал, чернее тучи сидел, потом улыбнулся, сказку повел про челнок – золотой бок.
Дальше да больше, и развеселил всех. Под забавное-то слово не заметно, как время летит.
Трусится вечером Калачев, на нем армяк вроде поддевки широкой, рыжий войлочный, шапчонка серая кошачья, сапоженишки стоптанные, глаза, как у мыши, так и бегают; заглянул в светелку.
– Что все лясы точишь, а ткать-то когда будешь? – кричит на Сергея.
– А ты что, умирать собрался? На саван, что ли, тебе? На саван – так постараемся! – отзывается Сергей из-за стана.
Больно за живое задело это Калачева.
А губной староста еще в селе был. Калачев к нему жаловаться побежал. Сергей-де, голяк, народ мутит. Губной староста хозяина и наставил, как поступить: за первую провинность перед хозяином прутьями ослушника стегать, сколько хозяин сочтет нужным, за вторую провинность опять теми же прутьями попотчевать, а если работный руку на хозяина поднял и словом дерзким непослушность оказал – за это пороть, а после ноздри рвать и сослать на каторгу на год или навечно, как хозяину взглянется.
Утром объезжие вытащили на двор скамейку, навалились семеро на одного.
Долго Сергей им не уступал. В полном цвету был парень. Как тряхнет плечами, кубариками все эти объезжие от него летели. Все ж таки одолели, по рукам, по ногам скрутили его, выволокли на двор, к скамье ременьем сыромятным по пояс голого привязали. Пучок прутьев свежих припасен и бадья с соленой водой тут же.
И народ-то весь, как уж водится, на эту расправу глядеть выгнали.
Два пьяных молодца в красных рубахах рукава повыше локтей засучили и начали с обеих сторон по спине Сергея писать. Ни охнул, ни застонал Сергей, как умер. Только вдруг вздрогнул он весь, и скамья под ним заходила, как ударили его прутом игольчатым, а из-под прута кровь палачу на волосатые руки брызнула.
– Помилуйте, пожалейте! – не стерпела, бросилась Наташа к скамье, а у самой слезы льются…
Сергей крикнул:
– Отойди, Наташа! Не плачь!
– Что, заступаться лезешь? Заступница нашлась! – Велит хозяин: – Распеките-ка и заступницу кстати!
И Наташу исхлестали. По лицу задели, со щеки рубец долго не сходил.
Больше часу, чай, маяли парня на той скамье.
В избу-то на рогоже понесли.
Дня два Сергей лежал в углу на дощатых нарах, ни повернуться ему, ни сесть нельзя.
После работы прибежала Наташа, села рядом на сундучок, припала щекой к его горячей руке, плакать не плачет, а слезы у нее катятся. Совладать с собой никак не может. Хочется ей чем-то горе сергеево залить. А чем – не знает. Глядит на Сергея и видит: стал он какой-то на себя не похожий, особливо глаза его карие помутнели, смотрит прямо. И тяжело становится, как в них глянешь.
Спросила она, тихо так, словно боясь раны свежие разбередить:
– Сереженька, больно тебе?
Отвернулся он на минутку к стене, и видно, как губу кусает и горло содрогается, словно он что-то кислое никак не проглотит.
– Клопов-то в пазу сколько, – вдруг вымолвил он, потом обернулся к Наташе, а у самого глаза влажные, как черная смородина, дождем умытая, да и говорит он: – Не так больно, Наташа. Обида горька… Погоди, Наташа, чует мое сердце: хоть день, да в полную радость, как нам хочется, поживем…
И заулыбались его карие глаза. Взял он руку наташину, к груди к своей прижал и так ласково, бережно гладит.
– Хорошо бы так-то. Да сбудется ли по-нашему-то? – Наташа спрашивает, сама тужит: – Податься человеку некуда. Ночью вчера на всех прогонах поперек улицы деревянные решетки поставили, от зари до зари ходят по селу да гукают, от избы до избы не пущают. Кого-то, знать, ловят!
На третий-то день Сергей кое-как встал, ткать пошел. Увидел хозяина, отвернулся, будто не замечает.
Прошло сколько-то после того, так с месяц, не больше. Затосковал наш Сергей пуще прежнего. Сердце его неуемное на волю запросилось…
Праздник какой-то был. Вышли молодцы за светелку к забору, на солнце погреться, на траве зеленой поваляться. Окромя и пойти некуда. Теперь-то обширно и цветисто наше место, недаром ситцевым царством прозвано, а в те поры не то вовсе было, совсем другой колер. Село – как село, много таких-то, дворов сотни две, а то и этого не насчитаешь. Посередь села Покровска гора, на горе церковь, по одну сторону река, по другу овраги да ямы, а по-за оврагом-то четыре-три улицы кривых, избенки хмурые, оконца маленькие, на крышах солома, а в огородах кой у кого и побольше избы есть – это светелки, в них-то и ткали старые люди. Около церкви торжок невелик. Лавок десять каменных, десятка два деревянных, с дюжину шалашей, пяток балаганов да трактир с кабаком. Амбар льняной да сарай соляной, гостиный двор да изба-таможня, кузница при дороге – вот тебе и весь торжок.
День ведрёной был, радостный. Небо синее и солнце такое, как материнский взгляд, приветливое.
Кто-то на рожке грустно-грустно заиграл. А Сергей сидел, обнял колени да все в землю глядел. Потом как вскочит.
– Будет тебе, Митька, плакаться-то, давай веселую!
Эх, да нам бы в поле,
Нам бы волю!
Эх, нам бы в руки кистени!
Нежданно – масленая голова – хозяин подошел к забору, наклонился пониже и слушает, что тут за небылицы Сережка разводит.
Глядь, от лесу прямо над фабрикой летят гуси-лебеди, серебряными крыльями весело помахивают, и ни преграды им, ни запрета нет. Куда хотят, туда и летят.
Глянул Сережка, умолк, потом руки вскинул и кричит им вослед:
– Эй, гуси-лебеди, летите в понизовье, снесите от нас да поклон Степану свет Тимофеичу!
И картузом вослед им помахал Сергей. Калачев горбыль оторвал, просунул голову в забор.
– Лечили тебя, да мало. Все маешься? Подожди, скоро с провожатым отправим!
Сергей стоит, ни слова. И другие стоят. Осмелел Калачев, пролез в дыру забора, накинулся на Наташу:
– А ты чего здесь не видала? Охальница баламутная, всяки непристойности слушаешь! – да и толкни Наташу в бок-то.
– Ступай в свою нору! – кричит на девку.
– Не смей трогать! – прикрикнул на хозяина Сергей.
– А ты мне что за указ? Клейменый вор!
Не стерпел Сергей и со всего молодецкого плеча заехал Калачеву по тому месту, коим щи хлебают.
Окарачь пополз от забора Калачев.
Ночью, как уснули все на селе, Сергей и шепчет своим молодцам:
– Завязывай котомичи. Ночь-то благо темная, может, как выберемся. Спасибо этому дому, пока не поздно, пойдем к другому.
Не успел он это и проговорить, слышит, в сенцах кованые каблуки топают. Так и есть. Входят тузы синие картузы, шагают через порог и шашки поперек. Пришли за Сергеем.
Ну, залетная птица, про тебя у нас припасена железная светлица, – потешаются над Сергеем.
– Не обидно залетной птице сесть и в светлицу. Обидно то, что запоймали залетную птицу вороны, – отвечает им Сергей.
Увели Сергея. Загорюнились его друзья, а больше всех печалилась Наташа: как Сергея из беды выручить, от каторги спасти?
Недели не минуло, Сергея собрались в железы обувать.
На торжок народу много собралось. Опять скамейку поставили, прутья припасли, кузнец замками звенит, угли раздувает, и Калачев тут, и губной староста здесь.
Вот ведут Сергея, по рукам связанного. Ветер поднялся, норовит крыши сорвать, так деревья к земле и гнет, так и дерет, сарафаны полощет, картузы сдергивает.
У скамьи ни одного Сергеева приятеля. Знать, побоялись казаться здесь. А Наташа тут. К самой скамье протискалась, печальна она, глаза докрасна заплаканы, лицо бледно, как полотно.
Второй раз Сергея на скамье растянули.
Много прутьев о его спину измочалили. Вот уж и со скамьи пора поднимать, а он одно:
– Бейте, бейте, память не выбьете.
Подняли его со скамьи, ноздрю вырвали. Только бы другую-то рвать, тут поднялся гам: за оврагом дом загорелся, на другой стороне, глядь, и у Калачева дом горит, и светелка-то его занялась. Да сразу шесть петухов замахали красными крыльями в разных концах.
Всяк свое спасать бросился, про Сергея забыли.
Пока пожар потушили, Сергея с приятелями и след простыл. Средь бела дня ушли.
Много в те поры погорело.
Ушел Сергей, и с других-то светелок, из Кохмы, из Тейкова, вскоре стали люди пропадать. Тут и вовсе все выезды и въезды заколодили: ни волку пробежать, ни вороне пролететь. Погоню выслали, да где ветер в поле поймать?
А на Волге, в низовье, в ту пору Степан Тимофеич всему краю головой стал. Все царевы указы-приказы в костер бросил, чтобы и следа от них не осталось. Верных слуг царевых на местах расшугал, а кои не успели улизнуть, тех своим судом стал судить. У дворян и бояр был свой закон, а у него свой, новый, народу наруку. Кому на грудь крест, кого и на шест, смотря по заслугам. Кто побогаче, от него бегут, а кто победнее, хлеб-соль на блюде на берег несут. Одни плачут да сундуки в землю прячут, а кто и рубашки шелком-золотом вышивает – встречать гостя.
Люди у Степана Тимофеича – один к одному: не с боярской перины неженки, все из-под ярма да из-под плети, из кабалы да из острога, с нуждой, неволей с малых лет спознались, в голоде, в холоде родились и выросли. И сам Степан Тимофеич в жизни немало горя хлебнул, сам обиды князьев да купцов сносил.
Глянет в глаза Степан Тимофеич и сразу тебе скажет, кто ты есть такой, воля или неволя тебя к нему в стан привела.
Проступок плохой не простит, но уж и зря человека в обиду не даст. Страсть как народ он любил. Не зря он и Волгу из всех рек облюбовал. Душа-то его с Волгой схожа была, такая же разливчивая, широкая да обильная.
И все мысли-думы у него были чистые, светлые да прозрачные, что вода в Волге.
Повыше города Астрахани, чуть пониже города Саратова, на высоком берегу раскинул свое войско Степан Тимофеич. Как речки мелкие со всех гор-долин бегут в Волгу, так и к нему со всех местностей надежные люди с каждым днем прибывают.
Что творится тут! По Волге-то, на сколько глаз глянет, все бусы червленые, красногрудые, челны снаряженные, не стая лебедей опустилась, всю Волгу заняла.
Негде кулику сесть, все одни снасти Степановы.
У высокого берега паруса виднеются белые, а посреди всех самый лучший корабль красуется, мачта на нем золоченая, а на ней подняты три паруса в три яруса; первый парус – шелковый, второй – серебряный, третий парус – золотой парчи, узорного бранья.
Под теми парусами пушки чугунные стоят, пушкари караул несут. Это – корабль самого Степана Тимофеича. Только нынче сошел хозяин со своего корабля.
На высоком берегу, в сутки на коне-скакуне не обскакать, полотняные белые шатры не сосчитать. А повыше-то всех, на холме зеленом, китайской парчой шатер убран. Не всякому под тот шатер входить дозволено.
Кому случится мимо шатра итти, проходя, помалкивает, чтобы Степану Тимофеичу не мешать думу думать.
Вот являются к нему свои люди в черных шапках бараньих, в красных кафтанах.
– Степан свет Тимофеич, тут один в твои люди просится, из рощи вышел, подобрали.
Встал перед ним лоботряс длинный, армяк на нем, как на коле висит, опояской бордовой чуть не подмышки перехвачен, лаптишки разбитые, портянки кой-как подвернуты, шапчонка собачья лохматая.
– Какого ты роду-племени, чем промышлял, пошто ко мне пришел? – Степан спрашивает.
– Барский я. Беглый. С-под Казани.
– Из мужиков, стало быть?
– Как водится, батюшко Степан Тимофеич.
– А жив ли там князь Собакин? – Степан Тимофеич спрашивает.
– Жив, что ему сделается, – не подумав, тот говорит.
А такого князя там и не бывало. Это Степан Тимофеич провер устроил.
– Что это ты вроде трясешься?
– Прозяб, батюшко Степан Тимофеич.
– А в Волге-то вода скоро будет еще холодней, – говорит ему Разин, и брови его черные в две горы сходятся, и в глазах что-то недоброе…
– Мужик, а что же ты не по-мужицки опояску повязал?
– Чтобы теплее, батюшко, – пришлец бормочет.
– А что это у тебя портянки-то как подвернуты? В дворне жил, а портянки подвязывать не выучился, – строго так Степан Тимофеич упрекнул его.
И сплоховал человечишка, вытянулся он перед Степаном Тимофеичем, стоит – дрожмя-дрожит.
Велел Разин обследовать беглого. Стащили с него армяк, портки с заплатами, а под портянками у него денег пачка. Деньги-то – ладно. Дело хуже оказалось – всяких бумаг фальшивых много имел при себе. Припугнули, сознался, – лазутчик. Подослан выглядеть да выведать. И никакой он не дворовый мужик, а дворянский сын.
За руки, за ноги схватили его Степановы люди, качнули раз другой и почитай на самую середину забросили, только брызги полетели.
Едва с этим управились, подоспел Сергей с пятью молодцами да девка с ними. Тоже к Степану: не приютишь ли, не побрезговай. В час тот Степан Тимофеич, не скажешь, в хорошем духе был.
Встали у шатра все семеро, Сергей на шаг наперед ступил.
Из шатра, чуть наклонясь, Степан Тимофеич выходит, кафтан парчовый на плечи накинут и при золотой шашке.
– Откуда будете сами, люди добрые?
Не сдержался Сергей, как увидел он перед собой Разина, упал на колени, рубаху на груди рванул, и радостно ему, и больно, он и сам-то сказать не умеет, что с ним торится, что на сердце за долги годы накипело.
У Сергея инда в носу защекотало, как назло слезы на глаза навертываются. «Ну, – думает Сергей, – пропал я. Сейчас Разин скажет: «Тоже молодец, расплакался!» и отошлет туда, откуда пришли. А это – хуже нет».
– Степан Тимофеич, как перед богом перед тобой. Разрежь сердце мое и погляди в него, чай, все оно черным-черно.
– Издалека ли?
– Днями в трущобах скитались, ночами шли. К тебе путь держали. Ткачи мы ивановские. А что заставило… и кто мы…
– Встань, встань, сударь, я тебе не бог и не царь! Я, как ты, такой же человек! – велит Степан Тимофеич.
Встал Сергей. Положил ему руку на плечо Разин да в глаза попристальней глянул и удивил Сергея немало.
– Знаю. Все знаю: и кто ты и что тебя привело сюда.
Удивился Сергей:
– Откуда знаешь-то?
– Жизнь твоя на лице твоем написана. Вон ноздри-то какие.
Всех Степан велел приютить, накормить, напоить, всякому дело дать. Больше всех из артели полюбился ему Сергей.
Не в охулку, а по дружбе все стали его вскоре звать – Сергей Ноздря.
Наташу Степан увидел, только вздохнул глубоко, полюбопытствовал:
– Твоя, што ли?
– Да, с нами пришла. Вместе маялись…
Наташа с первого дня за дело взялась: рубашки кроить, белье стирать, паруса шить. Как узнали, что она ткачиха, откуда-то стан на корабль достали, пряжи добыли.
Пряжа диковинная. На бухарскую-то она не похожа, вроде чуть потоньше, а с английской сравнять нельзя – и позвонче и поприглядней. Глядит Наташа – пряжа-то не простая, серебряная.
И думает она: «Что бы такое соткать – Степана Тимофеича порадовать, за добрый прием отблагодарить? – И решила: – Дай-ка сотку я парус на стружок Степану Тимофеичу».
А на том берегу высокая гора каменна была. Такая ли гора, что макушка ее облаками повита. Ни один человек до того на ту гору не хаживал. Поднимался на нее один Степан думу свою думать. И все с той горы ему видно: кверху до Кинешмы, понизу-то до Астрахани, до самого синя моря.
Глянул Степан Тимофеич в одну сторону, ничего не заметно на Волге, в другую сторону глянул, затуманился. Что белеется? Кого это ляд несет? Да и улыбнулся вдруг: плывет сверху караван богатый, а впереди-то струги с пушками пущены, видно флаги государевы, а на стругах царские люди. И прикидывает Степан: самому встречать караван плыть или кого из своих работничков послать?
Разгадал Сергей Ноздря его мысли и просит:
– Степан свет Тимофеич, пошли меня встретить гостей по-честному, по-хорошему.
– Что же, плыви. А я погляжу с горы, как ты встречать умеешь.
Обрадовался Сергей. Раззуделось у него плечо, разгорелась душа. Может, он всю жизнь о таком разе мечтал.
Снарядил Сергей струги легкие, на передний сам сел. И еще стружков цела сотня. Гребцы все развеселые, принаряжены, кафтаны на них на камке однорядочной, шапочки на них все собольи, верхи бархатны красные, а рубашки у всех дорогие – шелковые, галунами обложены, сапоги сафьяновы.
Веселятся гребцы, радуются, – дело горячее подоспело, на весла налегают, сами песни поют.
Мы веслом взмахнем – корабль возьмем,
Кистенем махнем – караван собьем…
Издалече шапки скинули, гостям поклонилися, зарядили пушки, на караван навели, изо всех пушек враз поздоровались. Те тоже ответили. Все зелены берега дымом окутало, красна солнца из-за дыма не видать. Пахнет порохом да копотью, дым клубами по воде стелется, словно сумерки над Волгой опустились. Гребцы ножи, сабли да рогатины в дело приготовили.
Ближе съехались, железны крючья на чужие корабли перебросили, подтащили их поближе, на палубу высоку со стружков перепрыгнули и начали колоть, рубить тех, кто упрямится, противится. С рання утра до поздня вечера бой вели, на закате солнца привели караван к острову. Мертвых в Волгу побросали, живых в полон взяли. У Сергея на лбу белая повязка, кровь на ней алая выступила, словно смородину мяли.
А многих своих и вовсе не досчитались. Похвалил Степан Тимофеич своего молодого помощника.
Подвели к Степану купца Калачева. Он-то со своим кораблем пристроился к каравану, что товары астраханские воеводе вез.
Калачев-то сам не робкого десятка был, в молодости на дорогу с кистенем по ночам хаживал.
Чуть прищурил око соколиное Степан Тимофеич, руки на высокой груди скрестил и так-то пристально купцу в глаза глянул.
– Поди, о Степане Разине напраслины всякой много мелете, – мол, де он по Волге гуляет, народ убивает?
Что ты, что ты, сударь, да я денно и нощно о здравии твоем молился. И людишкам своим приказывал бога за тебя молить. Я про тебя припас меду ковши. Прими, отведуй, не побрезгуй. Золотая рубашка про тебя соткана. В коробье берегу… Дай-то бог удачи тебе и долгой жизни, подмасливает Калачев.
– Другая жизнь и коротка, да красна, а то и длинна, да черна, отвечает ему Степан Тимофеич.
А Калачев все угодить старается:
– Что правда, батюшко, то правда, и красна и цветиста твоя жизнь, ярче ткани персидской.
Нахмурился Степан Тимофеич.
– Кто и дорожит такой жизнью, а кто и бежит от нее.
– Ну, что ты, что ты, батюшко. Да я бы и то рад-перерад хоть кем-нибудь у тебя служить, – хитрит Калачев-то. – Скажу тебе по секрету: ехал-то я не торговать, парусину вез на струги тебе, сукна твоим молодцам на одежку, я знал, что с тобой встречусь. Не побрезгуй, прими. Ничего для тебя не жаль. Еще натку, вдвое больше привезу.
– Что же, спасибо за подарок. Не подарок дорог, любовь дорога, – говорит Степан, потом и спрашивает: – Ну, а народ-то как там у вас?
– Народ у нас работящий, хороший народ…
– А этак вот у вас не водится? Эй, Ноздря, а ну, иди сюда.
Подошел Сергей.
– Не узнаешь такого?
У Калачева ледяные мурашки по коже забегали.
– Больно стар стал, свет-то плох, – говорит. – Что-то не признаю. Не видывал у нас такого.
– А я тебя сразу признал. Здравствуй, полотнянщик Савва Садофьич. Помню твою соленую лапшу.
А глаза-то у Сергея стали страшные, зубы стиснул:
– Степан Тимофеич, потешь Сережку Ноздрю. Руки чешутся, кровь во мне горит. Дай мне гостя отблагодарить, отпотчевать…
Отстранил его Степан:
– Постой, Ноздря, погоди.


