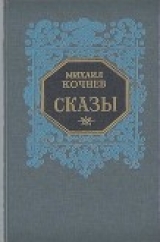
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
Серебряная пряжа
На одной фабрике нашей, – а в точности не знаю, на какой: одни сказывают – на Куваевской, другие говорят – у Грачева, – такая история в старое время приключилась.
Хозяин фабрики больно скопидомен был. Карман толстый имел, а одевался не лучше конторщика; когда же он на фабрику приходил, так и хуже того: все хотелось показать рабочим, что он-де, божья сирота, последние штаны протер, за хозяйским столом в белой конторе сидючи.
Отец у него когда-то горшечником был, миткаль доской набивал, на Кокуе с лотка базарил. С лотка у них все и зачалось. Ну а сын воротилой стал.
Отец ему и рассказал, что была когда-то у ткачей, в старое время, серебряная нитка. Ну, раз серебряная, то и дорогая. Да затеряли люди эту нитку, ищут уж сколько лет, найти не могут. Может, объявится счастливец, нападет на след, завладеет этой ниткой – озолотится. Хозяин-то спал и видел эту нитку. С детства мечтал, плешь на голове блином обозначилась, он все еще надеется.
Вот раз задержался он на фабрике. Запоздно тогда работу кончали.
Знать, хозяин утром не на ту ногу встал, весь день ходил по фабрике злой, на народ не глядел, все у него дураки, лентяи нерадивые. К кому ни подойдет – посмотрит на сделанное, только и скажет:
– Работать как следует не хотите, метлой вас гнать с фабрики, дармоедов!
Ткачихи, которые с уроком справились, домой собираются, пустые платки завязывают, пыль с себя метелкой обивают.
Глядит хозяин на сделанное: у одной готовый кусок возьмет, у другой повертит, со всех сторон смотрит, и на свет и на язык пробует – ищет, к чему придраться, как бы лишний пятачок сбросить или под штраф подвести. Хозяева на эти штуки мастера были.
И, как на грех, подвернулась ему под руку ткачиха Авдеевна. На плохом она станке работала, на допотопном. Баба была прилежная, любила свое дело. Всю жизнь на одной фабрике прожила. В чем-то не угодила хозяину, и поставил он ее за плохой станок.
Все кончили, а у Авдеевны и половины не сделано. И сотканному она не рада, сама видит – не миткаль, а рогожу снимает. Мастера позвала, а мастер поглядел на станок и пошел прочь: с ним, говорит, целые сутки нужно возиться, чтобы наладить.
Зло Авдеевну взяло.
– Провались ты, проклятый станок, вместе с этой фабрикой и хозяином скрягой!
А хозяин-то как раз и стоит за ее спиной. И так это по-лисьему спрашивает:
– Кому это, сударка, провалиться-то? Мне, что ли?
Авдеевна была на слова не горазда, в оправдание-то не нашла что ответить. Заплакала в голос и давай скорей нитку прелую связывать. Хозяин попестовал миткаль, швырнул.
– Это за целую смену только и наткала? За что же я тебя хлебом кормил? Ты уж лучше не ходи на фабрику.
Сказал, словно в ледяную воду бабу с головой окунул. Легко подумать: не ходи на фабрику. Не пошла бы, да зубы на полку не положишь, а дома-то ребятни куст. Всех их одень, обуй, плохо ли, хорошо ли – накорми.
Торопится Авдеевна, нитки связывает, а нитки прелые; не успеет одну связать, другая оборвется, то челнок застрянет, то основа спутается: не работа, а сущее наказание. И не стерпела Авдеевна, первый раз в жизни осмелилась в глаза сказать хозяину:
– Новый бы станок надо. А этот в Уводь выбросить… Я бы на новом-то горы за смену соткала, а тут одна надсада.
Не понравились хозяину слова Авдеевны.
– Ты, – говорит, – баба, глупа. И как ты осмелилась учить меня? Когда ты будешь хозяиновать, а я ткать, тогда, может, тебя и послушаю, а пока ты мне не указ. Домой я тебя не отпущу, пока дело не сделаешь… Хоть умри, а сотки. Не соткешь – утром расчет дам… А то, что соткала. – не приму, в брак пущу, да за такую работу еще с тебя взыщу: не порти хозяйских товаров.
– Как же я хорошо сотку, – всплакалась баба, – станок-то никудышный, основа гнилая, уток не лучше, да и свету нет…
Хозяин осердился:
– Пряжа гнилая? Когда она сгнить успела? Пока ты ткала? Если так расторопно ткать будешь, и верно, пряжа сгниет. Смотри, основа какая. Натянута. Слушать мило-любо, каждая нитка, словно серебряная, вызванивает… Тки давай…
Опять ему серебряные нитки припомнились. Пошел он прочь, а Авдеевна и проворчала сквозь слезы:
– Знаю твое серебро… Ты на серебряной нитке скорей удавишься, чем ее купишь… По дешевке у шуйских гнилой пряжи накупил, ткать из нее заставляешь, а народу продаешь товар за хороший, привык людей обманывать.
Товарки Авдеевны смену кончили, домой пошли, осталась она одна. Света белого баба не видит. Ткет, станок обихаживает: и погонялку подвернет, и бердо очистит, а дело не спорится. Из гнилой-то пряжи да на плохом станке канифаса не соткешь. Плюнула Авдеевна с досады, остановила станок, отошла к подоконнику, сама с собой разговаривает:
– Лучше побираться пойду, чем за этим разбитым корытом маяться.
Задремала Авдеевна с устатку. Долго ли, коротко ли она дремала – и не помнит. Почудилось ей, что станок стукнул. Очнулась она, глядит – в основе горностайка снует, взад-вперед торопливо так бегает, вроде челнока-летунка. Дивная горностайка: волос на ней чистым серебром переливается. И говорит горностайка человечьим голосом:
– Не горюй, Авдеевна, сейчас мы хозяину из золота и серебра холстов наткем, а за сотканное все, что причитается, сполна возьмем.
Встала на задние лапы и давай с себя пушок сдирать. Как скребнет коготками по брюшку, волосы серебряные так и посыплются. Серебряным пухом всю ткань покрыла. Потом быстренько в каждую нитку по серебряному волосу заплела. И сразу вся основа серебром заиграла, и такие ли стали прочные нитки – ножом не перережешь. Зазвенели струнами, заиграли.
– Теперь запускай станок! – приказала Авдеевне, а сама в норку юркнула.
Авдеевна пустила станок. Пошло дело как по маслу. Основа не рвется, уток не путается, станок работает на диво, лучше нового. За полчаса урок закончила. Только она кусок снимать стала, сам хозяин из отбельной идет, у него аж глаза на лоб полезли.
– Как ты смогла из такой пряжи соткать? – спрашивает. – Эта же ткань дороже льняного шелку, а с фланелью и в сравненье не идет… Да я ее заморским купцам за чистое золото продам… Какой доход получу… Ты, Авдеевна, искусница. У тебя, видно, та самая серебряная нить хранится, кою давно затеряли наши люди. Где ты ее нашла? Отдай мне ее или продай, только никому не говори об этом, дорого заплачу тебе. Не отдашь, каждый день послеурочно работать заставлю.
– Ничего я тебе не продам, – отвечает Авдеевна, – никакой у меня серебряной нитки нет, никаких секретов не знаю, с чего такая ткань, получилась, я и сама не разберусь, не пойму. Может, с того, что я нонче много над этой пряжей плакала, от слез моих и засеребрились нитки.
– Ну, тогда плачь больше. Это мне выгодно… А уж я постараюсь, чтобы ты побольше плакала. Ступай поспи, скоро в лемех ударят, опять на смену итти надо.
Проводил он Авдеевну, сгреб золотую ткань в охапку, к себе в контору поволок. Дверь на ключ запер, окна занавесил, боится, кто бы не подглядел. Раскинул на столе ткань, глазам не верит. А кусок так и сияет.
Обрадовался хозяин, стоит, ладони потирает, прикидывает, сколько прибыли возьмет за такой отрез, сам думает: вот бы все ткали так же.
Налюбовался, наплясался хозяин около золотого куска, запер его в железный шкап, где касса хранилась, ключ себе на кушак повесил и опять в ткацкую пошел, прямо к станку Авдеевны. Изрядно он его поковырял, погонялку снял, батан повредил, потом под станок зачем-то полез, видно, какой-то важный ход хотел повредить. Глянул он на пол – под станком тонкий серебряный волос светится… Что за притча! Обомлел хозяин и про стан забыл. Прихватил ногтями серебряный волос – глядит, а это настоящая серебряная пряжа, не рвется, не путается.
Выскочил хозяин из-под станка, как ужаленный, и ну нитку наматывать в моток на руку. А нитке конца нет, тянется она по всему цеху, все станки опоясаны. Хозяин рад: ему бы побольше захватить. Наматывает он, торопится, кажется ему, что время быстро идет, скоро петухи запоют, светать начнет.
Бегал, бегал он вприпрыжку вокруг станков, семь потов с него сошло, а нитка все не кончается. Обежал последний станок, глядит – нитка под дверь уходит. Он за ниткой, нитка по фабричному двору под ворота тянется. Он – туда. А нитка вдоль по улице легла, на снегу серебряный волос так явственно при лунном свете виден.
Бежит хозяин по улице, волком озирается, хватает нитку, навивает, путает, боится, кто бы не перехватил. Нитка меж тем потянулась в переулок, а из переулка в поле поползла. Хозяин за ней. Так в одной жилетке и чешет, ему и мороз нипочем, и на морозе с него пот льет. Жадность-то вот что с человеком делает!
Выбежал из села, радуется – ночь, в поле он один, нечего бояться. Опоясался он мотками, с плеч до ног серебряный стал.
Далеко от своей фабрики убежал. Уж и Иваново-то давно из виду пропало. Немножко очухался, обернулся назад – одна только труба фабричная видна. Оборвать бы нитку следовало, да и домой вернуться, пожалуй, дело-то лучше было. Но хозяин по-другому рассудил, захотелось ему до конца дойти, до клубка самого, весь клубок заграбастать.
Добежал хозяин до леса. Это от Иванова верстушек около пятнадцати будет, а то и с лишком. Волос в лес потянулся, хозяин не отстает, бежит лесом, по пазушки в сугрубах вязнет, ползком ползет, а знай вперед да вперед подвигается.
Зима в этот год установилась задиристая, ветристая, ворожливая. В лесу ночью немудрено закружиться, особливо когда человек чем увлечется, по сторонам не смотрит, не примечает, какими местами идет. Ну, пока охотился хозяин за волосом, в такую чащобу залез, где и волк не хаживал. Следы натоптаны вокруг да около, словно по кругу кого гоняли, а серебряный волос вьется по этой чащобе, вокруг пней, вокруг елок, по можжевеловым кустам, и кажется, его никогда не размотаешь.
Струхнул немного хозяин, понял, что в ловушку попал. Посидел на пне, а сам все пышными серебряными мотками любуется. Только тем себя и утешает:
«Ладно, до утра здесь посижу, а на рассвете из чащобы выберусь. Холодновато, зато сколько добреца хапнул – и все даром».
Передохнул малость и опять принялся с кустов волос сматывать. Глядит, а теперь уж вместо одной нитки двенадцать нитей в ряд появилось. Ну, еще лучше. Он сразу все двенадцать нитей стал разматывать, в мотки свивает, в копны складывает, а сам думает: «Вот так счастье, вот так капитал!»
А в голове у него мутиться стало. Самому ему об этом и невдомек. Бросил он последний моток на двенадцатую копну, глядит – на кустах ни единой нитки не светится. Зато в середине чащобы, словно из-под земли, вырос громадный дуб и весь серебром горит.
Хозяин метнулся к нему. Смотрит, а дуб этот весь плотно-плотно серебряным волосом обмотан, и так ровно, ряд к ряду, словно тот волос машиной навивали. Увит он от самого тонкого сучочка до корня. А корень толщиной в три обхвата. Как увидел его хозяин, так и голова кругом пошла. Подбежал к дубу, обнял его и закричал на весь лес:
– Чур не вместе. Мой дуб, я его первым нашел. Никому не дам.
Вдруг налетел ветер, лес зашумел, затрещал, снег посыпался, луна пропала. Темно в лесу стало. И началась заваруха-метель, во все чащобы залетела, так снегом и бросает, глаза засыпает. Ей и дела нет до того, что хозяин в одной жилетке в лес пристегал.
Еще плотнее хозяин прижимается к дубу, и от этого ему будто теплее становится. Засыпать стал хозяин, забываться. Тише и тише становится в лесу, чуть снежок падает, потом луна из-за облака выглянула, светло в серебряном бору.
По дубу горностайка бегает. Сядет на сучок, двумя лапками серебряный волос намотает и куда-то в гущу те клубки кидает. Внизу целая стая горностаек такой же работой занимается.
Хозяин это как сквозь сон видит. И уже снится ему, что в Макарьеве авдеевнину ткань продает прибыльно.
Солнце взошло, метель утихла. В чащобе около дуба двенадцать сугробов наметено выше человеческого роста, а около – стоит хозяин, прижавшись к дереву, и из сугроба одна его маковка плешивая торчит. Замерз он.
Когда наследники железный шкап открыли, куда матерьица Авдеевны спрятана была, никакой там серебряной ткани не нашли: лежит камень-булыжина на полпуда, больше ничего.
А у Авдеевны – с горностайкиной ли помощи, с чего ли другого – ровно силы да уменья прибыло. Уж такие канифасы ткала – и плотно, и красиво, словно кашемирские шелка.
Челнок-летунок
Жил-поживал ткач, звали его Трифоном. Был у него сын Степан – челночник. Стал отец стареть, наказывает сыну:
– Люби труд. Все, что имеем, трудом рождено. Всякое дело человеком славится.
Вдуматься – так оно и есть в жизни-то.
Вот собрался Степан в лес по грибы, кстати поглядеть плашек на челноки. Ведрено. Дятлы, ровно каменщики, в красных фартуках, постукивают на осинах. Комарья уж нет. Паутина по траве стелется, как основа. Бродит Степан по ельнику, по березнику, ломает боровики.
Бродил, бродил и очутился он на круглой лужайке, встал – и глазам своим не верит. Показалась из кустов девица и запела. Во всей округе на десять верст знал Степан девок, а такой не видел. Вся ее стать, походка легкая, ни дать ни взять – орлица залетная спустилась наземь. Кажется Степану, будто у ней под накидкой по рукам лебединые крылья сложены, вот-вот поведет крылом, встрепенется, унесется в лазурь. А о красоте сказать – и слов таких нет.
Очутился Степан с ней рядышком. Сам себе сразу не хозяин стал. А она же разговоры душевные повела с молодым челночником. И о себе прямо поведала:
– Живу я, – говорит, – много лет и не старею, смерти в руки не даюсь, хоть и охотится она давно за мной.
Родилась-то она будто в поле, крестилась в море, росла за ткацким станком, а живет под каждой крышей, где только стук челнока услышит – туда и летит. Ни птица, ни ветер не угонятся за ней.
– Кто же ты есть? Как тебя звать-величать? – спрашивает Степан.
– Я дочь бедных родителей, но богаче меня никого в мире нет, не было и не будет! Посмотри-ка!
Сорвала она под зеленым кустом ромашку, дунула на нее, но все стороны порхнули лепестки, сердечко цветка упало к ногам красавицы. Где легло оно – высокая гора выросла, где опустились лепестки – улицы поднялись с большими домами, дворцы с высокими окнами. О таких городах и в сказке не слыхано. По улицам ручьи журчат, над ручьями сады шумят, экипажи сами катятся. Что за заводы, что за фабрики! В каждом окне сияет солнце. Люди-то идут на фабрику с песнями, у станков стоят веселые.
– Как же ты нажила столько добра? – интересно Степану.
– Наживала я это добро вместе с рабочим людом, с ткачами, с кузнецами, с плотниками, с пахарями-оратаями, со всеми добрыми работниками. Мозолистые руки труд любят, у рабочих людей думы светлые. Я им верная слуга: думы, мысли им приношу.
– А что это за город такой? Чьи это фабрики? – Степан спрашивает.
– Тут есть свои рассказчики, к ним и наведаемся…
Пошли они в светлый цех, в небывалый. Высота, светлота, чистота, как в палате. Просторен цех, словно улица, стоит чуть не на трех верстах, на тысяче столбах. А машины то какие! Никогда не видывал их Степан.
Дивно Степану: людей не видно, сами станки ткут, на одном же станке челнок не только ткет, но и добрые разговоры ведет.
Красавица дает Степану подержать челнок-летунок, полюбоваться. Взял Степан небывалый челнок и слышит:
– Тепло мне от этих рук. Таким рукам я тоже друг! Таким рукам я служить бы стал, сам бы ткал! Сам бы людям все, что знаю, поведал за сто лет вперед.
Сказал и перелетел в руки к красавице.
– Скажи, челнок, кто теперь на фабрике за хозяина?
– За хозяина у нас весь народ. Фабрикой правит ткача Трифона сын, а про старого хозяина – купца здесь давно забыли.
– А начинается все великое с малого, – сказала красавица, кивнула на челнок, – всякое дело человеком ставится, человеком славится.
Узнал Степан, какой надо корень найти в лесу, чтобы выточить веселый челнок. И пусть он сначала полежит в темноте, посидит в духоте, подымется на высоту, увидит светлоту. А сердце его в земле, в самой глубине.
За один короткий миг Степан столько всего повидал, что всего этого не обдумать за целую жизнь.
Стала торопиться красавица:
– Мне ведь надо еще у многих побывать, многим души отогреть. Прощай, Степан! Только берегись старой неповоротливой завистницы: злая она. Хочется ей запутать в тенета хоть одного умельца, но ничего у нее не выходит. Но ты помни: куда тебя мечта поведет, и эта неповоротливая за тобой побредет. У нее чары есть… Чу, не она ли тащится, эта Мотя Дремовна – утиный нос. Непроглядным облаком она сбивает людей с верного пути.
– А кто же ты? – спросил Степан.
– Я Мечта людская, родная сестрица Сказки… – послышалось в ответ.
Обернулся Степан, оглянулся Степан, хрустнул сучок под чьей-то пятой. Около гнилого пня идет-бредет старуха в черном сарафане, за коренья запинается, через кочки, как колода, еле-еле переваливается. С плеч до пят она вся зеленая, как дупло на болоте обомшелое. На спине-то у нее кузов с каменьями, лапти на ней, как корыта долбленые. А и впрямь нос-то у нее на утиный похож. Ногу-то она пока через кочку переставляет, успеет дубок на аршин вырасти, пока сумку-то с плеча на плечо перекладывает, успеет молода невеста состариться; пока слово-то собирается вымолвить, солнце с восхода до заката успеет доплыть. Шипит, скрипит, как гнилая осина на юру.
Заприметила Степана, манит к себе. Пока спрашивала, солнце с полудня на закат ушло.
– Не п-р-о-х-о-д-и-л-а л-и з-д-е-с-ь д-е-в-к-а н-е-п-о-с-л-у-ш-н-а-я м-о-я?
Прикинул Степан, полюбопытствовал: не ты ли, мол, и есть Мотя Дремовна – утиный нос? Она отказывается: мол, Дремовна-то не я, а сестра моя.
Не стал он с ней лясы-балясы точить. Сказал: мало ль де в лесу в грибную пору ходит девушек?
А старуха-то пальцем грозит:
– Лукавишь, по глазам твоим вижу. Небось наслушался сказок заманчивых от этой девки! Вишь, они у тебя стали огнем посверкивать. Но я все ее наветы развею по ветру! – У самой маленькие глазенки так и бегают, носом утиным водит, держит по ветру.
А Степан думает: «Дай-де, послушаю, что будет плесть эта колода».
А та и заскрипела:
– Вот, добрый молодец, не слушай ты никогда ее, непоседливую, не верь ты ей. Обманет! У меня и спокой-то, и заботушка-то ко мне не стучит в дверь, у меня жизнь-то идет, как трава растет, что само вырастет, тем я и довольна. Вишь, баишь, что не водила она тебя никуда? Бессмертник-то вон цветет, вижу, что она, проклятая, здесь стояла. Любит она этот цветок.
– Ну, стояла и стояла, а тебе что за обида? Мы и сами знаем, на ком парчов кафтан, в ком золотой талан.
Заохала старуха, прикинулась немощной.
А Степан-то человек отзывчивый.
– Помоги старой. Сдери бересточку да наверни на мою тросточку, а то руку я намяла, саднит больно. Наверни, тогда и узнаешь, какая я о добрых людях работница, векова сухотница. Картуз золота понесешь домой.
Не польстился Степан на посул, на золото, – просто захотелось старого человека уважить. Ан помог Степан старой-старинешне себе на беду. Содрал бересточку, надел старухе на сучковатую тросточку, – только бы скорее она с глаз долой убиралась.
Надел и очутился нивесть где. Сидит он в какой-то разваленной избушке, за окном – лес, за стеной – волки воют. Над корытом коптит лучина, печка без трубы, дым под потолок, сажи на стенах наросло на вершок. Две девицы – русые-косицы, худы, бледны, будто две картофельные ботвинки, что без солнца выросли, под полом, в лице ни кровинки у обеих. Меньшая привязала к гвоздю кудель – сидит на дощечке, прядет, зевает. Старшая у стены ткет, тоже зевает. Ну и стан. Три палки связаны, поперек избенки положены, топором тесаны, веревкой скреплены, лаптем меряны, слепым глазом сверены.
Обрадовалась карга старая, села на пороге у двери.
– Ну, голубчик, теперь ты мой. Глянь, какие у меня красавицы. Не чета твоей непутевой. И тебе такое житье полюбится.
Сел Степан на чурбачок у коника. И на него дремоту, позевоту хочет нагнать ленивая кочерга. Сидит, дремлет.
– Ну что, хорошо ведь у меня, добрый молодец? Ни беспокойства, ни волненья. Живи, не торопись, работа – не волк, в лес не убежит! – зевает старуха. От нечего делать то веретеном почешет за ухом, то зевнет да рот беззубый покрестит, спину почешет о косяк.
– Пока ничего хорошего не вижу, – отвечает Степан.
– Что это ты, нешто слепой?
– Не слепой, а до времени скупой. Уж, кажись, эти десять минут, как десять лет у тебя сижу на чурбачке, и никакой радости. Словно все вы в мертвой воде затонули, и я с вами.
– Это и больно хорошо!
– Так-то, как у тебя, у нас давно и не ткут и не прядут, – пеняет Степан.
– Ну и плохо, значит непутевой моей ослушнице вняли. Ты о ней лучше не вспоминай. Она чего не нашепчет чуткому-то уху! Да все ее сладки шопоты – один обман. А я дыхну – и рассею все, как над речкой туман. У меня тишина-то какая! Покой-то какой! Чего еще тебе надо? Не пойму. Есть у тебя веретено кленовое, так нет – подай им чеканное, да еще челнок-летунок! Знай, как я тот челнок увижу, в мелкие щепки расщеплю, из рук твоих изыму, кроме горя ничего ты не получишь.
Тянет свою канитель странница-сарафанница, не выпускает из рук тросточку с бересточкой. Через ту тросточку не переступить Степану.
– Батюшки, уж, кажись, двадцать лет здесь торчу, и все здесь по-старому. Вот так попал в мертвое болото! – сокрушается Степан. Сам себе дает твердый завет: «Нет уж, перемогу, а не задремлю».
А облик Мечты, той красавицы, с которой он беседовал, стоит перед ним, как живой. Оттого, знать, не спится Степану. «Неужели меня не выручит Мечта?» – думает он.
А старая клюет носом, еле языком шевелит. Страсть как хочется ей поспать, но ждет, чтобы Степан первый заснул, а то, мол, убежит. Тоже бабка хоть и с небольшой, но с догадкой.
Вздохнул Степан:
– Да что ж это такое: кажись, уж тридцать лет я тут, а хоть бы на одну ниточку что-нибудь изменилось! Чем так жить, лучше в печке поленом сгореть, и то радости-то больше – хоть кого-нибудь согреешь!
– Ну что, разве не хорошо у меня, мастеровой человек? – снова-здорово спрашивает хозяйка.
– Если бы я был не мастеровой, а пень березовый, так, может быть, согласился бы с твоей похвальбой. Пню все равно, где ни гнить, а я ведь не затем родился, чтобы сидеть сложа руки. Обманула ты меня, старая перечница. Здесь от одной скуки паутиной обрастешь, – ругается Степан.
А старая зевает, – словно клещами раздирает рот шире ворот.
– Ну, девки, потешьте-ка гостя старинной песней. Зря ты мои снасти хаешь. Кабы не гребень да веретено, может быть, ты не услыхал бы никогда такой песни.
Последнее средство у старухи. Крепко она надеется: «Уж песнями-то я его завлеку, несговорчивого, заворожу, к своей скучной судьбе привяжу».
– Ох, уж, кажись, сорок лет я здесь кисну, – заговорил Степан, картузом ударил о земляной пол. Сам думает: «Нет, подобру-поздорову не вылезешь из трясины, надо что то придумать».
Покосился он в оконце, а за низким косым оконцем будто мелькнул платок Мечты. Ветерок зашумел над кровлей.
Пока-то стукнула тросточкой с белой бересточкой неповоротливая старинишна.
– Заводите, девки, тешьте, да смотрите не ошибитесь, а то косы выдеру. Разгоните-ка мою дремоту песней.
А им не до песен.
Тут и раздалась песня будто где-то в сенцах. Такой отрадный голос! Словно березовые ложки, уставила старуха глаза на дверь.
Уж я пряла, уж я пряла пряжу тонкую,
Уж я ткала, уж я ткала белый тонок холст… —
звенит чей-то голос недалече.
Стал все чаще да чаще позевывать Степан, уж смежил один глаз.
Уж я шила, уж я шила милому рубашечку,
Уж я шила-вышивала ниткой шелковой.
И другой глаз закрыл Степан. На самом-то деле он вовсе не спит, а за старухой незаметно присматривает.
Уж я мыла, уж я мыла чисто горенку,
Уж я стлала, уж я стлала белу половичку.
Захрапел Степан, да так, что, того и гляди, погасит лучину.
Я глядела, я глядела часто в полюшко в окно,
Я стояла, я стояла, призадумавшись была.
И голову Степан склонил на высокое плечо, и картуз его повалился к старухе под ноги.
Я бежала, я бежала дверь-калитку отворять.
Я не знала, я не знала: за рубашкой, знать, купец.
Уж хотела, уж хотела от ворот прогнать купца,
Увидала, увидала я Ванюшу-молодца.
Вот рубашечка, Ванюша, вот и алый поясок.
Горе-горькое одолело Степана. Погибнуть можно в этой западне.
Тут и сверкнула вновь Мечта перед Степаном.
Храпит Степан во всю мочь-силушку, так старается, что сарафан у старухи надувается парусом. А на деле-то он только прикинулся.
– Теперь он долго проспит. Однако кто это там так звонко разливается? Пока этот дремлет, пойду-ка я да эту песенницу завлеку сюда! Что-то, сдается мне, голос знакомый!
Сидючи на пороге, покрестила рот, что-то пошамкала, держась за верею, перевалилась за порог в сенцы. Упала тросточка с бересточкой. Словно ветром покатило тросточку прямо под ноги к Степану. Он да хвать тросточку, снял с нее бересточку, – словно ветром сдунуло с него всю усталость. Подмигнул девицам: бегите первыми, я за вами. Девки за порог, он за ними. Облаком-то непроглядным скрыло их от утиного носа. Старая, неповоротливая им вослед:
– Ах, ах, проворонила!
Ахай не ахай – поздно.
– Так это опять та непутевая провела меня? Ну постой, рассчитаюсь я с тобой! – грозится старая, винит во всем Мечту людскую.
У старухи без белой-то бересточки все проворство, расторопность пропали. Береста-то у Степана.
Постой, вот я тебе сейчас! – машет она кулаком туда, сама не знает, куда.
Пока она вялый свой язык переваливает с боку на бок, за это время деревня сгорит. А Степан – к себе домой.
На часы глянул Степан, сверил, и вышло, что был-то он в полону у Дремовны не больше часу, а показалось ему за годы. Затопил Степан печь, бросил бересту под загнетку. Три дня, три ночи белый дым над трубой курился.
Лежит Степан, думает, ругает злую старуху. Что камень лежачий, что пень стоячий, что она – одна им цена.
Как вспомнит Степан про Мечту да про все то, что она ему показала, так и просятся руки сами все это сделать. Веселый челнок-летунок не идет у него из ума.
Рассказал Степан о своих думах ткачам.
– Во сне что не привидится, – смеются те, – а в жизни-то будет ли это?..
Пошел он со своей мечтой к хозяину. Тот толком-то и выслушать не захотел.
Полно тебе. Знаю я цену разным выдумкам. Кабы из-за моря мастер приехал, а то что – свой-то!
Однако теперь Степан никуда не пойдет, чтобы о челноке не подумать. Ни хозяйские насмешки, ни помехи не страшны мастеру.
Старинные станки на ткацких не сравнишь с теперешними Тогда еще гоняли челнок руками. Погоняй день-деньской такого окунька, на ладонях-то мозоли вздуются!
Старается Степан, но что-то не дается сразу затея. Не унывает мастер, зайдет в ткацкую, к Силантию-ткачу. Маленький мужичок Силантий, коротенькие руки.
– Ну, Силаха, недолго тебе маяться, скоро поставлю на станок челнок-летунок, он тебе будет сам ткать, сам и сказки сказывать.
– Полно-ка тебе! Ты всегда, Степан, с какой-нибудь забавой… – смеется Сила.
– А без доброй выдумки, Сила, мастеровому жить – заживо плесневеть, без выдумки ни песню спеть, ни в деле поспеть.
Послушают ткачи Степана – им тоже его желанье любо.
– Разве плохо бы такой челнок смастерить! Полегче бы тогда стало.
Принес Степан из лесу особый корень. С утра до вечера стучит, точит. То веселехонек, песни распевает, то туча-тучей ходит по мастерской, и не подступайся к нему. Места себе не находит. И у себя трудится в челночной, и домой-то прибежит – скорей в омшаник, там у него домашний верстачок.
Товарищи его о празднике на гулянку, а он поснедает на скору руку и опять за свое дело.
День за днем, как клубок за клубком катится. И не видел, как год пролетел, а до удачи далеко. Вот сделает, наладит Степан челнок, – кажется, лучше бы нельзя, ан нет, не годится.
Случается, зайдут хозяйчики-светелочники, а другой раз и мануфактурист забредет, смеются над Степаном:
– Брось ты свой челнок-летунок. Все не натешился? Лучше дедовского челнока не выточишь.
Степану теперь и белый свет не мил.
Сколь бедняга ни маялся, но душу свою не утешил. Истомился, извелся, но все не уступает. Парня приварило к верстаку.
Родитель глянет на детище:
– Что это с тобой, Степан? Уж не от боли-чахотки ли ты такой хмурый стал?
– Да полно-ка по живом панихидить, – только и молвит сын.
Однако и самому рукодельнику обидно. Отступать от своего дела, – значит самому себе сказать: широко скроил, да узко сшил. И снова он в лес идет, новые коренья несет. Сам думает: «Уж не та ли старая неповоротливая паскудница стоит на моем пути, мешается в моем деле?»
Нет, не выходит дело, не летает челнок. Стал думать Степан: что-то он тут забыл? Говорила ему в лесу Мечта про теплоту и светлоту. Где же эта теплота? Где же эта светлота? Что же это за сердце, что скрыто в глубине?
И наконец смекнул. Положил корень в омшанике в темное корыто, пусть-де полежит, повянет в темноте. Потом положил под тяжелый груз – пусть посидит в духоте. После темной духоты поднял его на высоту-светлоту – на крышу, сушиться под солнцем.
Стал корень и прочен, и легок, и тверд, как кость. Любо его подержать в руке, брызжет белыми опилками на токарном станке. Добился ткач, славный челнок выточил на этот раз.
Но еще не все. Стал думать: где же та глубина, о которой Мечта говорила? Смекнул: железо-то ведь копают в земле, на самой глубине. Отлил Степан стальное сердечко челноку. И опять челнок – на токарный станок. Вертит, точит. А челнок, словно налим, так и норовит из рук вынырнуть. А за окошком чей-то поганый нос, словно утиный, показался и голос раздался:
– Недолго твоя мечта у тебя нагостит, так сделаю, что за семь морей улетит.
«Не Дремовна ли прибрела?»
Наконец-то удалось Степану разгадать да уладить все до последней тонкости.
И тогда-то сам с токарного станка нырнул челнок в станину. Начал челнок-летунок сам летать, за десятерых ткать, только поспевай подавай шпули.
Как тут мастеру не помолодеть, не запеть?
«Ой, спасибо тебе, Мечта, ты меня всему надоумила, силы-стойкости мне прибавила! Прилетела бы хоть на часок, поглядела бы на мой челночок».
Чтобы Степану-то не было скучно, стал челнок-летунок потешать его и товарищей ткачей небылицами, веселыми присловьями да присказками.
Вот на веселый час и завел челнок:
Как садился Степа ткать
Раным-рано.
Вышла Дуня холст катать
На поляну.
Весь-то бельник устлала
В день Дуняша,
Вся белым, белым-бела
Горка наша.
Не белы снежки летят,
Не туманы,
За селом холсты белят
На курганах.
Полоскала полотно
Дуня в речке,
Кипятила полотно
В жаркой печке.
Слышат – купчик на селе —
По товары.
Он объехал на земле
Все базары.
«Ах, заморские шелка —
Загляденье!
Вам таковских не соткать,
Нет сомненья».
Степа рядышком стоял,
Молча слушал.
Гость заморский врал да врал
В полну душу.
Вот Степаша под окно
Дуню просит.
Тут Дуняша полотно
И выносит.
Гость в товарах знает толк —
Хвать за штуку.
«Вот он наш заморский шелк, —
Вам наука!»
«Полно, зря не говори, —
Сами пряли,
До малиновой зари
Сами ткали.
Это вовсе не шелка,
А полотна,
Их умелая рука
Соткала добротно».
Каждый день челнок-летунок порадует чем-нибудь людей. Поэтому кабальному ткачу с песней да с присказкой и постылый труд полегче.


