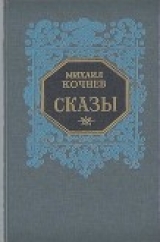
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Полицмейстер видит – улик за человеком никаких, но отпустить такого – самому от большого начальства после не поздоровится. И то полицмейстер смекает: хоть и улик явных нет, сама жизнь на фабриках против него улика: как пошел слух, что какой-то студент к нам прислан, народ другим стал. Чуть что кого хозяин штрафом стегнул или с заведенья выгнал, – все сразу в один голос и заговорят, на двор высыплют. Стачки-забастовки то и знай.
Ну, ясно, что сам Трифоныч перед полицмейстером за вожака себя не признает.
Долгонько полицмейстер выпытывал да оглядывал Трифоныча. И уж вроде самому-то, что ли, стыдно стало: этакого молоденького, мол, испугались!
И впрямь Трифоныч-то в те поры молод был. Однако из той он был молодежи, что Ленин вокруг себя собирал, на борьбу звал. Рано увидел Трифоныч горе народное. Раз да и навсегда прикинул он, передумал все и повернул на крутую нехоженую стежку, по которой не всякому ходить дано. Нужно сердце такое, в котором бы боль и радость за весь народ умещались и которое бы на подвиг тебя звало. Эта стежка не золотым песочком усыпана, а каменьями острыми, не легко по ней ступать-подыматься. Трифоныч умел беречь свою силу, умел ее и расходовать. Сила без ума – обуза. Сила да ум – счастье.
Но берег Трифоныч силу – не для себя, а для нас с тобой. Да и как, не знамши, разгадать его? Стоит у стола двадцатилетний парень, в пиджачке черном, в синей рубашке с прямым воротом, в кожаных сапогах, лицо белое, щеки румяные, глаза кроткие, голубые, и волосы русые золотом отливают, только волосы, как душа его непокорная, торчат бобриком, не пригладишь их никакой золотой гребенкой. Лоб высокий, чистый, ясный. Один раз увидишь такого человека – и никогда не забудешь.
Порешили царские радетели упрятать Трифоныча подальше от ткачей. Тайное письмо составили и – эва куда метнули – в Казань, под надзор полиции, чтобы каждый день на отметку являлся, и главное – чтобы ни в Иваново, ни в Шую ногой не ступил, да чтобы никаких писем туда не писал. Тут вздохнули в полиции:
– Наконец-то поспокойней станет на фабриках.
И что ты скажешь, – как на грех, приказали самому Перлову везти Трифоныча в Казань! Переполохался Перлов не на шутку.
– Отставьте от такого лиха! Лучше сто человек в Сибирь доставлю, нежели этого одного в Казань! Улетит он!
– Улетит – с тебя голова слетит. Поглядывай, на то у тебя и глаза во лбу и шашка на боку, – Перлову ответили.
Пришлось ему ехать. Сподручного прихватил, уговорились в дороге не пить, не спать, с молодца глаз не спускать, только бы в Казани сдать да расписку с печатью получить. Шапку Трифоныча Перлов собственноручно оследовал, на свою голову надевал, и прямо, и задом наперед. Успокоился, видит – шапка, как шапка, никакой и ней хитрости нет.
В дальний угол вагона пихнули Трифоныча. На окне решетка, в двери окошечко тоже с решеткой, в вагоне стража у выхода. Стрижу и тому из вагона не выпорхнуть.
Ехали, ехали и доехали.
– Слава тебе, Никола угодник, привезли, не упорхнул!
Повеселел Перлов. С вокзала прямо в жандармское управление. Там уж, как водится, перво-наперво тайный пакет за сургучовой печатью взяли, кто, откуда, все списали, выписали. Две бумажки сам начальник написал: в одной оказана улица и дом, где Трифонычу жить под полицейским глазом надлежит в Казани, другая грамотка Перлову – расписка, что в сохранности доставил Трифоныча казанским жандармам.
К Трифонычу начальник все с насмешкой да с подковыркой:
– Житье, молодой человек, под моим крылом привольное, няньки у меня надежные, бывалые, где вы утром чихнете, где кашлянете, – вечером я все буду знать. Хотите сберечь свою голову, на ноги не надейтеся. У моих нянек ноги длинные. За шаловливыми детьми всегда надзор нужен. Ну, да я понимаю, – молодость. Я в ваши годы тоже чудил: однажды городовому на шинель дохлую кошку повесил. Няньки не уследили. А женился – и образумился. Двадцатый год верой-правдой царю и церкви и отечеству служу. И вы у меня шелковым станете. Вот вам бумага, отдохните с дороги-то, чай устали, да каждый понедельник после обеда извольте мне лично показываться.
И подал Трифонычу бумажку со стола. Трифоныч и не поглядел, что в той бумажке написано, сунул в карман и пошел на ночлег. За углом у фонаря прочитал бумажку, чему-то удивился, еще прочитал, посмеялся да и скрылся в темном переулке. И был таков.
Тут Перлов-то и докладает начальнику:
– Ваше высокоблагородие, это особенный человек, про него в народе говорят, вроде с крыльями он. Из-под самого носа упорхнет, ради Христа-бога, с глаз ваших не спускайте. Он у нас всех фабричных взбудоражил. В Думу и то своих провел. Так что, это самое, он того, это самое, с ним греха наживете.
А тот ему с важностью:
– Не таких обламывал, шелковым станет. Я при встрече ласков-то бываю, а то и коготь рысий покажу. У меня не то что, а захочу – и дышать по моему предписанию станет. Там уже, около его квартиры, двое сыщиков под окнами дожидаются. Не учи ученого.
И швырнул ему бумажку-то.
«Ну, – думает Перлов, – после хорошей работы на радостях гульну в кабаке».
Убрал бумажку и пошел в кабак. Всю ночь кутил. Утром продрал глаза, хвать за карман, тут ли казенная-то бумажка. Так сердце у него и обмерло: нет ее… В другой карман сунулся – там. «Дай-ка, – думает, – прочитаю, по всем ли правилам расписка написана: читает и глазам не верит. В руках не расписка, а чорт знает что. На бумажке написан тот адрес, куда Трифонычу велел начальник поселиться.
Как ветром похмелье с шальной башки сдунуло. Он да к начальнику. Бежит – себя не помнит. Ввалился: так, мол, и так, дома жена, детишки малые, сжальтесь! Ведь мне верный острог за это.
Показывает бумажку с адресом, казенную расписку просит. Начальник вторую-то расписку не дает. У него свой расчет: сам вылезешь, а меня под суд подведешь? А может, ты смигнулся с молодцом да поменялся бумажками, а теперь под меня подкоп строишь? И давай тут начальник кулаком по столу стучать.
– В Сибирь упеку! В спайку с арестантами! Я сам, лично, тебе расписку вручал. Здесь вот, за этим столом, ах ты, эфиоп!
Инда синие стекла с красного носа спрыгнули.
Так и получилось: наподдавали Перлову по первое число, да и засадили в сырой подвал за решетку. Побежали Трифоныча проверить, на месте ли. А Трифоныча и не бывало там. Туда, сюда – нигде нет. Начальник казанский морил, морил за решеткой Перлова, потом выпустил, а второй расписки все ж таки не дал. Своя-то шкура дороже. Перлов свету белому не рад, хоть под поезд ложись. Не знает, как теперь своему шуйскому начальнику на глаза показаться. Не станешь в Казани зиму зимовать, надо домой ехать. Поехал, а на душе, как в трубе давно не чищенной.
Куда Трифоныч девался – в толк не возьмет.
А в то самое время в Шуе на окраинной слободе люди по Трифоныче тоскуют. Тот дом под щепой – окнами в землю врос – и сейчас еще стоит. В нем-то больше на все потайные сходки и собирались ткачи-большевики. Тут большие дела Трифоныч с ними вершил.
На этот-то раз ведь в самом разгаре дела его и забрали. И ничего-то о нем узнать товарищи не могут, как ни стараются. Тужи не тужи, а дело надо делать. Трифоныч сам всегда наказывал: в беде голову не вешать, что ни случится – не унывать, один убыл – на его место другой заступай и не больно горю поддавайся. А дело-то решали на редкость важное: как нашему человеку в Думе с царевыми министрами схватиться.
Тут нужно заране все прикинуть.
Сидят, прикидывают. В дверь стук, стук…
– Кто там?..
– Где тут на дачу к Константинову пройти?
Все так и ахнули, к двери кинулись. Что ж было тут! Входит Трифоныч веселехонек, прямо с поезда.
– Откуда ты, каким путем?
– Из Казани.
– Отпустили, что ли?
Улыбнулся.
– Показался начальству, вышел от него да прямо на поезд. Стосковался по ткачам. Раз дело не доделал, как же я мог к вам не воротиться? Не в Казань меня товарищ Ленин и товарищ Сталин послали, а в Шую.
Вот он какой был.
Пуще прежнего стали Трифоныча оберегать. Хуже нет: сам Перлов его теперь на личность заприметил.
Перлова-то в Управе стирали, стирали по-всячески – и словами-то и кулаками ум ему вгоняли.
Дело по начальству кверху пошло, пожалуй пришлось бы ему париться, да у него полдюжины коров было. Ну и спасли они своего хозяина. Продал коров, деньги-то не мычат, хоть и коровьи.
Вылез Перлов, в церкви рублевые свечи ставит, сам богу молится:
– Избавь ты меня от этого неуловимого, не насылай ты его на мой околоток.
Раз загулял Перлов до утренней зари, идет из гостей, пошатывается, папироска в зубах, при шашке, а без пистолета. Навстречу ему из оврага порядочная партийка поднимается, боевики-дружинники, на учебу в лес с раннего утра идут, и Трифоныч с ними. К Перлову подошли.
– Эй, дай прикурить.
Душа у Перлова в пятки ушла. Что он один с ними сделает?
– Пожалуй, прикури. – Тянет папироску, а рука трясется. Сам Трифоныч перед ним.
– Что, не узнал? – спрашивает он Перлова.
Перлов дурачком прикинулся.
– Не узнал.
– А у меня к тебе дело есть.
– Какое?
– Небольшое.
И подает ему Трифоныч казенную расписку с печатью:
– На вот, может пригодится. В Казани тогда наши документы перепутали.
Урядник как увидал, аж зарычал не по-человечьи, потом обернулся на церковь и давай креститься.
Долго ли он рукой отмахивал, и не помнит, назад-то поглядел: никого нет, один он стоит над оврагом. Расписка с печатью в руке. Слышит – что-то шумит над головой. Глянул в небо, а в стороне быстро-быстро, только крылья на утренней заре алым цветом отливают, словно искры с них сыплются, стая птиц летит – или дикие утки с Тезы, или гуси-лебеди с болота. Только кажутся они Перлову большими не в меру, и не разберется он с перепугу, гогочут ли то утки в небе, или это люди где-то в овраге смеются. Подобрал Перлов новые полы шинели и залился к дому, за шашку запинается, сам шепчет:
– Свят, свят, свят, свят!
Чем быстрее бежит, тем пуще красные крылья свищут над ним. И кажется ему, вот-вот они со всего лёту-маху стеганут его по темени и всю память навек вышибут. И чудится ему, что впереди-то птиц сам Трифоныч на крыльях за ним гонится.
Дружинники идут чистым полем, Трифоныч – впереди. Солнце вот-вот из-за края земли вынырнет. Все ярче да ярче в небе кумачовые облака разгораются.
Глядит на них Трифоныч, распластались они над всей землей, словно крылья птицы невиданной, воздух под ними колышется, вот взмахнут они раз – и леса им поклонятся, взмахнут другой – и горы посторонятся, люди из домов выйдут и потекут по улицам городов, по полям, по равнинам толпы людские с песнями звонкими, с флагами алыми, как эта утренняя заря.
Сорок веретен
Про кудельный клен да сорок веретен бабушка Алена Данникова, старая ткачиха, примется, бывало, сказывать – только слушай да запоминай. С малых лет по людям жила, много всего слышала. А сколько она за свой долгий рабочий век соткала: если бы все сотканное раскатать по земле белым покрывалом, то оказалась бы земля мала.
Стала Алена стара – больше хозяину не нужна. Ступай, куда знаешь, хоть в богадельню, хоть кормись христовым именем, твоя полная воля.
На счастье старой ткачихи, годок за годком подросла внучка Глаша. Годов с десяти повела ее жизнь, как и бабушку Алену, по чужим фабрикам. На Бакулинской мануфактуре «бороды» обирала, шпульки мотала, потом в отделочную послали к Брееру. Хоть работа и не по девушке, да надо служить. Ящики, корытца из-под красок мыла.
Отца-то своего Глаша вовсе не помнила, а мать умерла от черного поветрия, от холеры. Как на красно солнце, смотрела бабка на внучку, единую свою надежду, кормилицу, поилицу, блюла ее.
Внучка по алой зорьке, а зимой так еще затемно соберется на фабрику, бабка кряхтит, кое-как ползает около загнетки, командует сковородником и помелом.
Когда на улице погоже, ведрено, выползает эта горевая печея на завалину, поглядывает, скоро ли покажется из-за оврага льняная копенка, глашина головка.
Так в этой избе повелось: вечером хоть на полчаса, но обязательно запорхнут к ним девчонки, подружки глашины: Соня Дерябина, Машенька Изотова, обе они шпульницы. Да и кроме них, хаживали многие. Не надо им ни пряника, ни сладкого меда, – сказкой, погудкой, побаской сердце потешь! Примется Алена пряжу прясть, станет тихо в избе.
– Да, мои девоньки, звонкие запевоньки, молода я была, не та, что сейчас стала, что пряла, что ткала, никакой работы не боялась. Помнится, этак же вот, вон за тот сухой овраг вышла, где кленок стоит. Пригорюнившись была. Мастер челнок разбил, а меня за чужой грех в конторе оштрафовали на рупь на гривенку.
Иду это я, стало быть, к клену, полыни наломать, пол в горенке замести накануне воскресенья. Глядь, у пенька под лопушком стеклянна посудина, баночка. А в ней будто сам светлый месяц лежит, на меня из-под лопуха глядит. Что это за дивовище? Беру Гляжу. А в ней серебро. Да какое! Тряхнешь – оно словно смеется, наклонишь – и из банки льется, катится светлым горошком. Сколько горошинок в траву пролила – не сочла. Хотела подобрать. Искать-поискать в траве, нет их, укатились куда-то. Может, и сама земля их приняла. Только, помню, где просыпала я светло серебро, на том месте встает в полный рост небывалый белошелков цветок, названьем миловзор, подобен нашему дубравному ландышу, только гораздо ландыша краше и запахом слаще. На нем сорок белошелковых бутончиков, сорок звонких колокольчиков, похож он на сон-цветок. Аромат у него особый.
Сорвать этот красавец-цвет мне хочется, но и губить его – не поднимается рука. Наклонилась я, припала к нему, дышу – не надышусь. Да так мне посчастливилось, – не ждала, не гадала, – угодила на заветный Полянкин Дол.
Будто сад-виноград зашумел надо мной. Глянула на клен, не узнать его. На сучьях золотая кудель, мягко-намягко чесана. Клен, а под ним сорок белых узорных веретен с одним веретеном. Сорок и одна молоденькая пряха, все такие же, как и вы, со смекалкой, сели за пряльни. Тут и мне досталось веретено.
Узорные веретена, писаные пряслицы, жужжат – не жужжат, по-соловьему поют в руках, а пряхи голосистые и позвонче их распевают:
Уж ты, лен неделен,
Лен мой, белый лен.
Сели девушки под клен,
Пряли в сорок веретен.
А одно веретено,
Само крутится оно,
Не сдержать его в руках
И прядет за сорок прях.
И тонко, и ровно,
Знать, Полянкино оно.
Вышла на небо луна,
Ткать садилась у окна,
Подошла весна красна,
Шелк соткала изо льна.
– Вот, девоньки, и я с ними пряла, с ними вместе ткала, кусок добротного шелку домой несла. Всех бы я вас обдарила, всем бы по шелковому платью сшила, да, на беду, встретилась за бельниками с мордастым городничим и осталась опять ни при чем. Все отнял, ни полушки не заплатил; принесла я только полыневый веник, пол подметать. Может, вам-то больше посчастливится. Найдите такой клен да сорок узорных веретен. Эх, щеглянки, малиновки, все до пряжины допрядать нельзя, вот и радость моя вся. А ваша радость на узорном веретене, не в дальней стороне. Поищите сами, может и найдете.
…Ни свет ни заря подымает гудок фабричную окраину, на смену зовет, изо всей мочи ревет, аж в лесах от такого зыка волки, словно ошалелые, мечутся. Глаша, Соня да Маша торопятся на фабрику. И все еще мерещатся им на Сухом овраге кудельный клен и сорок веретен.
Бреер-колорист – у себя, на втором этаже. А над Глашей-то командовал больше всего Исайка Ануфриев; он пониже Бреера занимал должность. Да больно злой. Не потрафишь на него, того и жди – челнок во гневе перекусит. Его и окрестили подходящим титулом: «Исай, челнок покусай». Борода, словно варильница, черная, а густенная, скребницей не расчешешь, лицо кумачное, круглое, как луна, а глаза навыкате; из-под черной жилетки красная рубаха навыпуск. Волосищ на голове целый воз, будто хмелю копна.
– Глашка, мазаная рубашка, – к Брееру! Отнесешь ему вот это, а принесешь то, он знает что! Да ворон не лови по сторонам, живо!
Глаше не наказывай, она и без подгонки проворна. Прибежала наверх, Бреера нет, куда-то вышел. В широких шкапах за стеклами, на столах – весы, банки, бутыли. На каждой банке бумажка наклеена да написано что-то непонятное, по-хитрому, не по-нашему. Вдруг так и обомлела Глаша: перед ней на столе банка с жидким серебром, таким самым, о котором вчера бабка сказывала.
Как тут не полюбопытствовать? Осторожно, пока колориста нет, Глаша взяла баночку в руки. Банка собой не велика, но тяжелая, как гиря, холодная, как железо. Тряхнула ее Глаша легонько, серебро будто смеется, наклонила – тяжелой струйкой на ладонь льется.
Глаше, на беду, послышалось за дверью: с кем-то Бреер сердито говорит. Испугалась Глаша, вздрогнула. Тяжелая банка выскользнула из рук и – в мелки дребезги. Будто лукошко гороху раскатилось по каменному бородавчатому полу. Пол-то стал похож на звездное небо. И столько этих звездочек, не счесть, в одно место их не собрать. Обледенело глашино сердечко. Легко ли? Ни жива ни мертва застыла над разбитой банкой. А на пороге сам Бреер, остроносый, тощий, сухонький, как вяленая вобла, и глаза воблины, да еще в очках, по лицу видать – злопиявистый человечишка.
– Ах ты, обезьяныш, кто тебя звал сюда? Ртуть пролила! Последний банка!..
Что за ртуть? Такое-то слово услышала Глаша впервые. Бреер схватил ее за косицы, потряс, ткнул на пол.
– Собери все до последней капли. Не соберешь – в бутыль, в кислоту посажу!
Не переломится спина, да собери-ка, попробуй! Не слушаются светлые ягодки. Только она за нее возьмется, та бисером по полу рассыпается.
– Языком, языком собирай, рукой не поймаешь! – приказывает Бреер.
Но и языком не прихватишь капли.
– Работай, работай, а то в банку посажу, – приговаривает Бреер. Сам у дверей сел на табуретку, как у мыши маленькие глаза его так и снуют под очками.
Не стерпела Глаша, заплакала.
Смилостивился тогда Бреер, видишь ли:
– Глупая, давно бы надо взять бумажка и катать на бумажка. Русский человек мало умел дело делать!
Собрала Глаша ртуть до последней капли. Весь убыток, весь наклад – разбитая банка.
– Больше чтоб сюда не ходить! Контора вычтет с тебя весь ущерб полностью.
Вытолкнул Глашу за дверь и не послал с ней Исайке Ануфриеву то, за чем она была прислана. Что сказать придире Исайке? Ведь он за делом посылал ее к колористу.
– Тебя за смертью посылать! Где лоскут? Я тебя научу старших почитать, я тебя образумлю!
Прихватил Исай-покусай Глашу за косицу и ну водить вокруг кадки, вразумлять по плечам мешалкой. Да так швырнул ее, что у Глаши в ушах зазвенело, в глазах зарябило.
Не помнит Глаша, сказала она что обидное Исайке, может и вовсе ничего не говорила, но этот наплел на нее в конторе с три короба – будто ослушница она и грубиянка, будто зазорно, обидно назвала его. Не нужна, говорит, ему такая, ставьте куда хотите, но от него уберите. Ну и выгнали ее в тот же день за ворота. И заработанного пятачка не подсчитали к выдаче. Еще осталась должна в контору. Бреер, вишь, прислал счетец за банку и за ртуть.
Идет Глаша домой, неутешно плачет. Алена сидит на завалинке, ждет. Уткнулась Глаша бабке в колени, еще горше заплакала. Кто теперь станет кормить старую? Хоть по миру иди. Однако Алена утешает:
– Ладно, ништо, золотое сердечко, не убивайся, белый свет не без добрых людей, были бы руки.
В тот же день вся фабрика узнала о глашином несчастье. Все разговоры только о ней.
Стоят на дворе около бочек Бреер да Исайка Ануфриев, идет мимо молодой черноглазый ткач Ларион Жегонцев, не убоялся, что они над ним вольны, режет правду:
– Это что же вы, распорядители? За что калечите девчонку? Думаете, благо у нее ни отца, ни матери, так и заступиться некому? Если бы кто-нибудь из нас так по-скотски поступил с вашими детьми? Живодеры! Хозяйские псы цепные!
Соня маленькая и Маша Изотова горюют, жалеют подружку. Бабушка Алена приласкала ее, умыла, утешила.
Глаша принялась помогать бабке в хлопотах по дому, вызвалась сходить на Сухой овраг за полынью, пол подмести.
Сухой-то овраг длинный, вешние ручьи, паводки изгрызли его желтые бока. В устье оврага, в самом конце, с пригорка, словно сторож, глядит в овраг клен. Около него полыни – не оберешь.
Связала Глаша веничек. От полыни уж такой пряный дурманный дух идет, надышишься – разболится голова. Ах, не растет ли под этим кленом тот бабушкин цветок миловзор? Вот бы найти…
Присела девочка под кленом, что-то усталь одолела да и в голове будто шумит. Разняла лопушки, а из-под широкого листа глядит на нее дивный белошелковый цветок. И насчитала Глаша на его стебле сорок белых бутонов, сорок белых колокольцев. Ясно же, что это и есть цвет-миловзор.
…И случилось в тот тихий, теплый летний вечер в овраге точь-в-точь, как бабка Алена сказывала. Как припала Глаша к белошелкову цветку, пал ей на глаза густой туман. Все в единый миг переменилось. Летят к клену цветы со всех лугов и полян.
Поднимается из-под высокого белошелкового цветка красавица девушка, глаза, как лен в цвету. Это и есть сама добрая душа Полянка. Мелко-намелко чесаной куделью убрала Полянка клен. Стал он золотистый, как и осеннем уборе. Подняла стеклянную банку, а в банке-то, словно месяц ясный, светится, сверкает белое живое серебро. Уронила Полянка в траву сорок светлых горошин. Встали из травы сорок молоденьких прях, словно сорок цветков.
Садились все они вкруг Полянки под кудельный клен, запели у них в руках сорок веселых веретен. Запевала дивным голосом Полянка, подхватывали песню молодые пряхи и Глаша вместе с ними:
Уж ты, лен неделен,
Лен мой, белый лен…
А одно веретено под кленом само крутится, само прядет, сам челнок-летунок белые готовые куски складывает. Это все добро на долю Глаши.
Молодые пряхи-певуньи за короткий час столько напряли, наткали шелков, кашемиров – не унесешь на руках, не увезешь на возах. Полянка и говорит: не тужи, мол, Глаша, скоро все, что есть на земле хорошего, все будет тебе открыто.
И ей и подругам ее подарки, всем по равной доле, Полянка сама обещает принести, чтобы никто не отнял.
И еще добавила Полянка:
– А пока у тебя беда, я велю своим почаще навещать тебя и приносить, что тебе нужно в трудный день.
Вынула Полянка из своей косы голубую ленту и вплетает ее в глашину косицу. Да, знать, шпилечкой задела, уколола Глашу.
Вздрогнула Глаша, даже вскрикнула, и… куда что делось? Покалывают ее стебельком под косицы подружки Соня и Маша. Подкрались, как перепелки по меже, тихохонько.
– Что приснилось, привиделось? А мы-то весь овраг обегали, тебя искали. Вон и бабка Алена идет.
Глаша им – на ответ:
– Лучше бы вы на полчасика позднее. Договорить нам не дали…
– Что договорить? С кем?
– Не скажу!
Подхватили глашин полыновый веник и пошли вчетвером домой.
После переполоха на фабрике, после побоев расхворалась Глаша. Последний свой плюшевый капот променяла бабка Алена на молоко.
Глашу не так своя боль томит, больно ей за бабушку. Попеняла Глаша Полянке: вот, мол, наобещала, хотела прислать своих, а хоть бы кто мимо окон прошел! Задумалась Глаша, глаза сами закрылись. Полянка, откуда ни возьмись, склонилась над нею:
– Не брани меня, все придут, что надо принесут.
И правда, вечером стоят у ее постели Соня Дерябина и Маша Изотова, одна кринку молока принесла подружке, другая горбушку хлеба. А утром, чем свет, по пути на фабрику, навестил молодой черноглазый ткач Ларион Жегонцев.
– Слышал, Алена Марковна, заболела твоя внучка-то? Ну, ничего, молоденька, выздоровеет. Вот мы ей на выздоровленье собрали. Тут не только мое, мне в кисет вчера многие клали.
Высыпал в плетеную веретеницу и серебряные и медные, трудом добытые.
Глаша хворала почитай всю зиму. Каждый день к ней кто-нибудь да зайдет с фабрики проведать.
Солнце повернуло на весну, Глаша – на здоровье. Первым вешним ливнем плеснуло на Глашу, смыло с нее всю хворь.
Уж так-то маленькая ткачиха всем благодарна; кого из знакомых ни встретит – всем поклон низкий и спасибо.
На другую фабрику взяли Глашу. И скоро такой ткачихой она стала, что, пожалуй, позавидовала бы ее красному мастерству, знатному умельству сама мастерица Полянка. Выросла, похорошела ткачиха Глаша. А песни пела – заслушаешься!
Не чаяла старая ткачиха Алена дожить, дотянуть до светлой доли, до вольной воли. Но хоть на закате дней все-таки и к ней в низенькое оконце заглянуло счастье. Принесла это счастье не синица заморская на хвосте, принесла его народу на кумачовых высоких знаменах Октябрьская революция.
Теперь на фабрике девушки – пчелиным роем вокруг Глаши Данниковой. Немало на фабрике комсомолок – Глашина гордость. Она их объединила, в боевую комсомольскую ячейку сплотила. А думку об этом заронил в ее душу молодой большевик, друг ее желанный – Ларион Жегонцев.
Подруги и товарищи выбрали Глашу секретарем комсомольской ячейки на своей фабрике. А Ларион взял винтовку, на фронт пошел: бить интервентов, буржуев да их прихлебателей.
Красное-то Октябрьское знамя ткали ткачи. Под этим знаменем они вместе со всем народом свое счастье отвоевали – кто штыком, кто трудом честным, беззаветным. А многие и головы свои сложили за него, вечная им слава.
С победой вернулся Ларион. Смотрит Глаша на его высокий лоб, на его черные глаза и саму себя видит в них. Одно у них сердце – рабочее, один светлый путь впереди.
Всю жизнь пройдет Глаша с Ларионом плечо в плечо, рука об руку, никогда с ним не расстанется. Одна у ней дума, одна забота: жить и работать для товарищей, для всего трудового народа, для новой своей родины, краше да любимей которой нигде в свете нет.
Работать так, чтобы сорок веретен в твоих руках звенели и пели славу свободному труду.


