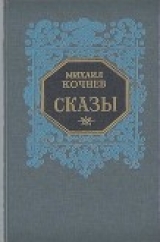
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
Все за одного – один за всех
На наших фабриках, кто постарше, все про Арсения вспоминают 11
Арсений – партийная кличка Михаила Васильевича Фрунзе. По заданию ЦК большевистской партии М. В. Фрунзе прибыл в Иваново-Вознесенск весной 1905 года и стал одним из организаторов и руководителей знаменитой стачки иваново-вознесенских ткачей летом 1905 года, когда, был создан один из первых в России Совет рабочих депутатов.
[Закрыть]. Хороший больно человек был. Многие его помнят. Немного пожил, а добрую память о себе навек оставил.
За правду первый шел. И другие, глядя на него, тоже головы поднимали – и стал у ткачей вожаком, как матка в пчелином улье.
Коли кто куваевских обидит, за куваевских гарелинские вступятся, гарелинских тронут, за них маракушинские встанут – один за одного. Хозяева глядят, не то дело пошло, другое время и народ другой. Не то, что встарь, – хлещи-свищи. Не тут-то было. Силы у ткачей вдвое прибыло, как стали стоять все за одного – один за всех. А головой всему делу был Арсений. Он у самого Ленина все науки прошел. Крепко Арсений любил рабочий народ. Наши его больно уважали. Ну и он сам тоже многому научился у наших стариков.
Где ткачи – там и Арсений, а где Арсений – там и радость. Умные речи, дельные разговоры про стачки, забастовки. А это хозяевам хуже «поднырка» на куске, и никакая полиция его не споймает. Так и жил. Ходил по земле, рабочие его каждый день видели, а шпики, сколько ни старались, на след напасть не могли. Выследят другой раз, ночью нападут на квартиру, где он заночует, а там его и след простыл. Хозяева его пуще огня боялись. Понимали – взбудоражит ткачей, подымет всех, не удержаться тогда хозяевам на своих стульях: отнимет фабрики, да и отдаст рабочим – тките, мол, ребята, на своих фабриках для себя. Живите счастливо!
Никаких денег хозяева не жалели, только бы отделаться от Арсения. Ан, сколько ни старались, – все даром. В том году, когда царь питерских расстрелял, наших тоже многих покалечили, а коих и совсем порешили – все по царевой указке.
В те поры от товарища Ленина Арсению письмо пришло. Товарищ Ленин совет давал Арсению – как быть дальше, что делать. И свой наказ Ленин ткачам велел сказать, чтобы духом не падали. Стал Арсений своих верных помощников по фабрикам рассылать, фабричных повещать: мол, в такой-то день, в такой-то час приходите за куваевский лес на потайную сходку, письмо дорогое читать. Как итти, условились, где собираться, кому на часах стоять, чтобы полиция не припожаловала, куда ее не просят.
У хозяев тоже на фабрике свои «уши» куплены были. На эту службу только дармоеды да пьяницы шли.
Прознали в управе – Арсений на сход народ скликает, заворошились, зашушукались, в затылках заскребли… Из губернии указ пришел – во что бы то ни стало схватить Арсения и в острог посадить.
Ну ищейки и начали шнырять, пошли разнюхивать: кто в нищего нарядился, кто ткачом заделался, чуйки понадевали, чапаны, картузы с каркасами, сапоги смазные, а кто в шляпе и при часах. Да во что ты ни нарядись, как хошь прикидывайсь, – в глаза глянешь, сразу видно, что за птица. У ткача глаз зоркий.
Арсений с утра до вечера на ногах был: все хлопотал, действовал, объяснял, кому что делать.
Вот и напал, в рот ему ноги, на след Арсения беззубый Ермошка. Человек так себе – оклевыш. С него и порты, как с лутошки, сваливались. Со всех фабрик гоняли его – то проворуется, то пропьется.
Определился он в тайную полицию, а терся попрежнему на фабриках. Сразу-то его не раскусили наши.
В обед собрались ткачи у забора покурить, к ним, откуда ни возьмись, Арсений явился. Тут и Ермошка был. Он все запоминал, на ус себе мотал, в Арсения вглядывался: какие приметы, как одет.
«Вон он какой сокол, – чай, подумал Ермошка-то. – Ужо я его в клетку запру».
После обеда Арсений на другую фабрику отправился. Ермошка за ним. Пока Арсений был на фабрике, Ермошка около ворот слонялся. Все хотелось ему увериться, в каком месте сходка назначена. Весь день за Арсением шлялся.
Вечером Арсению надо на ночевку итти. Идет он и видит, что за ним по забору и этот гусь крадется. Пошел Арсений колесить по переулкам, по закоулкам, по ямам, по оврагам, по грязным дорогам. Не отстает Ермошка. Смекнул Арсений – дело дрянь, взял да и пошел к лесу. Отвязался Ермошка.
Часа через два идет Арсений в город другой улицей, свернул в переулок. Только стукнул в калитку к Власу, глядь, как из-под земли, у соседнего угла этот сыч торчит, в нос посвистывает, будто прогуливается. Делать нечего, шагнул Арсений в калитку, а Ермошка со всех ног пустился в тайну управу. Хлещет по лужам, инда брызги выше маковки летят. Радуется: запоймал соколика! Награду-то какую отвалят, в год не пропить.
Арсений Власу рассказал по порядку, что случилось. Влас и говорит:
– Полиции я не боюсь. Спонадобится – жизнь за тебя свою заложу, но при таком грехе у меня тебе на ночлег нечего и укладываться. Накроют в полночь. Я придумал, как тут быть. У них два глаза, а у нас тысячи. Перекусим давай, вот тут в ставце капуста квашена есть, а вон квас.
Перекусил Арсений, листовок Власу передал, а сам ушел. Влас да эти листовки в подушку сунул и полеживает на них на печи. Только было засыпать стал, как в калитку: стук, стук. Вкатываются с шашками и при всем оружьи.
– Давай бунтовщика, – так к горлу и приступают.
– Какого бунтовщика? – Влас с печи спрашивает.
– Какой у тебя ночует.
– У меня, кроме меня да бродяжки, больше никого нет, – Влас отвечает.
– Что за бродяжка? Где он спит?
– Да вот, у меня под боком.
Городовой на печку. Глядят – никого около Власа нет.
– Ты что нам мозги крутишь? – околоточный надзиратель кричит.
Влас удивляется:
– Нешто нет? Сейчас со мной лежал. Как вы стукнули, видно, переполохался и убежал. Не под столом ли, гляньте.
Под стол городовые полезли, и там нет.
– А то и под кроватью любит полежать.
Под кровать носы сунули. Пусто. Трясут Власа за грудки:
– Кажи, что у тебя за бродяжка такой. И как ты смеешь без ведома властей бродягу на ночлег пускать? Пачпорт должен при себе держать, а беспачпортных сейчас же должен тащить в участок.
– Право, я и забыл про участок-то. Да не под пол ли он забрался?
С фонарем под пол полезли. Все углы обшарили. Никого не нашли. Опять к Власу подступили.
– Из лесу он к тебе пришел?
– Может, из лесу, может, с поля.
– Точно, как Ермошка донес, – шепчутся полицейские.
– Насовсем ушел или придет? – околоточный спрашивает.
– Куда он денется, вестимо, явится, не сейчас, так под утро. Куда же ему итти кроме? Больше у него никакого пристанища нет.
Уверил их Влас, что бродяжка скоро придет. Околоточный засаду выставил. Двое около угла, двое у калитки, двое в избе – револьверы, шашки наготове. Час прошел, два, дело к рассвету, сидят за столом, дремлют, поклевывают, сами не спят и Власу спать не дают. А Влас все кряхтит да охает:
– Батюшки, как голову-то ломит… и не встану к смене-то.
Это он неспроста, а чтобы хворого-то не потревожили, чтобы с подушки-то голову не подымать. Ворочался, ворочался на печи, да и говорит:
– Вот что, царевы работнички, шли бы вы отдыхать, а то сами маетесь и другим спокою не даете. А во имя чего маетесь, сами не знаете. Горькая ваша жизнь, полынная. Бродяжка мой явится, я его представлю в участок. Там его по всем вашим статьям можете оследствовать. И с головы и с ног мерку снимете. В чем провинился – наказывайте, хоть в кандалы куйте. Только он из степенных, сызмала не баловал, а свое дело знает отменно.
Городовые не уходят, на Власа огрызаются, говорят, что он с ним заодно. Влас только посмеивается.
– Беседы его слушаешь?
– Бывает, что, лежа на печи, поговорим о своем житье.
– Что он тебе говорит?
– Он? Да ничего особого. Видно, день-деньской умается, все больше молчит.
– Чай, все порядки ругаете? Про хозяев небылицы сочиняете?
– Случается, и об этом толкуем.
– Ну, мы и тебя вместе с твоим ночлежником потащим.
– А чего таскать, бродяжка-то мой воюет против того, что человеку во вред. От его работы, почитай, больше пользы, чем от вашей. И, главное, за труды никаких себе чинов и наград не выпрашивает. У него тоже свой участок есть, в чужие не суется, а в своих полный хозяин.
И так-то своими словами раскипятил Влас околоточного, что тот порешил трое суток не емши, не пимши сидеть в его избе.
Уж за окнами красны занавески заря на небе повесила. Влас было на смену собираться начал. Слышит, в сенцах что-то грохнуло, видно, решето по полу покатилось. Кто-то за дверью шастит. Влас с печи-то шепчет: мол, нагулялся ночлежник, не зевайте.
– Только хватайте уж сразу, меньше греха будет.
Городовые револьверы на дверь наставили. Околоточный кричит:
– Бросай оружье, не то стрелять будем!
А дверь открывать в сенцы боятся. Бродяжка-то, видно, испугался окрика, замер за дверью, ни гу-гу. Околоточный как пальнет в дверь. Прислушались, а тот уж на чердаке.
– Все дело испортил, – говорит Влас, – не надо было давать острастку. Теперь без кровопролития не обойдетесь. Добровольно он с чердака не спустится.
Из избы околоточный тем, что под окнами были, приказывает:
– Конный наряд просить! Преступник сопротивление оказывает. На чердаке засел!
Пригнали конных, весь двор окружили. Чуть-чуть приоткрыли дверь, околоточный за косяком встал, сам кричит в притвор:
– Сдавайсь, клади оружье, все равно не уйдешь, не упрямствуй! А то дом спалим вместе с тобой.
Влас струхнул.
– Зачем дом палить?.. Я лучше честью его уговорю сойти.
Открыл дверь настежь. У этих револьверы наготове.
– Выходи, бродяжка, по доброй воле, лучше будет.
Никто не входит. Ушел Влас за перегородку, гремит кринками, а сам приговаривает:
– Бродяжка, бродяжка, выходи.
Дверь настежь открыта. Вдруг через низенький порог и катится в избу серый полосатый кот с белым пятнышком на лбу. Такой ли бубен! Отгулялся за лето, шерсть на нем лоснится, так и переливается, горит. На мягких лапках по полу, словно по ковру, выступает, усы у него, что у твоего пристава, глаза с огоньками зелеными, как две крыжовины. Ткнулся в черепок, а там пусто. Мурлычит, около ног Власа и шеей-то и боком-то трется. Ясно дело: почесать за ухом просит.
У царевых работничков глаза на лоб. Набросились на деда с угрозами да с бранью. А Влас им свое:
– Я тут при чем? Говорил вам, что бродяжка явится, вот и явился. Все документы при нем. Проверяйте, пачпортный он или беспачпортный.
Так и убрались на заре не солоно хлебав.
Ермошке в участке по сусалам попало: следи лучше, пустой адрес не указывай.
Арсений утречком преспокойно встал у Прона, чесальщика с куваевской фабрики, чайку попил и – за свое дело.
Ермошка после такого пряника еще злей стал выслеживать Арсения. Так все и выглядывал, не покажется ли где курточка с медными пуговками – Арсений ее носил. Вот вечером его и подстерег. Арсений ночевать к Прону шел. На этот раз Ермошка сподручного взял. Опять Арсений приметил их. Вьются, как вороны, около ворот проновых.
Вошел Арсений, докладывает Прону:
– Дело – не хвали, вчера одна, а сегодня две вороны сразу прилетели ко двору.
А Ермошка тем временем опять в участок посвистал, у ворот сподручного на слежку оставил.
Выглянул Прон за ворота: «Батюшки, погода-то какая плохая». Постоял малость, позевал, спину об угол почесал, будто не его дело. В избе с Арсеньем перемигнулись: «Надо тебя, во что ни стало, спасать, а то, грех случится, как мне на фабрику приходить? Вот, скажут, и то ума не-хватило человека выручить». Недолго раздумывая, с ведром по воду пошел. Видит, какой-то горбатый хрыч на сторонке под его окнами прогуливается, нет-нет да на ворота посмотрит.
Принес воды, да и говорит:
– Один, видно, докладывать полетел, другой маятником под окном качается.
Скоро опять Прон из дома вышел. А Ермошка уже под окнами. Он знал проново пальто. Пошел Прон по сторонке к ямам, за ним ищейки не пошли, Арсения ждали. Арсению в избе сидеть опасно, скоро и он следом за Проном вышел, да и пошел в другую сторону. Ермошка с подручным за ним в десяти шагах стелют. А он идет, не оглядывается, этак спокойненько, будто не его дело. Ермошка думает: в свою подпольную квартиру пошел Арсений. Еще лучше, там, наверно, у него все запретные книжки хранятся. Арсений обернулся, а медные пуговки с орлами на куртке светятся, по ним, как на огонек, и хлыщут Ермошка со своим партнером. Колесил, колесил Арсений по городу, потом в белый домик к попу направился. И полиция по пятам идет. Только он вошел к попу, говорит:
– Пришел к вам панихиду заказать по родителям.
А полицейские и вваливаются. Цоп за куртку.
– Ты вот куда ходишь?
И поволокли Арсения по лестнице прямо в арестантскую карету. Привезли в участок, глядят: стоит перед ними Прон в куртке с медными пуговками. Прон – чесальщик. Слыл он за человека надежного.
– Где куртку взял с такими пуговками?
– На Кокуе купил, за рубль семь гривен, – объясняет Прон.
Помотали, помотали Прона, отпустили. Ермошка опять в дураках остался.
Арсений ночевал в укромном месте. Ермоха узнал, что в воскресенье в лесу сходка назначена. И тоже к ткачам приладился. А полиции знак дал: идите по моему следу, на сходке-де всех чохом и заберете: и Арсения и всех его друзей упечем сразу.
В это лето грибов уродилось видимо-невидимо. Утром в воскресенье с корзинками, с кошелками пошли ткачи в лес. На дорогах – полиция. Народ идет, а придраться не к чему – по грибы собрались. Таких указов не было, чтобы народ за грибами не пущать. Только уж грибников-то больно много нашлось: мужики и бабы, кои за всю жизнь допрежь гриба одного не сламливали, и то ныне корзины взяли. Партийками небольшими подвигаются, по двое, по трое и по одному так же идут все в один лес. Опосле всех Ермошка появился, тоже с корзинкой. Оглянулся – никого не видно больше на дорогах-то… Все прошли, – решил. Пошел и он за последней партией. Из виду ее не теряет. Только в кусты сунулся, вынул из корзины шпулю с початком, привязал к кусту миткалеву ленту, думает, он последний идет. Ниткой след для полиции указывает. Хитро задумал: всех провалить собрался. Через полчаса к этому кусту конные городовые прискакали. Глядят – нитка. Ну и пошли по нитке, куда их Ермошка повел. Нитке конца нет, тянется она по чащобам, по бурелому, по кустам можжевеловым. Чем дальше в лес, тем гуще. О сучья исцарапались до крови. Мундиры на себе в клочья изодрали, лезут, Арсения ловят. Лезли, лезли по чащобам. Нитка дальше да дальше повела, а отступиться не хотят. И в такую глухомань запоролись, что не только конному, но и пешему не проползти. В ладони плюют, готовятся.
– Ну, сейчас дадим баню этому Арсению и его дружкам, ловко их Ермошка поддел.
Остановятся, послушают – голоса не слышно ли. Никакого голоса, одни, где-то поблизости, лягушки потешаются.
– Теперь знаем, в какой лес Арсений ткачей собирает.
Так-то оно так. Лес-то есть, чащарник непролазный, да ткачей-то в нем не видно, человечьего голоса не слышно.
Верст двадцать, милок, а то и с лишечком исколесили, а никого не нашли. В сомненье впали: уж не надул ли их Ермошка, он, может, тоже за одно с Арсением? Плутали, плутали и в такое место залезли, не знают, ехать куда. Нить вдруг оборвалась в самой трясине. Теперь уж рады бы только из болота выбраться. Да поди ты, выскочи. Начала трясина помаленьку лошадей заглатывать, сначала по стремена, потом по седло, а там уж одни уши торчат. Вместе с лошадями-то и городовых трясина заглонула, один только как-то сумел по слеге на твердо место выползти.
…А грибники собрались в лесу на прогалине, – у кого в корзинке гриб, у кого два, у других совсем пусто. Дело не в грибах, милок. Много народу скопилось. Встал Арсений на березовый пенек, вынул из-за пазухи дорогое письмо от Ленина и так-то громким голосом давай читать с первого слова до последнего. И письмо сразу всем силы придало. Дотоле таких писем нам никогда не посылали, таких писем нам никогда не читывали. Будто, прежде чем писать, у каждого в сердце Ленин побывал, с каждым в избе за столом побеседовал, по всем фабрикам прошел, за станками постоял, всех спросил да выспросил: что хотят люди, что думают. И все то, что рабочие в тот год хотели и думали, своими словами высказал. Будто и солнце-то светить ярче стало.
А Ермошка трется по заспинам, лопочет что-то, никто его и не слушает. А сам все на лес поглядывает, скоро ли на лошадях с шашками да с нагайками выскочат. Все сроки прошли, не появляются конные. Уж и сходке скоро конец, скоро по домам расходиться станут, в разны стороны рассыпятся. Засосало у Ермошки под ложечкой. Другие-то говорят тихонечко, кому кашлянуть надо, рот картузом закрывают, чтобы на голос не пришел незваный кто. А Ермошка насвистывает то по-соловьиному, то зальется, как скворец на восходе. Одна бабка и прикрикнула на него:
– Не рано ль рассвистелся? Подожди скворцом разливаться-то.
С того ли, нет ли – на ермошкин тут свист из лесу с разных сторон выходят сразу двое: Прон и Влас, у обоих этак же по корзинке. Прон весь оцарапанный, рубашка и штаны в клочья изодраны, а на лице и на руках болотная тина, словно он с лешим в болото на любака ходил. А Влас ничего, чистый, только хмур больно. У обоих глаза горят, руки вздрагивают. Закадычные друзья арсеньевы, а на сходку к шапочному разбору явились.
Не любил этого Арсений. Сам был точный, слово свое ценил.
– Где это вы, дружки мои, были? – спрашивает обоих.
А они-то ему чуть не в один голос и отвечают:
– По сорок лет мы на фабрике отработали, ни на минуту к делу не опаздывали, а ныне статья такая подошла. Вышли мы, как условлено было, самыми последними. Пришли мы во-время, но по пути дело нашлось, а какое – сейчас скажем. Вошли в кусты, глядим – на ветке миткалевый бант, а от него нитка по лесу тянется. Постой, думаем, не на то мы ее пряли, чтобы нас этой ниткой скрутили. Я и давай эту нитку в мотушку сматывать с кустов. А у Прона другой моток пряжи изгодился, он и потянул его в сторону, через болото, к трясине гусиной, от куста с заметкой. Вот и опоздали.
Вынул Влас из корзины моток, тряхнул им и спрашивает:
– Ну, прядильщики, сознавайтесь. Кто потерял? Ты потерял, я нашел, отдам и на чай не потребую, бери по чести.
Все молчат, брови нахмурили. Поняли, зачем эта нитка была протянута.
Ходит Влас, всем в глаза пристально поглядывает. Все в глаза ему прямо глядят. А на Ермошке и лица нет.
Головенку в плечи вобрал, словно над ним топор занесен, и насвистывать бросил.
Арсений и говорит ему:
– А ну, глянь в глаза мне прямо.
У Ермошки и язык не поворачивается.
Подошел к нему Влас:
– Твоя нитка? На кого ты ее заготовил? На нас, на рабочий класс!
Да как хватит его по уху! Второй поддал да третий добавил… С того дня больше не показывался Ермошка на улицах.
А фабричные после той сходки веселей стали поглядывать и по всем-то фабрикам ленинское слово разнесли.
Арсений всегда был с рабочими, и поймать его по цареву указу никак не могли, – зорко его фабричные люди оберегали.
Злая рота
В пятом годе, когда царь одумал Думу собрать, пыль в глаза народу пустить, заявился к нам в Шую из Иванова один человек: собой молод, глаза серые, умные, под бобрика подстрижен, в синюю рубашку одет, поверх пиджак, штаны в дудку, сапоги смазные. Ткач и ткач, в те поры все так одевались. Часто его на улицах видели. Появится, появится и опять пропадет. Работать на фабрику не заступал. Надо думать, по другому делу пожаловал.
И стал он частить, все больше затемно, к сапожнику Антону. Кто Антона в городе не знал? У него присловье свое было: «два сапога – пара». Стар был, а работал чисто. Принеси ему одно голенище, он тебе из него чудо сотворит.
Небольшая хибарка у него была, за забором во дворе стояла. Ходить-то к нему через двор нужно было. Сапоги он хорошо чинил, а сказки сказывал еще лучше. Когда ни приди, завсегда у него народу в избе полно. А народ ясно какой – фабрикант не понесет Антону сапоги подколачивать: свой брат ходил, ткачи да присучальщики, прядильщики да красильщики, и солдаты часто забегали.
В городе казачья сотня расквартирована была. По просьбе хозяев из Владимира кубанских казаков прислали.
Стали ткачи у ворот после работы собираться, стали судить-рядить, кого в Думу послать следует, кого не след, да стали почаще кулаками потряхивать, – вот хозяева и с жалобой к губернатору: спасай, мол, своих чадушек.
Казак не всегда на лошади ездит, случается, и на своих двоих ходит. Сапоги бьются: то подметка отскочила, глядишь, то каблук сплошал. Самому чинить – струменту у солдата нет, да не всякому это ремесло ведомо. Волей-неволей несут Антону. Он как раз через улицу от казармы жил. Чинил хорошо и за работу брал недорого, по совести – кто что даст, и на том спасибо. А кто хоть раз у Антона побывает, того каждый день к Антону тянет, неведомая сила какая-то зазывает. А он никого ни хлебом, ни солью не потчует, все сказками угощает. Сказка слаще меда-сахара бывает.
Сидит Антон на низенькой кадке, на двух ремнях, крестом перехлестнутых, чтобы помягче было, при фартуке, рукава по локти засканы, руки от вара, как у лешего, жилы синие в сто ручьев от локтей к пальцам бегут. Одно название только что ногти: один подколот – пожелтел, другой молотком пристукнут – посинел, а третьего вовсе нет. А брови густые, седые, по три кустика на каждой стороне, усы пушистые, в стороны торчат, и белая борода по ремень, а нос махонький, как у мальчишки, и чуть привздернут. На подоконнике табакерка из коровьего рога приспособлена, на прилавке: колодки, ножи, старьте подметки, баночки с гвоздями, – все, что надо; у ног на полу бадья с водой стоит, в ней старые подметки отмачиваются. А повыше, на полке, в ряд сапоги стоят, начищены, хоть глядись в них, как в зеркало. Любил Антон, чтобы из починки сапог пошел таким же веселым, как зять из гостей от тещи.
Антон по-печатному-то еще кой-как слово разберет, а по-письменному, кроме крестов, ничего писать не умел. У кого какую обувь принял, он бирки из прутика вырезал, на бирках зарубки засекал. Один только он в своих зарубках разбирался.
По правде сказать, никаких бирок с него не брали, все его знали, верили ему.
Хаживал к сапожнику и городовой Кулек. Рожа, как модный самовар, штаны синие, на боку селедка, по ступенькам стукает, а дурак-дураком, только и по уму его было эту железину на боку таскать. Нет-нет, да и заглянет, а в дождливый день, случалось, и полдня просидит у Антона. А говорил он, как поросенок хрюкал.
– Что-то у тебя, Антон, все люди да люди? Уж не прокламации ли какие ты читаешь, против царя-государя? Ради Христа, и рот не раскрывай.
– Полно тебе, Евстигней Евстигнеич, я и не видывал отродясь никаких прокламаций, не знаю, на каких таких рантах они шьются. Я буки от веди не отличу.
Фартуком обмахнет скрипучий табурет, подсунет под широкий зад этому чурбану. Тот промеж ног шашку поставит, руки на эфес обопрет, мурло поросячье на руки положит, надуется, как индюк, и сидит, пыхтит, икает да, словно корова, губами жует. Настоящая-то фамилия им была Мухины, а в Шуе и стар и мал Евстигнея Евстигнеича Кульковым прозвали, а потом уж и просто Кульком стали величать. Самому Кульку и жене его и детям всю починку за «спасибо» правил Антон.
Антон этого Кулька насквозь видел, только виду такого не показывал: перед вороной и сам простоватым грачом прикидывался.
Как-то размокропогодилось на улице, надоело Кульку под навесом у полосатого столба дрогнуть, и пошел он к сапожнику обогреться. На воле хвиль, дождик, как из пожарной кишки хлещет, – в таку пору на улицах ни души. Ни у трактира, ни у постоялого двора хмельных и то не видно. Ну и скука одолела городового – ни стегнуть по спине, ни крикнуть не на кого. Всякое дело в привычку переходит, прилипает к человеку, словно курево.
Решил Кулек, – пока со смены народ не повалил, можно и отдохнуть. Подсел он поближе к сапожнику, про свою службу речь заводит, жалуется, что день ото дня служить тяжелее становится: фабричные не слушаются, все стачки да собрания затевают, ни к царю, ни к хозяину почтенья нет. С этой Думой всему народу голову вскружили, а полиции хоть и спать не ложись круглые сутки, с фабрики на фабрику мыкайся, суди да ряди, зачинщиков вылавливай. А зачинщиков всех в народе не выловишь, как воду из Волги наперстком на вычерпаешь. Нынче одного взял, а завтра на его место двое новых заступили. Зачинщики, как грибы после теплого дождя, полезли. Ни в жизнь одной полиции всех не одолеть.
Еще Кулек сетует на подосланного из Москвы главного коновода, что всеми делами на фабриках ворочает.
– Хочется, – говорит, – мне тысячу целковых в карман положить. За того коновода, кто его заудит, награда обещана.
Наставляет Антона: не приведется ли ему на след коновода напасть, так непременно бы об этом в первую голову Кульку поведал.
Антон головой качает:
– Ах, паря, ловко бы его подкараулить. Тысяча, а! Ведь это капитал.
Кулек велит всем-то больно не рассказывать. Одним Кулек утешается: если тысяча ему в руки не попадет, хоть зато скоро полегче служба будет. В город с казачьей сотней ротмистр Выбей-зуб недавно заявился. Этот ротмистр, надо – отца родного не пощадит, матери голову срубит. И казаков ему подходящих дали. Хозяева увидели Выбей-зуба и заулыбались. «Теперь фабричные не больно расшумятся. Злая рота укажет им свое место». Злой ротой сам господин Выбей-зуб свою сотню назвал.
– До нас, – говорит, – у вас не казаки были, а рязанские бабы. А мои молодцы покажут этим говорунам сходки, что ввек не забудутся.
Неведомо с чего, этот год солдат три раза меняли: все из веры у губернатора солдаты выходили.
Пока до казармы идут – ничего, солдаты, как солдаты, а в казармах с месяц поживут и начнут один от одного портиться. И тут же их куда-нибудь подальше от фабричных спровадят, а на их место новых пришлют. И новые долго не держатся.
А на этот раз Кулек заверил сапожника:
– Господин ротмистр Выбей-зуб клятву дал, что живого или мертвого, но коновода он обязательно в губернию доставит и что его казаки не бабы рязанские, уши не распустят, не полезут через забор к фабричным на сходку, как в других сотнях было.
Приколачивает Антон подметку, постукивает молотком, сам сказку заводит:
– Вот, два сапога пара, Евстигней Евстигнеич, послушай, коли не лень. Жил в одной земле король. Вдруг по всему государству прошел слух, что «король-то наш протух». День тухнет, два тухнет, хуже и хуже. Народ и думает: а не хватит ли нам жить под тухлым королем, может и без него обойдемся, сами собой распорядимся? А шпионы и донесли королю. Вот и стал король верных слуг себе искать, чтобы за народом приглядывали. Кто к нему на службу придет – тому новые сапоги, картуз с синим околышем, дипломат казенный, харчи даровые, на бок шашку, этак же, как тебе, и работа легкая: подглядывай да подслушивай за народом, да, что услышал, королю докладывай.
Кулек усы крутит, пыхтит, головой качает. Антон свое дело делает, дальше рассказывает:
– Вот зовет король к себе сапожника, такого же, вроде меня, и предлагает: «Поди ко мне в доносчики, жить хорошо будешь». – «Нет, уж я лучше сапоги шить буду, больше пользы-то», – отказался сапожник.
На другой день зовет король к себе оратая, мужика: «Ступай, пахарь, ко мне на службу доносчиком, хорошо жить будешь, за место лаптей я тебя в сапоги обую». – «Нет, уж я лучше в лаптях похожу, ногам вольготней».
Ткача король вызвал и говорит ему: «Ткач, а ткач, иди ко мне на службу доносчиком, озолочу, легкой жизнью заживешь, чай, надоело челноком-то играть?» – «Не погожусь я на королевскую работу. Лучше челноком играть буду», – и ткач отказался.
Задумался король: кого же в доносчики нанять? Глянул в окно, а по улице идет такая дубина нечесаная – Синегубый Митрошка, из воров вор, из жуликов жулик, объедало, опивало, ни орать, ни ткать не умел, заставь его поднять да бросить, и то у него ума нехватит, со всех ткацких его гоняли, в котах бы ему жить, а король выручил. С радостью он запродался.
Надели на него картуз с синим околышем, сапоги со шпорами, шашку на бок навесили. Встал он столбом на улице, стал выглядывать да выслушивать. Увидит – идут двое, разговаривают, а Синегубый и засвистит на всю улицу: «Стой! Закрыть рот, а то королю пожалуюсь».
Думал отучить народ разговаривать, а получилось наоборот: его самого языка лишили. Раз вышел король поутру на улицу, а у крыльца Синегубый валяется, язык у него вырезан, а вместо языка шпулю ему в рот всунули: «Свисти, мол, своему королю». Ясно дело, озорники, народ пошел несговорчивый. С тобой бы, Евстигней Евстигнеич, так не получилось, ты человек умный и служишь не у короля, а у царя.
Кулек только крякнул, рыгнул, икнул и по усам ладонью широкой шаркнул, встал и пошел, а прежде добавил:
– И впрямь дурак был твой Синегуб. Я на посту на десять шагов к себе не подпущу, крикну: «Стой!» А не послушается – раз-раз и смахну…
Ушел Кулек. Антон сказал ему вослед:
– Ну и лоб дубовый. Наплюй в глаза, для него – все божья роса.
Кулек, когда спросили его в полиции, как Антон-сапожник живет, горой встал за Антона, сказал, что Антон человек надежный, книжек не читает, с утра до вечера в каблук стоптанный глядит, обсоюзки делает, строчит, тачает, а что у него народу много бывает, так все по делу заходят. Сапожник всякому нужен, а чтобы народ разных речей не разводил, он всех сказками потешает, что в голову придет. И забыли в полиции про сапожника, будто его и на свете нет.
А сказки у него были на подмазке. Он знал, кого какой сказкой занять, кому что любо.
Человек, что из Иванова пришел, больно уж любил Антона послушать при случае, а этот человек был не кто иной, а сам товарищ Фрунзе, – в то время мало кто знал его настоящее имя, больше «Арсением» звали.
Раз вечером заявился он к сапожнику, за Арсением мужик в лаптях вошел, сапожки женины чинить принес, за мужиком ткач явился – сапоги смазные в ремонт сдать, за ткачом казак Пантелей пожаловал, кудрявый, статный, хоть картину с него пиши, высокий, гибкий, как жимолость. Скоро полна изба набралась.
– Как мои-то сапожки? – спрашивает Арсений.
Глянул на него лукаво из-под густых бровей Антон, еле заметно улыбнулся.
– Загляни завтра вечерком, может сделаю, а послезавтра наверняка будут готовы.
Арсений просит сапожника: мол, сказал бы что-нибудь.
Антон варовины сучит, сказку заводит:
– Вот, два сапога пара, шли дорогой сапог кожаный да лапоть лыковый. А навстречу им сафьяновый сапожок, царский, на золотом каблуке, серебряными гвоздями подколочен, по малиновому голенищу золотая оторочка выбрана. Идет сафьяновый сапог, нос кверху, кожаному сапогу и лаптю не кланяется. И те прошли, ему не поклонились. Догнал их золотой каблук и давай бить-колотить ни за что ни про что. Лапоть с кожаным сапогом растерялись, бросились бежать. Догнал их сафьяновый сапог и заставил ему служить, день и ночь работать на него. Ни харчей хороших им нет, ни отдыха. Долго так они маялись, может тысячу лет. Потом надоела им такая жизнь, и стали они всяк по себе думать, как им от золотого каблука избавиться.


