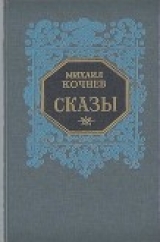
Текст книги "Сказы"
Автор книги: Михаил Кочнев
Жанр:
Мифы. Легенды. Эпос
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Снежная невеста
У наших-то фабрикантов обхожденье с фабричными людьми, особливо с женщинами молодыми да с девушками, было зряшное, коли не сказать хуже. Дешево больно человек ценился, не дороже аршина сарпинки. Далеко ли ходить за примером, вот – старики сказывают, – хоть бы тот же Семистёкл. Это на Щодчинской фабрике. Когда старый-то хозяин умер, ну тот, как наследник, и взял, конечно, вожжи в свои руки. В Москве обученье проходил, многому ли научился – учителя про то знают, но мод московских нахватался, манеры новые с собой привез.
Одевался модно. Все чтобы с иголочки да глажено. Духами брызгался, куда ни пойдет. За собой он, почитай, больше следил, чем за фабрикой, потому и дело у него шло не ахти как. Скоро прогорел. Прокрутил отцово нажитое.
Настоящее-то имя у него было мудреное – Фемистокл. Откуда-то из книг взяли. А фабричные его больше звали «Семистёкл».
Приехал Семистёкл и такой порядочек завел. Приходят бабы или девушки на работу наниматься, Семистёкл управляющему не доверял, сам смотрел: которая получше, ту примет, устроит. Случится – места нет, а девка-то красивая, возьмет да какую-нибудь пожилую ткачиху и разочтет, а эту – на ее место. Своя рука – владыка. Только такая красавица не обрадуется никакой работе. Семистёкл своего добьется. А пойди девушка супротив него, уволит. Многие молоденькие через этого Семистёкла поплакали.
Жила на Ямах одна девушка, с лица пригожая, резвая да бойкая. Годков ей не много было. Звали ее Дуняшей. Эта самая Дуняша секрет серебряного волоса таила. Нужда не тетка, бьет – не жалеет, погнала Дуняшу с малых лет на фабрику. Пошла Дуняша с товарками к Семистёклу рядиться. Поставил тот всех девок в ряд в хозяйской конторе, ходит, руки в брюки, обсматривает. Никто ему на этот раз из всей партии по вкусу не пришелся, на дверь рукой указал.
– Работы вам нет. Рябых да кривых мне не нужно.
А Дуняше говорит:
– Погоди, с тобой разговор будет.
Красота дуняшина прельстила. Ушли все. Семистёкл к Дуняше таким ли масляным голосом:
– Тебя я возьму в прядильную взамен Марьи, Марья на один глаз вовсе ослепла. Не нужна она мне больше. Ты на ее место встанешь. Как видишь, благодеянье тебе оказываю. Но, чур, – добро не забывать! Будь со мной ласкова да почтительна – работать тяжело не придется, сыта будешь и одета не хуже купеческих дочек.
Дуняша было впопятну:
– Не встану на марьино место, как же я ей в глаза взгляну, коли у ней из рук последний кусок хлеба вырву? У нее дома трое ребятишек. Нет, пойду на другую фабрику.
Семистёкл засмеялся, глупой ее обозвал.
– Ты, – говорит, – о себе больше думай.
Пообещал Марью на другую работу поставить.
Прядильщица Дуняша оказалась незаменимой. Нитка у нее получалась и тонка, и крепка, без сукрутинки, без задоринки.
С того дня, как пришла она в прядильную, Семистёкл часто стал туда наведываться. Какое-нибудь дело накинет и тут как тут. Соседки и нашептали ей: берегись, мол, лебедушка, коршун кружится.
Сама себе Дуняша зарок дала: «Живой не дамся, обрежется он об меня, я ему не в масть».
Семистёкл разок и наказывает мастерку:
– После смены позови ко мне Дуняшку-прядильщицу.
Пришла она в хозяйский кабинет, и начал Семистёкл соловьем разливаться – горы златые сулит, коли она ему совесть отдаст. Дуняша тут и показала себя, – такой отпор дала, что того аж злость охватила, двери запер, не выпускает. А она-то на подоконник, открыла окно да как закричит:
– Люди добрые, спасите!
Чуть было в окно не махнула с третьего этажа. Семистёкл переполохался, дверь сразу отпер.
– Что ты, что ты, я пошутил, – говорит.
А самого задело. Решил: «Не бывать по-дуняшину, быть по-моему».
Про то, как девушка с подоконника кричала, слушок пошел-полетел – с фабрики за ворота, да на улицу, да во все чужие двери. Дружки-приятели семистёкловы узнали – тоже запьянцовские, блудные сынки. Собрались в трактире своей компанейкой, Семистёкла насмех подняли – вот те, мол, и покоритель сердец!
Тот хватил свыше меры, в азарт вошел, в спор полез, раззадорился.
– Дайте срок, через неделю увидите, покорю непокорённую. Сюда на руках принесу!
Дружки за похвальбу эти слова сочли, Семистёкл фабрику под заклад ставит, по рукам бьет:
– Не сдержу слова – бери мою фабрику, сдержу – твою возьму. Неустойка выйдет – свидетели есть.
И ударил под всю фабрику. Дело было в начале масляной. К концу масляной Семистёкл пообещал исполнить задуманное.
На другой день принялся. Смена кончилась – опять Дуню в контору требуют. Пришла. На этот раз вел он себя степенно. На стул девушку посадил, сам напротив сел.
– Теперь, – говорит, – масляна неделя. После работы не грех и покататься. Хочешь, я тебя покатаю? В шубу новую наряжу, платок шалевый вишневый подарю. Ничего от тебя не требую. Только ты не гляди на меня волчицей, особливо на людях, куда я тебя повезу, чтобы друзья мои сразу не поняли, кто приехал, то ли брат с сестрой, то ли муж с женой, то ли добрый молодец с красной девицей.
И на такой сговор Дуня не идет.
– Я, – говорит, – не против покататься, ежели бы вы от чистого сердца приглашали. Вам хочется мною потешиться, а я не на потешенье другим родилась. Вы, говорит, себя цените, а я, хоть и бедна, тоже себя ценю.
Назавтра опять в контору тянут. Семистёкл на этот раз новое придумал: волосы взъерошил, глаза выкатил, бьет себя кулаком в грудь, будто-де от любви несчастной с ума сходит, в петлю лезть готов.
– Я по тебе безумно страдаю. Кроме тебя, мне ничего на свете не мило, не дорого.
А Дуняха и скажи ему на эти слова:
– Какой грех! Полиция пришла. У вас кто-то из кладовой кусок канифаса стащил, ищут, найти не могут.
Семистёкл как вскочит, как забегает, как закричит на всю контору:
– Кто украл? Как украл? Найти, судить, пороть! С фабрики гнать!
Засмеялась Дуняша.
– Успокойтесь, – говорит, – канифас ваш цел. Это я выдумала. Теперь сама вижу, что дороже меня для вас ничего на свете нет.
И опять ни с чем остался Семистёкл.
Тут уж беспокойство стало его заедать. Вспомнил про спор. Через нее фабрики лишиться можно. Теперь не о забаве хозяйской речь, о спасении капитала.
На зорьке, как прогудел гудок, Дуня горбушку хлеба в платок завязала, соли щепоть в коробочку положила и на фабрику подалась. За ворота вышла, глядь – из-под забора горностайка вынырнула, на восходе белый пух на ней алым кажется, глаза с искорками, да такие умные, ласковые, добрые, ну впрямь как у хорошего человека.
И то дивно, что вовсе не боится горностайка Дуняши. Снует по сугробу и коготками такие ли затейливые узоры на снегу пишет, что твой расцветчик. Будто скатерть камчатную, на переборном стане сотканную, весь сугроб разрисовала, да больно забавно. Бегает, сама хитрым глазом все на Дуняшу взглядывает, видно, что-то сказать ей хочет.
Остановилась девушка, дивуется на горностайкины узоры. Тут и вспомнила она: когда-то бабка сказывала, что у ткачей есть своя заступница – горностайка. Неспроста по берегам Уводи норки нарыты. Это все хоромы горностайкины. И книга у нее такая спотайная есть: в нее коготком записывает горностайка обо всем, что на фабрике деется, – и о плохом и о хорошем.
Доброго человека из беды горностайка может выручить.
Вот Дуняша ее и спрашивает:
– Не научишь ли, как мне быть?
Горностайка вскинулась на задние лапки и говорит:
– Знаю, что у тебя за печаль, тут и плакать нечего. За стойкость тебя хвалю. Я за тебя все дельце обделаю. Ты ему скажи: пусть прикатит за тобой вечером к овражку около ивы. А сама не приходи туда и из дому – никуда, ни шагу.
Молвила, да и пропала нивесть куда.
После работы Семистёкл опять Дуняшу зовет.
– Порешил я на тебе жениться. Что ты от меня хочешь, то и проси. Все для тебя сделаю.
– Ладно, – говорит девушка, – приезжайте вечером к оврагу. Встретимся там, обо всем договоримся.
Семистёкл, как она ушла, аж заскакал от радости. Сейчас же дружков своих оповестил, чтобы ночью в трактире собирались, на два стола накрывали – он с Дуняшей приедет! Ему страсть как хотелось спор выиграть: шутка ли, фабрика под заклад поставлена.
А Дуняша дома в сумерки на печку залезла, лежит, слушает, как ветерок в трубе посвистывает. Вдруг за окном под копытами лед зазвенел, бубенчики заворковали. Хозяин на рысаке погнал. Сам в енотовой шубе до пят. Рысак – огонь, чистокровный орловец, санки серебряной ковки, дуга в золоте.
Издалека заметил: около ивы на овраге девушка в шугайчике дожидается. Семистёкл радуется:
– Не обманула.
Подкатил, крикнул:
– Прыгай в санки!
Девушка не растерялась, прыгнула. Семистёкл припас для нее шубу на енотовом меху, накинул ей на плечи, шаль с кистями подарил, накрылась девица шалью.
Семистёкл рысака погоняет. Рысак катит, снег в глаза летит.
Взглянул Семистёкл под низко повязанную шаль, а глаза у девушки огоньками поблескивают, и голос такой странный. «Это с перепугу, – думает он, – от волненья».
– Долго ль кататься будем? – спрашивает.
Она ему в ответ:
– Давай до утра ветер обгонять, устанет рысак, другого запряжешь, у тебя их много.
Семистёкл и сам ездой потешиться любит и красавицу рад-радешенек потешить.
– Кататься так кататься!
Стегнул рысака. Летят. Девица в воротник енотовый посмеивается.
– Вы обещали меня замуж взять. Не обманете?
– Могу ль я тебя обмануть? – тот отвечает.
– Если так, давайте ради нашей свадьбы, по обычаю, молодежь обделим подарками. У вас всего много, не обеднеете. Девкам по отрезу на платья, ребятишкам по денежке на пряники, чтобы на свадьбе нашей веселей гуляли.
На селе как раз парни с девками под гармонь песни пели, а ребятишки на Ямах и в Посаде снежных баб лепили.
Гонит Семистёкл, в два пальца свистит. Ребятишки воробышками в сторону шарахаются, большие переговариваются.
– Нынче с какой-то новой катается.
– Вестимо с кем, с Дуняшей.
Семистёкл по просьбе красавицы подкатил к дому, побежал к себе, тащит отцову шкатулку, полну серебра, в передок поставил. Из кладовой – и канифасов разных, и батистов приволок, полны санки наклал, и красавицу-то всю батистами завалил. Опять погнал по Посаду, как оглашенный, знай-де наших, только снег дымится. Мимо девок едут, а красавица охапками на обе стороны батисты да канифасы разбрасывает, сама приговаривает:
– Получайте, пряхи, подбирайте, ткахи, вы пряли, вы ткали, вам и носить, не переносить.
А Семистёкл ее оговаривает:
– Дарить обдаривай, а словом не касайся. Занозу из пальца вытащишь, а слово из памяти никогда.
Мимо ребят едут – красавица им из хозяйской шкатулки пригоршнями серебро бросает, наветки дает:
– Хватайте, ребятишки, плутишки, на пряники, на орехи, на книжки. Ваши мамаши и ваши папаши добыли – значит, денежки ваши.
Такой наказ тоже не по вкусу Семистёклу пришелся.
Так-то и катались по селу за полночь. Раз пять к кладовке хозяйской подъезжали, канифасами и батистами запасались, всех бабочек и девушек ивановских подарками обделили.
Семистёкл глядит на красавицу, не больно ею доволен: не радива девка, хозяйским добром не дорожит. Смекает: «Эта краля, дай ей волю, всю мою фабрику на ветер пустит».
Дело-то к утру. А у Семистёкла было условлено – до пяти часов утра в трактир с Дуняшей не явится – значит, неустойка за ним. Потому он к трактиру вожжу тянет, девушку спрашивает:
– Не накаталась ли? Не натешилась ли?
– Нет, еще покатаемся. Погоняй!
Поездят, поездят, он опять спрашивает:
– Чай, накаталась?
Девушка отвечает:
– Еще, еще! Погоняй сильней!
Еще покатал. Она опять свое:
– Гони, – говорит, – за город хочу, гони, чтобы ветер в ушах ревмя ревел!
За город понеслись. Время – четыре часа. Рысак замучился, взмок, словно выкупанный. Из-за города повернули – и прямо к трактиру.
На Рылихе, на овраге, рысак-то и грохнулся, пал и не встал. За другим рысаком бежать недосуг, время – около пяти. Так Семистёкл, гляди-ко, заместо рысака сам впрягся да спьяну и повез красавицу к трактиру, чтобы, значит, во-время поспеть.
Девица сидит, кнутиком помахивает, покрикивает:
– Эй, сивка-бурка, поторапливайся с горки под раскат!
Под горкой мальчишки снежную бабу слепили, так на ночь и оставили. Сани на раскате под горку пошли, красавица неслышно из саней выпрыгнула, енотову шубу с себя на снежную бабу накинула, сама тут же в горно-стайку оборотилась. Спряталась за снежную бабу и кричит дуняшиным голосом:
– Стой, погоди, что вёз – упало с возу, как бы не пропало от морозу!
Услыхал Семистёкл, воротился, подхватил снежную бабу в енотовой шубе, усадил в возок и повез.
А у трактира его друзья-приятели ждут, один и часики на ладони держит. Семистёкл во-время поспел, без минуты пять часов. Те насмех его поднимают.
– С каких это пор ивановские фабриканты вместо жеребцов впрягаться стали?
– Дайте дорогу! Невесту везу, замерзла, надо ее отогреть!
Внес в трактир, поставил перед дружками на свет.
Шубу-то откинули, да и ахнули. Стоит перед ними снежная баба, вместо глаз угли воткнуты, вместо носа морковка торчит.
Друзья за рукава Семистёкла трясут, к затылку мокрое полотенце прикладывают, спрашивают:
– Какое ты сегодня пил, да много ли?
А он и сам не поймет, что с ним.
– Неустойка, – говорит, – вышла.
Вот таким макарцем одну отцову фабричку и фукнул.
А что с прядильщиками было, как узнали они про эту неустойку, – и рассказать невозможно. Хохот на фабрике стоял такой, что за три версты слышно. Почтенная тетка Дарья чуть жива осталась, водой отливали, на руках откачивали, ей-ей, с места не сойти.
Березовый хозяин
Другой про старину-то и не больно охоч слушать. Мол, все это было, да сплыло, а теперь все на другой манер повернуто, другой краской крашено. Так-то оно так. Только и про старину забывать не след. В старину-то леса какие были у нас – на сотни верст. Как из фабрики вышел, так и лес зачинался. Старики помнят – вон на Покровской горе в три обхвата сосны росли.
Зимой, бывало, припугнет лисица зайца, так он те с перепугу, случалось, в худое окно прямо в ткацкую залетывал. Лоси к самым мытилкам на питье выхаживали. Да отстали, – с фабричной краской вода – не то что из Серебряного ручья в Березовом бору, – в нос отравой бьет. Да и охотники большая помеха.
Птицы всякой, гриба, ягоды, ну, необеримо было. Возами вози. А черники, в лес войдешь – ровно черный дождь ударил, ступить негде.
Сказывают, прежде береза к березе росла на целые версты. Что кругла, что стройна, что бела. При луне серебром кожура горит, переливается. Особенно зимой, в заморозок. В лес войдешь, как в терем. Вот, бывало, повезут свои тряпки в Паршу наши хозяева или с базара ворочаются, едут ночью березняком, лошадей по своей воле пустят, а сами все любуются. Уж больно в березовом лесу отрадно. Тихо. Лунно. Куда ни глянь – серебро рассыпано. На воротнике серебро, на гриве у лошадей тоже, ветви на березах тоже серебряные, а вдобавок, случится, на маковки полушалки белые накинут. И еще, сказывают, испокон этим березником на рысях ездить опасались. Если кто поозябнет, ехамши-то, али навеселе, случится, шугнет, да пошибче, так и жди: или лошадь себя сбедит, ногу о корень переломит, – обезножит, а то и того хуже – хозяин с обмороженным носом домой пожалует, или, нивесть как, в болото угодит. А болото эвон где! Какой крюк, где ныне торф копают.
Будто высокая старая береза, такая заприметистая, обочь дороги росла. На первый взгляд береза как береза. Но приглядишься, ан не то. Не сразу, а вникнуть можно: на белом стволе ее вровень с человеческой головой росли два черных чортовых гриба рядышком, словно брови нахмуренные, а под бровями вроде как глаза и опухоль рябая – ни дать ни взять рожа какого-то чудища. Глаза закрыты, будто спит оно. Сказывали, в какую-то ночь глаза те открывались и береза говорить начинала. Правда, не часто. Вот тут-то и держись за вожжи, хватайсь за скобы. Лошади в запряже бесились. И весь лес стонал, трещал, ровно сама мать сыра земля наизнанку свое нутро вывертывала.
Как будто береза эта все на выручку звала. Да кто выручать станет? Попробуй, найди выручаловку в лесу ночью. Постонет, постонет за полночь, затихнет к утру. И стоит – не шелохнется.
Рушить-то дерево пытались, да ничего не выходило: ни топор, ни пила не брали. Топором тяпнут, ровно о камень – искра дуром сыплется, лезвие крошится. Пилить примутся, на дюйм подрежут – хруп; пилы как не бывало. Так и отступились. Думают: пропади ты пропадом! Вот какое дерево росло. Не сама та береза заскрипела, не сама оборотнем выросла, а человека из ближнего села, кажется из Дунилова, в ту березу обратили. Бывало, бают, и на такие штуки мастера водились. Заколдуют и расколдуют. Врут ли, нет ли, может, и выдумали.
Верстах в двух от паршинского тракта, в стороне, на горе, то село торговое и стояло. Землю там мало пахали, промышляли кто чем. Больше давальцы в том селе жили, ткачеством занимались, в ивановских конторах подряды брали, по домам пряжу раздавали.
В этом селе и жили два мужичка. Одного Герасимом звали, другого Петром. Неказисто жили. У обоих по два стана в избе. Герасим был роста маленького, борода реденькая, в два пальца, и на ногу припадал: в ребятах с поповой рябины упал.
А Петр мужичище был что твой медведь, в дверь едва входил, борода кольцами, уши круглые.
Раз вот и поехали Герасим с Петром на здвиженский торжок в Паршу, миткали повезли. А жили они душа в душу. Избы одним гнездом стояли – крыльцо в крыльцо. Бывало, надоест ткать, устанут, один к другому покурить идет. И базарить вместе ездили. Двоим в дороге веселей, да в случае и обороняться легче. Приехали, на постоялом дворе пару чая заказали. Базарить начали с утра пораньше. К вечеру опорожнили короба. На дорогу зашли в трактир, штоф купили да другой. Позахмелели с выручкой, да и изрядно. Было ехать собрались, Петр – за пазуху:
– Ба, а где деньги?
Спьяну-то обронил, а может, и вытащили.
Герасим, глядя на Петра, тоже за кошелек: кошелька в кармане как не бывало. Обоих обчистили. Петр заметался по трактиру. А Герасим говорит:
– Теперь хоть на стенку лезь, деньги не воротишь. Знать, тому быть. Давай купим на дорогу еще по шкалику, выпьем, может легче станет?
Петр отвечает:
– Не мешало бы еще по шкалику. А на что брать? В долг не поверят.
– А мы опояски заложим, – советует Герасим.
– Нет, я свою опояску не заложу, целковый плачен, жалко, – отвечает Петр.
– Ну, так я свою заложу, хоть моя тоже не больно стара, ну да ладно.
Дал им за опояску трактирщик еще по шкалику. Это сверх сыти, с горя, на путь-дорогу. По шкалику-то добавили и вовсе повеселели, про кражу забыли, едут, попевают:
Рябинка моя, калинка моя!
Стемнело. Заполночь как раз в березник въехали. На дороге ни впереди, ни сзади – ни души. Только две тележки на тракте в березняке поскрипывают, диви журавли по осени. А луна над лесом полная, как пряжи клубье. В лесу тихо. Ровно и лес и земля умерли. Только под кустами холодные огоньки иссиня-белые светятся – светлячки, стало быть. А березы от земли доверху – ровно миткалем обвиты, белые-белые…
– Что бабам своим дома скажем? Больно выручка-то у нас нонче гожа? – спрашивает Герасим Петра. Свою-то лошадь впереди пустил, сам сел к Петру на дроги.
– Лучше и не бай, не знаю, как в избу показаться. Моя ведьма узнает – глаза выцарапает, – про характер жены своей сомневается Петр.
Едут да на березы любуются. Березы ровные, высокие, как снежные. Герасим и говорит:
– Прямо миткалевые березы!
– Да, гожи, вот бы нам залечить свою проруху, смотать бы хоть с одной березы, – советует Петр.
– Не плохо бы, – и Герасим думает.
Только поговорили – передняя зацепила за пенек, хруп – ось перелетела пополам, колесо под куст покатилось.
– Вот и ловко! – кричит Герасим. – Ни лисы, ни рыбы – и миткали прогулял, и телегу поломал.
Слез. Остановил лошадь. Что делать? На трех колесах не поедешь. А ехать не близко. Половины не проехали. К счастью, топор пригодился. Свернули лошадей на куртину, привязали к березе, сами пошли кол искать, взамен колеса под заднюю ось поставить. С краю у дороги подходящего дерева не видно. То кустарник мелкий, то березы в обхват. От куста к кусту – и далеконько подались. Боятся, кто бы лошадей не угнал, пока они с колом путаются. Нашли, вырубили. Только было из чащи выходить – глядь-поглядь, место перед ними белым-пребело, выше куста белый сугроб лежит. Что за диковинка? Обомлели мужики. Видят: выходит дедушка седенький, бородка небольшая, в лаптях, в белой рубахе, в белых штанах, зеленой опояской подпоясан, на волосах лыковое обечко, чтобы волосы работать не мешали.
Выходит это дед и на ту гору белую кусок миткаля кладет.
– Дедушка, что ты делаешь? – спрашивают Герасим с Петром.
А дед поклонился им в пояс, утерся рукавом, сел на пенек, да и говорит:
– Товар белю, миткальчик, стало быть.
– Вон оно что, ишь ты. А много у тебя миткалю? – опять выспрашивают.
– Да по мой век хватит. Тку, тку, а себе на рубашку все нехватает, – показывает на заплаты на локтях.
– А много у тебя станков?
– Сколько в лесу берез, столько и станков.
Герасим с Петром переглянулись. Видят, дед себе на уме, не лыком шит.
– Чей ты сам будешь?
– Отцов да материн!
– В каком месте живешь?
– Доподлинно не скажу, а чуток намекну: там, где люди, там и я. Зовут меня березовый хозяин. А вы что, ребяты, гляжу на вас, пригорюнились? Водкой от обоих попахивает, а весельем чуть.
Они ему про свое горе и скажи. Герасим – тот не больно убивается:
– Ладно, только бы доехать, а там еще натку, были бы руки.
Петр за другую вожжу тянет.
– Баба со света сживет. Не знаю, чем обороняться. – И просит он березового хозяина: – Дедушка, а дедушка, не выручишь ли ты нас из прорухи? Вон у тебя сколько полотен, а уж мы тебе после – всей нашей душой…
Березовый хозяин подумал, подумал, хитренько прищурился, пригляделся к Петру и советует ему:
– Ты, коли нужда будет, делами мне соответствуй, а душу свою побереги, может понадобится. Душа-то у чевека одна – и надо ее употребить на то дело, которое не меньше души стоит. А я, раз у вас ухабина такая, и за спасибо помогу. Вижу, мужики вы степенные, язык умеете за зубами держать, в деле моем не нагадите, открою я вам тайну, только об этом ни матери, ни отцу не рассказывайте. Полотен у меня горы, и девать их некуда. А на торжки таскаться мне заказано. Кем заказано, лучше не пытайте, не поведаю.
Так вот, даю я вам первосортного тканья по тележке. Такого добреца вы не видывали. Весь свой промах и загладите. И бабы вас журить не станут. Скажите, мол, завозно было, не разбазарили. А на другом торжке к вашему товару подступу не будет, особо в цене покупателей не притесняйте. И еще вам говорю: и впредь по ночам я на своем посту, на этом месте орудую. Вы на торжок-то трафьте ночью ехать, по луне. К вашему товару кусков по сотне я добавлять стану. Мзды с вас никакой не возьму. Но тот из вас, кто самый смертный грех на земле сотворит, от такого отворочусь. И все блага ему слезами отплатятся.
– А какой грех? Ты нас научи, – Герасим с Петром добиваются.
Не стал учить их березовый хозяин.
– Сами догадайтесь. До села ехать далеко, пока едете, от нечего делать подумайте. Да и каждый день, ложась и вставая, в памяти мой наказ держите! А теперь возьмите по вязанке моего миткалю.
Встал это он, подошел к березе в мужицкий обхват. А береза белая-белая, ни пятнышка на ней, ни блошки. Вышина – глянешь на маковку, голова кружится.
– Пощупайте кожуру, какова?
Герасим с Петром пощупали.
– Миткалевая, самая настоящая!
– Вот это и есть мой миткаль. А теперь научу, как мой миткаль в куски складывать.
Вынул ножик, вырезал, как надо ленте быть. Приказывает Герасиму:
– Ты становись к этой березе, сматывай кусков, сколько тебе надобно.
Петра к другой березе подвел. Тоже, как куску следует быть, обозначил. Сам к третьей березе встал. Пошло дело. Герасим на свою кучу кладет куски, Петр на свою, а березовый хозяин – один кусок Герасиму бросит, другой Петру, обоим поровну.
На тележки носить пособил. Наклали полотен – гора вровень с дугой.
– Ну, езжайте потихоньку-полегоньку, а я свою залогу докончу.
Поехали Петр с Герасимом. Герасим на возу полеживает да на дугу поглядывает, а Петр место примечает – где, в случае, деда искать. Место выпало приметное. Лучше быть не надо: над дорогой молодая береза дугой согнулась. Видать, буря за непокорство взяла ее за зеленые вихры, до самой земли наклонила, да так и оставила. А чуть поодаль – старая высокая береза с дуплом стоит, дупло такое, что твое капустное корыто, в него человек не сгибаясь войдет.
«Гожо, – смекнул про себя Петр, – место приметное. Можно случаем и лишний разок сюда наведаться».
Едут они оба дорогой, на бел-полотне полеживают, сами подумакивают. Какой же такой самый смертный грех? Думают, думают, никак не придумают. Мало ли что в жизни бывает, на каждый раз не упасешься. Где кого словом зря обидишь, где душой покривишь. Мало ли что. Домой приехали.
– Завозно, – говорят, – с полными коробами вернулись.
Бабы-то не больно обиделись. Благо поклажа цела, не прображничали в трактире.
Неделя прошла. Повезли свою кладь Герасим с Петром в Паршу. Не успели в ряду встать, как увидели у них миткаль – прямо-таки нарасхват. Товар гож, да и в цене не дорожат. Правда, Петр на грош подороже брал, чем Герасим. С выручкой опять по штофу заказали.
На базаре уж ни души, все лавки давно заперты, а Герасим с Петром только лошадей подсупонивают. Не торопятся. Свое гнут. Трафят по луне на березового хозяина угадать.
Поехали. Герасим песни попевает, хоть бы что. Петр всю дорогу словом не обмолвился, как языка лишился. Мутит мужика. Вспомнил он слова дедушки про самый смертный грех.
И думает Петр: «Пожалуй, мне больше никакой поблажки не будет. Согрешил я: вчера вгорячах стариков – отца с матерью – ни за что ни про что обругал да жену в омшанике побил».
Луна клубьем выплыла. В лесу светло, как днем. Тихо. Ветка не шелохнет. Березы белые-белые стоят Едут мужики. Вот и береза дугой над дорогой висит, и дупло березовое поблизости. Тпру, стой! Примета. Лошадей повернули к березе. Сами в лес. А дед на своем месте: бель складывает, счет кускам ведет, как и делу быть.
– Как побазарили? – первым делом спрашивает.
– Да слава богу! – мужики в ответ.
– Ну и гоже. Прибыток-то есть ли?
– Как прибытку не быть!
– Вот и славно. А заветку мою не забыли? Не нагрешили? – допытывается старик.
Герасим сел на пень, отвечает за себя:
– Не знаю, как вон Петр, а я пока не то что человеку – воробью под застрехой и то вреда не чинил.
Петр краснеет, пыхтит, дуется, не знает: или сознаться, или нет, может, старик и не проведает, не придут же к нему отец с матерью жаловаться в лес, а самому старику откуда узнать? Удумал Петр утаить:
– Да и я, батенька мой, воды даром не взмучу. Живу тихо, мирно. Базарю по чести. Так что вроде вины никакой не значится.
– Ну и гоже! – старик в ответ. Только немножко поморщился, словно его комар укусил. – Берите товару на добро здоровье.
Те наклали по целой тележке, сто спасиб деду сказали, поехали. У Петра от сердца отлегло. Думает себе: «А не больно ты, дед, хитер, я на провер хитрее тебя вышел. Ничего-то ты не разузнал, ничего-то ты не отгадал. Так-то ли бы я тебя обыграл, кабы не Герасим на помеху. С Герасимом каши не сваришь».
Петр знал Герасима – человек прямой души.
Мерекает Петр, как бы отпихнуть этого Герасима от себя?
Вестимо, думы свои про себя бережет.
Пока ехал, надумал Петр: «Схожу-ка я на неделе тайком в лес да надбавок принесу домой».
Наутро взял кольчушку, чем свет в березник стеганул. Примета наяву. Через дорогу береза дугой и дупло – хоть в тулупе в него полезай. Полез Петр от той березы в чащобу, а ухо востро держит, к каждому голосу, к каждому шороху прислушивается. На руке, на всякий случай, берестяный кузов. В кузове ножик грибной, что-де, мол, по грибы сдобился.
По всем признакам на заветное место угадал. Березы маковками до небес. Белизна инда в синеву ударяет. Ходит, пощупывает кожуру на березах, не ошибиться бы. Как есть полотно. Но сразу не принимается сматывать. Тоже плутист был. Березы-то щупает, сам под кусты глядит да в ягодник, будто ягоды да грибы собирает. Нет-нет, да так негромко, вполшопота:
– Дед, а дед, где ты?
На деле дед ему вовсе лишний, опасается, как бы впросак не попасть. Примешься без дозволения миткаль скатывать, а березовый хозяин и явится. Гукнет Петр, постоит с минуту под кустом, опять гукнет, прислушается. Ответа нет. Посмелее стал Петр. Смекнул, что березовому хозяину, видно, днем недосуг за своими владениями надзирать.
Вынул ножик Петр, давай с берез одежку полосовать, в куски катает, в вязанку вяжет. Навязал, ноги-руки трясутся, – не из храбрых был, – взвалил вязанку на плечо и домой скорей побежал. Рад – хозяин не заметил. Бежит чащей, земли под собой не чует, только сучья трещат, ни дать ни взять, сохатый от стрелка улепетывает.
О сучки, о коряги все штаны, всю рубашку ободрал, ровно на него собак борзых спустили. Еле жив выбрался из чащи. Все-таки принес вязанку.
Только к дому-то подходит, а соседка тут как тут.
– Отколе это ты такой миткаль достал?
– Да на Студенцах отбеливал, – а сам с вязанкой скорее в сенцы и дверь на засов.
Зимой опять с Герасимом на ярмарку тронулись. Шагают сзади за возами, Герасим и спрашивает:
– Петр, вроде у тебя поболе моего на вязанку?
– Полно тебе чужое считать. Глаза-то больно завидущи. Не с одних ли берез с тобой катали, – Петр с обидой отвечает.
– Знать, повиделось, – и больше допытываться Герасим не стал. Не любил на чужом возу куски считать, спросил к слову.
Не успели товар раскинуть – минтом раскупили. Петр еще копейку на кусок набавил – все равно берут. С выручкой подвыпили чуточку и – домой. Герасим закутался в тулуп, ткнулся в передок, на сене мягко, едет – похрапывает, лошадь трусится бойко, передней пущена. Сзади в санях Петр сидит: подсчитывает, на сколько больше приятеля выручил.
Глядь, у самого леса нищий обочь дороги в сугробе сидит, и костыль и корзинка рядом.
Видно, хворь замаяла, из сил выбился; увидел он сани-то, ползет по снегу, просит:
– Довези, родной, замерзну, не доползу.
Петр глянул на него, сам кнутом лошадь шугнул. Так и остался нищий в сугробе.
Въехали в лес, тут Петр и вспомнил наказ старика. Хоть и вернуться за нищим – так не против бы. А еще его мутит обман. Вязанку тайком взял. Ну да вдруг узнает старик.
Подъехали к березе, что над дорогой висит. И дупло рядом. Опять их дед в чаще встречает. Одет тепленько, по-зимнему. В сапогах и в варежках.
– Как базарилось?
– Да слава богу.
– Охулки какой на себя не положили ли?
– Ни на себя, ни на тебя, отец, не положили, – ему на ответ Герасим.
– По-честному базарили, – поддакивает Петр.
Старик только вздохнул глубоконько, напоперек слова не ответил. Указал на березы, скатывать полотенце велел.


