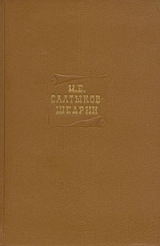
Текст книги "Том 4. Произведения 1857-1865"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
X
Папенька Григорий Семеныч, дяденька Семен Семеныч и сестрица Людмила Григорьевна
Папенька Григорий Семеныч Плегунов жил в маленьком желтеньком домике, выходившем тремя своими окнами в Фе-доскин переулок, неподалеку от Проезжей улицы. Жил он вместе с братцем Семеном Семенычем и дочерью, из дворян девицей Людмилой Григорьевной. Папеньке было восемьдесят лет, дяденьке семьдесят девять, сестрице Людмиле Григорьевне пятьдесят семь. Существовали они пенсией, получаемой обоими братьями, и вели жизнь чрезвычайно своеобразную. Григорий Семеныч, как старший, был в доме главным лицом; но, сверх старшинства, он имел неоспоримое право на главенство еще потому, что некогда обучался в духовной академии, а впоследствии своим умом дошел до мартинизма * . Все это давало ему особый вес между семейными, которые ничего не находили лучшего, как безусловно покоряться всем его распоряжениям.
День в желтеньком доме начинался с пяти часов утра; кухарки, в это время проходившие на рынок за провизией, были уверены, что увидят через окно Семена Семеныча, маленького, но еще бодрого и румяного старичка, прохаживающегося по парадным комнатам в ожидании братца Григорья Семеныча, который, как умный, позволял себе несколько времени понежиться в постели. В шесть часов старики уже были в столовой за чаем, который разливала Людмила Григорьевна. Григорий Семеныч выходил обыкновенно в халате и покойно располагался в креслах, а Семен Семеныч, в застегнутом на все пуговицы сюртуке, садился на стул, даже не упираясь на спинку его. Если время было летнее и день стоял хороший, то открывалось окно, и утренний воздух мгновенно освежал старческую атмосферу, наполнявшую комнату. Григорий Семеныч медленно выпивал две чашки жиденького, но чрезвычайно сладкого чаю и после того принимался за распоряжения по дому: призывал кухарку и спрашивал о ценах на припасы, потом призывал кучера и спрашивал его о ценах на овес и сено. Иногда по этому поводу пускался в сравнения прошедшего с настоящим, которые всегда оказывались не в пользу настоящего. Затем он брал в руку кожаную хлопушку и до семи часов безустанно колотил ею направо и налево, что делал одинаково и летом и зимой, хотя нельзя было не заметить, что летом это занятие приобретало для него существенный интерес, потому что имело разумную цель: истребление мух. После восьми часов он запасался «Московскими ведомостями» и удалялся в спальную, где посвящал два часа мысленной беседе с отсутствующими, а другие два часа сочинению под названием: «Защита Сент-Мартена», которое он начал писать еще на сороковом году жизни и к которому ежедневно прибавлял несколько строк. В течение всего этого времени Семен Семеныч, все так же застегнутый, прохаживался по парадным комнатам, а иногда позволял себе развлечься и хлопушкой, но действовал ею осторожно, чтобы не обеспокоить братца; Людмила же Григорьевна садилась за вышивание или уходила к сестрице Софье Григорьевне, которая считалась в доме красавицей и вельможей, потому что была замужем за статским советником.
Таким образом проходило утро.
В двенадцать часов старики садились обедать и, совершивши этот обряд молча, расходились по своим комнатам для отдохновения, причем дяденька Семен Семеныч с наслаждением скидал с себя сюртук и облекался в халат. Однако ж к четырём часам все были снова у чайного стола, причем повторялась прежняя история с хлопушкой, длившаяся до пяти часов, а после того требовались купленные в клубе старые и засалившиеся от давнего употребления карты, и начиналась игра в дураки, в которой принимал участие (впрочем, стоя) и лакей Спиридон, такой же старик, как и его господа. Но и здесь главенство Григорья Семеныча высказывалось во всей его силе. Все взоры, все сердца были устремлены к нему. Семен Семеныч робко заглядывал к нему в карты с исключительною целью, чтобы братец Григорий Семеныч никак не остался в дураках; сообразно с полученными этим путем сведениями, располагал он своею игрою, без нужды принимал, когда замечал, что у братца есть паршивая тройка, которую необходимо сбыть с рук, ходил с одной, имея на руках пятерню самого убийственного свойства, и т. д.; но если и за всем тем убеждался, что братцу грозит неминуемая беда, то прибегал к последнему средству: поспешно бросал свои карты, в которых нередко скрывались туз и король козырей, смешивал их с теми, которые уже вышли из колоды, и говорил:
– Нечего и доигрывать: остался я!
Людмила Григорьевна равномерно старалась всеми средствами выгородить из беды своего отца, но так как женский ум ни в каком случае не может сравниться с мужским, относительно изобретательности, то ее полезные усилия на этом поприще ограничивались лишь тем, что она выходила всегда с такой масти, которую Григорий Семеныч мог перекрыть. Один Спиридон оставался непричастным к этим семейным маневрам и нередко, вытащив брошенных Семеном Семенычем короля и туза козырей, горько изобличал его в потачке.
– Ну, что ж, что туз, король, – оправдывался Семен Семеныч, – а третья-то была шестерка пик! ну, пойди ты под меня теперича с тройки, чем же я третью-то покрою?
– Не егози, сударь, – отвечал Спиридон, – не было у тебя никакой шестерки пик!
И, о верх неблагодарности! Сам же Григорий Семеныч, в пользу которого все это делалось, предательски подшучивал над братом и, благосклонно улыбаясь, говорил:
– Да, брат Семен! дал ты маху!
Игра продолжалась обыкновенно до ужина, то есть до восьми часов, если никто в это время не приезжал. Если же приезжал посторонний (что, впрочем, случалось весьма редко), то перебирались в гостиную, и там на круглом столе, перед диваном, неизменно являлись: моченые яблоки, пастила и сушеные плоды, и вторично подавался чай. Но в восемь часов семейство уже неизменно сидело за ужином, и около этого же времени заезжал, по дороге в клуб, Порфирий Петрович и завозил Софью Григорьевну с кем-нибудь из детей. Тут обсуждались обыкновенно разные политические новости, вычитанные утром в газетах, и поверялись городские слухи, почерпнутые Плегуновыми на базаре, а Порфирьевыми в высших аристократических салонах Крутогорска. В девять часов Софья Григорьевна удалялась, и старики ложились спать.
Неизвестно почему, Порфирий Петрович если не совершенно стыдился, то как будто конфузился семейства своей жены. Когда заходила об нем невзначай речь, то он ограничивался словом «благодарю», но и это слово выговаривал не прямо, а как-то боком, причем краснел и, отставив одну ножку вперед, на другой делал полуоборот. Вероятно, его смущал слишком простой образ жизни стариков, не сообразовавшийся с его собственными понятиями и привычками. Достоверно то, что в те редкие семейные торжества, когда Порфирью Петровичу нельзя было обходиться без того, чтобы не пригласить папеньку Григорья Семеныча, дверь его запиралась для всех посторонних, и когда Разбитной, в один из таких торжественных дней, презрев все приличия, каким-то образом прорвался прямо в гостиную и, так сказать, застал Порфирия Петровича на месте преступления, то последний, в течение целой недели после этого происшествия, был несчастен и краснел при встрече с каждым знакомым.
В такой-то дом должен был приехать нареченный жених Феоктисты Порфирьевны. В четыре часа пополудни он был уже на месте с невестой и ее papa и maman. При самом входе в зал его обдало смешанным запахом пастилы, моченых яблок и изюма. Запах этот, впрочем, составляет общую принадлежность всех домов, обитаемых стариками и в особенности старыми девами, которые имеют страсть хранить в шкафах огромные запасы такого рода сластей. В зале встретили их Людмила Григорьевна и дяденька Семен Семеныч; Людмила Григорьевна, сказавши: «Очень приятно!» – объявила, что папенька Григорий Семеныч сейчас выйдет; Семен Семеныч, с своей стороны, пожал руку Ивана Павлыча и шаркнул при этом одной ножкой. В ожидании все уселись в гостиной.
– Изволили в Петербурге служить? – спросил Семен Семеныч Вологжанина.
– Да-с, и в Петербурге служил.
– Приятный город-с! Я также там смолоду служил… очень приятные бывали минуты!
– О, вы бы теперь не узнали Петербурга!
– Да-с… вот в мое время славились там Милютины лавки… нынче что-то уже не слыхать об них…
– Помилуйте! они и теперь еще продолжают пользоваться прежнею славой…
– Приятные лавки-с!
– Вы, вероятно, смолоду были тоже гастрономом?
– Нет-с, я около окошек-с… Идешь, бывало, со службы, и все как-то завернешь в эту сторону… Вид, знаете, этакий приятный, и хоть купить не купишь, а посмотреть весьма любопытно!
– Да; я сам любил эти лавки; мы там с одним приятелем, Коко Сыромятниковым, частенько-таки угощались… Только дорого ужасно!
Семен Семеныч взглянул на Вологжанина с уважением. В это время дверь отворилась, и в комнату важно и величественно вошел тучный и высокий старик в длинном сюртуке и с белым галстухом на шее. Старик этот был сам Григорий Семеныч, вследствие чего немедленно последовало представление жениха.
– Много наслышан, государь мой! – сказал Григорий Семеныч, усаживаясь на диван, – вероятно, на службу к нам приехать изволили?
– Точно так-с, и получил уже место…
– Иван Павлыч получил место прекраснейшее, папенька, – вступился Порфирий Петрович, – в шестом классе и при безобидном содержании * .
– Это хорошо, – сказал Григорий Семеныч, – теперь, стало быть, остается вам, государь мой, оправдать доверие, которым удостоило вас начальство!
– Я, с своей стороны, употреблю все усилия…
– Иван Павлыч сделал нам, папенька, честь, испросив нашего согласия на руку дочери нашей Феоктисты, – прервал Порфирий Петрович, – смею, папенька, надеяться, что и с вашей стороны не будет препятствий…
– Я препятствия делать не могу… партия эта весьма приличная! Итак, государь мой, вы не только в наш город, но и именно в наше семейство?
– Точно так-с; осмеливаюсь просить вас, милый дедушка, о расположении.
– Весьма приятно! Но позвольте вас при этом спросить, в каком смысле вы принимаете новую обязанность, которая ныне на вас налагается? То есть я разумею не брачную, а служебную обязанность, государь мой.
– Я, конечно… я употреблю все усилия…
– Я, папенька, завтра же познакомлю Ивана Павлыча с братцем Зиновием Захарычем, который, конечно, по родственному расположению, не откажется понапутствовать молодого человека.
– Это благоразумно. Но я потому сделал вам этот вопрос, государь мой, что сам в свое время служил и, могу сказать, служил не праздно.
– Папенька был советник здешней казенной палаты, – сказал Порфирий Петрович.
– Да, и был советником именно в ту самую эпоху, когда казенные палаты, так сказать, служили рассадниками истинного просвещения… вы, может быть, изволили слышать о Семене Никифорыче Веницееве? [56]56
Семен Никифорыч Веницеев, советник Тульской казенной палаты, один из авторов сочинения «Исследование книги о заблуждениях и истине», направленной против мартинистов. См. «Библиографические записки» М. Н. Лонгинова * . «Современник» 1857 г., № IV. (Прим. M. E. Салтыкова.)
[Закрыть]
Последние слова Григорий Семеныч произнес таинственно, но вместе с тем и самодовольно.
– Так вот-с, – продолжал он, – мы с покойником Семеном Никифорычем несколько разошлись в мнениях… Умный был он человек, а заблуждался! Вот я, например, доказывал, что все вещи телесные имеют начала бестелесные и что, например, минерал во времени и пространстве существует без телесных своих покровов, а он это отрицал… очень приятно проводили тогда время в умственных упражнениях!
Вологжанин разинул рот перед этою бездною премудрости, но выразить мнение свое не осмелился, а только подумал: «О, да он, кажется, либерал, почтеннейший grand-papa!» Григорий Семеныч, однако ж, не только не принял этого молчания в худую сторону, но остался, по-видимому, доволен произведенным впечатлением, потому что с удвоенною благосклонностью продолжал:
– Да-с, государь мой, проводя время в умственных упражнениях, необходимо изощряли мы и остроту ума и делались, вследствие того, истинно полезными деятелями для отечества. Да-с, недаром прежние казенные палаты слыли рассадниками просвещения! Нынче, конечно, тоже встречаются изредка просвещенные люди, но все-таки не то, что прежде… Вот хоть бы теперь, например: пишут в газетах о комете * , а подумал ли кто-нибудь о том, что означает это явление? какое влияние производит оно на судьбы народов? будет ли голод, мор или кровопролитие? А в мое время мы бы все эти вопросы непременно разрешили!
Голос старого Плегунова дрожал при этом воспоминании старого времени.
– Да, это общее мнение, что в старые годы люди как-то основательнее были, – подольстился Вологжанин.
Но Григорий Семеныч так был растроган, что даже не отвечал, а только указал рукою на поставленные на столе моченые яблоки и другие сласти.
Вообще, Иван Павлыч произвел благоприятное впечатление в семействе Плегуновых, которое преимущественно любило скромных молодых людей. Григорий Семеныч, против обыкновения, просидел до десяти часов и приказал подать на стол закуску и сладкой водки. Он беседовал с Иваном Павлычем и о других предметах человеческого ведения и во всем оказал изумительное разнообразие познаний, так что Вологжанин, несмотря на то что получил в юношестве приятное образование, не находил слов, чтоб поддерживать столь философическую беседу, и ограничивался только непритворным изумлением.
– А ведь дедушка-то преначитанный! – сказал он Порфирию Петровичу, когда они возвращались домой.
– Как же, ведь он мартинистом был! – отвечал Порфирий Петрович.
– И знаете, я вам скажу, что в наше время его, пожалуй, признали бы за либерала!
– Да ведь, коли хотите, оно и точно есть немножко, – сказал Порфирий Петрович, подмигивая глазом.
Возвратившись домой, Иван Павлыч чувствовал себя совершенно довольным. У него было как-то легко и прозрачно на душе; ноги ходили как будто сами собою, а руки тоже сами собою потирались от удовольствия.
– Умнейшая голова! – сказал он, подходя к окну и всматриваясь, сквозь темноту ночи, в противоположную сторону улицы.
Там стоял низенький серенький домик, в котором, незадолго перед тем, поселились какие-то новобрачные. Новобрачные эти, должно полагать, очень любили друг друга, потому что окна маленького домика запирались ставнями с восьми часов вечера и не отпирались до утра и потом снова запирались в три часа пополудни и отпирались в шесть. Иван Павлыч любил наблюдать за этим запираньем и отпираньем ставней, и хотя не мог проникнуть нескромным оком внутрь комнаты, но все-таки чувствовал себя как-то спокойнее после такой операции.
– Счастливчики! – сказал он, весело вздохнувши, кликнул Мишку и спросил на сон грядущий рюмку водки.
XI
Объясняется недоразумение читателя
Как! скажет мне читатель, – вы изображаете Вологжанина веселым и беззаботным, тогда как главная задача его сватовства – вопрос о приданом – оставлен неразрешенным?
Признаюсь, недоразумение это и меня долгое время смущало, а потому считаю долгом оговориться здесь перед читателем. Настоящая история составлена мной не из головы и не по рассказам каких-нибудь зубоскалов или вертопрахов, а частью по письменным документам, частью же по совершенно достоверным устным преданиям, потому что история эта не современная, как это явствует и из счета денег на ассигнации; и не только Иван Павлыч, но и прочие члены этого достойного семейства, действующие в настоящей повести, волею божией уже скончались и почиют под великолепным мавзолеем на крутогорском кладбище. А потому всякому сделается понятным, сколь важный пропуск заключался для меня в недостатке документа, который мог бы естественным образом объяснить примирение Вологжанина с судьбою. Но документа этого не оказывалось, и я уже решался изобразить Ивана Павлыча как поучительный пример трогательного бескорыстия, как вдруг выведен был из недоумения следующими двумя письмами, найденными в бумагах покойного нежнолюбимым его сыном, Порфирием Иванычем. Вот эти письма:
«Милостивый Государь!
Порфирий Петрович!
Сегодня утром, находясь в волнении чувств, я забыл (да и мог ли не забыть?) условиться насчет приданого. Хотя, уповая на милость божию, я всего больше ценю в моей невесте ее прекрасное сердце и просвещенный ум, тем не менее, усматривая в вас отца попечительного, я не могу не волноваться сим вопросом, составляющим существенную основу будущей нашей супружеской жизни и последующего за тем семейного счастия. Итак, смею думать, что вы выведете меня из несносного недоумения, которое столь сильно, что препятствует мне участвовать сегодня, по обещанию, в вашем семейном обеде. С истинным почтением и т. д.
Иван Вологжанин».
Ответ.
«Милостивый Государь мой!
Иван Павлыч!
Письмо ваше глубоко меня тронуло. Уверенность ваша в попечительных свойствах моего характера весьма меня утешила. Вы совершенно правы, государь мой, что вопрос о приданом составляет существенную часть занимающего нас дела. Итак, платя за откровенность откровенностью, я считаю долгом объяснить вам, что даю за дочерью пятьдесят тысяч рублей государственными ассигнациями (а не тридцать, как облыжно довел до вашего сведения крепостной ваш служитель), которые, во избежание всяких сомнений, вы и получите в ломбардных билетах, на имя вашей будущей жены, перед отъездом вашим в божий храм для бракосочетания. Прочее же приданое вы можете видеть во всякое время, ибо, по откровенному моему характеру, я не только ничтожных женских тряпок, но и более важных вещей утаивать не имею никакой надобности. Хотя я и смею думать, что душевные свойства моей дочери таковы, что она и без столь достаточного приданого, по силе одной своей невинности, не останется долгое время в девках, однако ж не лишним считаю, государь мой! здесь присовокупить, что на руку ее имел, в недавнее весьма время, положительные виды действительный статский советник и малороссийский старинный дворянин Стрекоза * , и лишь некоторая, вовремя замеченная в нравах его гнусная привычка воспрепятствовала совершению столь приятного союза.
За сим, ожидая вас к обеду, с совершенным уважением имею честь быть и т. д.
Порфирий Порфирьев».
– Вот как при стариках-то наших все просто и откровенно делалось! – с умилением сказал мне Порфирий Иваныч, вручая эти два письма.
XII
Опять капитан Махоркин
Что делалось в четырех стенах дома Порфирьева в то время, когда явился туда, по приглашению, Павел Семеныч, кто и каким образом усовещивал его оставить злобное преследование Феоктисты Порфирьевны – все это осталось навсегда погребенным под спудом строжайшей тайны. Известно только, что Махоркин выбежал от Порфирьевых опрометью, без шапки и без шинели, в беспорядочном самом виде, в каком добродетельные пустынники спасаются от преследования злых духов, нередко являющихся им в образе малоодетых женщин. Как нарочно, день стоял ненастный; порывистый и пронзительно-холодный ветер свистал ему в уши; дождь проливал целые потоки на его голову и одежду; но он не чувствовал оскорбления стихий. Выдавшись грудью вперед и заложив руки за спину, он бежал или, скорее, летел по улицам, не разбирая, что у него под ногами, лужа или твердое место, причем машинально шевелил губами, размахивал изредка одной рукой и, как уверяли впоследствии очевидцы, ни разу, в продолжение всего перехода, не моргнул глазом.
Пришедши домой, он остановился среди комнаты, как бы не сознавая еще, что с ним делается и почему он остановился именно тут, а не посреди лужи или в другом месте. Он бессмысленно посмотрел на Рогожкина, который уже настроил гитару и, казалось, ждал только возвращения Махоркина, чтобы предаться любимому занятию. Петр Васильич несколько струсил, увидев благодетеля своего в таком восторженном состоянии, и вознамерился было улепетнуть, но принятая Махоркиным, посреди комнаты, позиция воспрепятствовала исполнению этого поползновения.
В таком положении простоял Павел Семеныч с четверть часа. Чувствовал ли он что-нибудь в это время или просто жил лишь общею жизнью природы – Рогожкин не мог объяснить этого, потому что сам от страха как бы замер и утратил всякое сознание. Однако ж, так как все в мире должно иметь свой конец, то и Павел Семеныч мало-помалу пришел в себя, взял стул и уселся на нем в обычной своей позе.
– Пой! – сказал он сиплым голосом.
Рогожкин начал петь и пел в этот раз действительно удачнее обыкновенного. Он чувствовал, что в эту минуту он обязанупотребить нечеловеческие усилия, чтоб удовлетворить своего господина. Пел он песни всё грустного содержания: про старого мужа-негодяя, который «к устам припадает, словно смолой поливает», про доброго молодца, приезжающего, с чужой дальней сторонушки, на могилу своей красной девицы, своей верной полюбовницы.
Расступись ты, мать сыра-земля!
Ты раскройся, гробова доска!
Пробудись ты, душа-девица!
Ты простися с добрым молодцом,
С добрым молодцом, другом милыим,
С твоим верным полюбовником.
– Вина! – закричал Махоркин неестественным голосом, вскочив со стула и начиная в исступлении бегать по комнате, – вина!
Рогожкин засуетился, вынул из шкапа полуштоф и рюмку и поставил на стол. Павел Семеныч начал мрачно осушать рюмку за рюмкою.
– Хорошо! – сказал он наконец, проводя рукой по груди.
– Вы бы лучше сняли с себя мокрое-то платье! – осмелился выговорить Рогожкин.
– Вздор! издохну – тем лучше!
Он остановился перед Рогожкиным, скрестивши на груди руки.
– А знаешь ли ты, что сегодня произошло? – произнес он с расстановкой, – сегодня, брат, были махоркинские похороны… да! убили они, брат, меня!
– Помилуйте, Павел Семеныч, на что же-с? даст бог, и еще сто лет проживете!
– Нет, брат, не жилец я! не утешай ты меня! а ты скажи лучше, лев ли я?
Рогожкин замялся, не зная, что ответить.
– Нет, ты скажи, лев ли я? – допрашивал Махоркин, выпрямляясь, вытягивая свои члены и сжимая кулаки, – и вот, братец ты мой, этот лев, этот волк матерый перед ягненком смирился… слова даже не выговорил!
Рогожкин покачал головой, а Павел Семеныч снова выпил водки.
– Да и что бы я мог сказать! – продолжал он, – сказать, что я ее люблю, – она это знает! сказать, что я ее, мою голубушку, на ручках буду носить, – она это знает! сказать, что я жизнь за нее пролить готов, – да ведь она и это знает! – что ж я мог сказать ей?
Махоркин задумался. Он усиливался представить себе, что бы в самом деле он мог высказатьТисочке, если бы мог, но лучше, красноречивее изложенного выше, ничего не был в состоянии придумать. Все ему представлялась его собственная фигура, гладящая Тисочку по головке, носящая на руках и убаюкивающая это прелестное дитя. Выше этого наслаждения он не понимал.
– Отчего же вы не сказали им всего этого? – робко заметил Рогожкин.
– Отчего не сказал? ну, не сказал – да и все тут! Эх, Петя, налей, брат! пропал я, Петя! Еще маменька-покойница говаривала: не пей водки, Павлуша! капля в рот попадет – пропащий будешь человек!.. вот оно так и выходит!
На другой день Павел Семеныч проснулся очень поздно и с невыразимой тоской окинул взором голые стены своей одинокой квартиры. Рогожкин, который провел у него всю ночь, с заботливою нежностью следил за каждым движением своего друга. Сам он не смыкал глаз почти всю ночь; отчаянье Махоркина взволновало его; он до такой степени привык смотреть на него, как на лицо всемогущее и всегда торжествующее, что мысль о постигшей его неудаче материально не лезла в его голову и производила бессонницу. Но так как Махоркин самолично объявил, что дело его пропало, то поневоле пришлось поверить ему, и оставалось только придумать средства, каким бы образом смягчить эту неудачу и сделать ее не столь жестокою. И разные полудетские, полуфантастические проекты волновали его крохотное воображение. То думалось ему: вот завтра утром, как только встанет Павел Семеныч, я полегоньку подойду и скажу ему: «А Феоктиста Порфирьевна прислали узнать о вашем здоровье, – что прикажете отвечать?» И все лицо его улыбалось от одной мысли о том, какой эффект произведет этот вопрос на Махоркина… Но через несколько минут мысли его принимали другое направление. «Нет, – говорил он сам с собою, – лучше будет, если они завтра проснутся, а я им письмо вдруг подам… От кого, скажут, это письмо? а письмо-то от ихнего начальника, и начальник благодарит Павла Семеныча за их рвение по службе и усердие к сохранению казенного интереса…» Одним словом, не было той несбыточной фантазии, которою бы с жадностью не овладела мысль Рогожкина, и всё с одною целью: утешить и успокоить бесценного Павла Семеныча.
Но поутру, когда Махоркин действительно проснулся, все эти проекты внезапно улетучились. Рогожкин подошел, однако ж, к его кровати и пожелал ему доброго утра.
– Вина! – сиплым голосом отвечал Махоркин на приветствие своего друга.
– Не будет ли-с? – осмелился заметить Рогожкин.
– Вина! – снова закричал Махоркин, и так настоятельно, что Рогожкин не осмелился ослушаться, схватил опрометью шапку и побежал в питейный.
– Ты, Петя, не знаешь, что это была за девушка! – сказал Махоркин, когда было уже достаточно выпито, – да, только время может открыть, что это была за девушка!
– Бог не без милости, Павел Семеныч! Может, еще и наша будет!
– Нет, брат, не будет! сама сказала! Кабы не сама… ах, кабы не сама!
– Да, может, они против своей воли так говорят, Павел Семеныч?
– Нет, брат! Вы, говорит, для меня отвратительны, я, говорит, найдусь вынужденною в уездный суд просьбу подать, искаться на вас в бесчестии!
– Да помилуйте, Павел Семеныч, ведь это они с чужих слов повторяют! Всё это Порфирия Петровича слова: даже и слог ихний-с!
– Нет, Петя, убит я! А как было бы хорошо-то! нанял бы я квартирку побольше, купил бы вещиц хорошеньких… ведь я, брат, коли захочу, могу добыть денег!
– Кому же и добыть, как не вам, Павел Семеныч!
– Да!.. там была бы ее комнатка, здесь бы моя… назади бы спаленка… славно!
– Что и говорить, Павел Семеныч!
– Ты пойми, как тебе-то было бы хорошо! Вот ты теперь один-одинехонек по белу свету шатаешься, а тогда и у тебя бы почти что свое семейство было! Не слонялся бы ты из угла в угол, а с утра пришел бы в семейный дом… спокойствием бы насладился!
– Деточек бы ваших нянчил, Павел Семеныч!
– Выпьем! выпьем, брат, потому что уж такая мне вышла линия! Нет, Петя, мне счастья! счастье-то мое, видно, еще в ту пору, как я младенцем был, собаки съели!
Такого рода разговор длился целый день. Гитара и чекан отложены были в сторону; песни не оглашали больше скромной квартиры Махоркина; но зато водка беспереводно стояла на столе, перед которым сидели собеседники. На другой и на третий день повторилось то же самое. Махоркин не делал ни шагу из своей квартиры, опасаясь встретить ту, которая столь жестоко нарушила спокойствие всей его жизни. Врожденная ему дикость нрава развивалась все более и более; казалось, он потерял всякое сознание окружающей его вещественной природы и не имел никакой иной мысли, кроме мысли о Тисочке, но и то представлявшейся ему не в ясном и лучезарном свете, а среди облака, образуемого винными парами. И длилась бы эта история, быть может, и до сего дня, если бы не случилось странное происшествие, которое внезапно пресекло ее.








