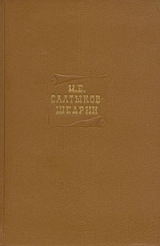
Текст книги "Том 4. Произведения 1857-1865"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
– Это правда, батюшка; бог любит труды; я вот про себя скажу: никогда я не бываю так счастлива, никогда совесть моя не бывает так спокойна, как в то время, когда я тружусь… так, знаете, и колышется там все…
Наталья Павловна показала рукою на грудь и несколько даже прослезилась при этом.
– Так поди же, друг мой, – продолжала она, обращаясь к Яшеньке, – покажи дорогим гостям твоюусадьбу… вы у меня именно дорогие гости, батюшка с матушкой; я с светскими удовольствиями давно распростилась… вот божественное – это по мне!
Яшенька, как и следовало ожидать, прежде всего повел гостей в погреб с винами.
– Я должен вас предупредить, батюшка, – сказал он, заметно конфузясь, – когда я прибыл к маменьке в дом, погреб этот был в самом ужасном беспорядке… Все, что вы здесь ни видите, все это заведено уже мною.
– Порядок в жизни едва ли не главное мерило, по которому мы можем судить о достоинствах человека, – отвечал отец Алексей, – без порядка всякое человеческое предприятие подобно зданию, на песке построенному.
Матушка улыбнулась и, отвернувшись, для учтивости, в сторону, утерла платком нос. Яшенька подробно объяснил как то, что им уже сделано, так и то, что предполагается сделать на будущее время по устройству винного запаса.
– Теперь, батюшка, пойдемте в сад: вы увидите, как у нас там хорошо! – сказал Яшенька.
И действительно, в саду оказалось очень хорошо.
Яшенька, как учтивый кавалер, сорвал цветок барской спеси, поднес его матушке и затем просил гостей обратить внимание на искусство, с которым подстрижены липки.
– Да; мастер изрядный делал! – отозвался отец Алексей и, обратившись к попадье, прибавил: – Наш с тобой дворец небось похуже этого будет!.. изукрашено как!
Но всего более впечатления произвел поставленный у беседки гипсовый турок, с трубкою в руках.
– Ну что, дурак, что ты тут стоишь! – сказал Яшенька, ласково трепля турка по животу.
Наконец все было осмотрено, кроме конного двора, в который Яшенька не имел входа; гости возвратились в дом, пообедали и в скором времени собрались восвояси.
– Я надеюсь, мой друг, что ты не скучно провел время сегодня? – сказала Наталья Павловна, когда гости ушли.
– Я, милая маменька, всякий знак вашего внимания готов принять как величайшую для меня милость, – отвечал Яшенька, целуя у матери руку.
– Ты, кажется, недоволен? – спросила строго Наталья Павловна, которой показалось, что в лице Яшеньки не выражается достаточно признательности.
Но Яшенька, в сущности, не был ни доволен, ни недоволен: он просто отвык от людей, которых общество, вследствие этой отвычки, скорее составляло для него тягость, нежели развлечение. Он до такой степени сжился с своим одиночеством, что с болезненным нетерпением отзывался на всякий внешний толчок, который пробуждал его от нравственного оцепенения. По целым часам он ходил по комнате, не имея, по-видимому, никакой мысли, потупив глаза и только изредка улыбаясь.
«Господи! что же с ним будет!» – думала Наталья Павловна, с беспокойством следя за его движениями и убеждаясь, что общество отца Алексея не производило в Яшеньке никакой перемены.
И вот в один прекрасный день светлая мысль озарила ее голову.
– Душенька, – сказала она Яшеньке, когда он пришел пожелать ей доброго утра, – я все думаю, как бы мне рассеять тебя… Не хочешь ли съездить в гости к Табуркиным?
– Если это может доставить вам удовольствие, милая маменька, то я готов исполнить вашу волю во всякое время, – отвечал Яшенька.
III
Табуркины жили неподалеку, всего каких-нибудь в трех верстах. Семейство это состояло из maman Табуркиной, ее сына и двух дочерей, из которых старшей было лет двадцать пять, а младшей около семнадцати. Дом этот в околотке известен был под названием женского монастыря, потому что в нем, кроме женщин, никого нельзя было встретить. Даже Васе Табуркину прислуживали горничные, чему он был с своей стороны очень рад, находя в этом свой расчет. Такое отсутствие мужчин злоречивые соседи приписывали чрезвычайной заботливости maman Табуркиной о репутации ее дочерей, потому что старшая, Мери, имела уже однажды какую-то темную историю, à propos d’un beau raznostchik [60]60
с одним красивым разносчиком.
[Закрыть], которому будто бы она предлагала бежать, обвенчаться в соседнем селе и поселиться в хижине на берегу прозрачного ручья. Мери была высокая и стройная брюнетка, с выразительным лицом и еще более выразительной походкой. Сверх того, у Мери были живые карие глаза, которые она постоянно прищуривала под предлогом близорукости, а в самом деле потому, что была уверена, что это к ней идет. Что касается до второй дочери, Aimée, то хотя ей уже было около семнадцати лет, но maman Табуркина решила до последней крайности держать ее в панталонцах, дабы через это заявить всем женихам, что взоры их должны быть исключительно обращены на Мери. Aimée была недурна собой и лицом напоминала Мери, но положение ее было незавидное. Быть осужденною ходить в панталонцах до тех пор, пока старшая сестра не выйдет замуж, – воля ваша, это невыносимо. Maman Табуркина сознавала это и неоднократно покушалась даже выпустить запас, который, на всякий случаи, был всегда оставляем в платьях Aimée, но едва отдавала она соответствующее приказание, как Мери приходила в неистовство и положительно требовала отмены его.
– Вы, конечно, хотите показать целому свету, что я уж перезрелая дева! – говорила она, – в таком случае позвольте мне самой о себе позаботиться!
И так как maman Табуркина очень хорошо понимала, что значит фраза «самой о себе позаботиться» (ибо история с разносчиком была всегда у нее в памяти), то приказание отменялось, и Aimée по-прежнему насильственным образом обращалась в детство.
Затем остается сказать несколько слов о Васе. Это был красивый, румяный и видный молодой человек, которого все усилия были направлены к тому, чтобы блеснуть перед соседями и даже перед крестьянами щегольским и отчасти невиданным покроем своего платья. Преимущественно любил он кучерской костюм, и, конечно, не было в мире человека счастливее Васи в те минуты, когда, надев бархатную поддевку без рукавов, в шелковой красной рубахе с косым воротником и в бархатных штанах, он прохаживался по селу, заломив набекрень поярковую шляпу, украшенную разноцветными павлиньими перьями. В эти минуты он отнюдь не сомневался, что он ямщик, что вот-вот отпрег измученных коней, получил на водку от седоков и теперь имеет полное право шататься по селу и балагурить с деревенскими бабами и девками. Что убеждение это было в нем искренно, – это доказывается тем, что кучеру Алехе дозволялось в это время называть барина не Васильем Петровичем, а просто Васюткой, и даже прогуливаться с ним под руку по деревне, представляя двух подгулявших ямщиков. Другая также весьма сильная слабость Васи Табуркина заключалась в том, что он был совершенно уверен в магическом действии своей особы на женский пол. Не говоря уже о горничных, которые, по его мнению, должны были все сгорать от любви по нем, ни одна женщина не могла устоять перед его бархатною поддевкою и перед взором его карих глаз. Встанет он, бывало, поутру, зачешет в кружок волосы и в бархатной-то поддевке, поджав руки фертом, вытянется во весь рост у окошка, покуда крестьянские бабы и девки проходят мимо на барщину.
– Не уйдешь! – говорит он сам себе, заметив какую-нибудь смазливенькую девчонку, которая, завидев барчонка, торопливо закрывает косынкой свое личико. И, довольный произведенным эффектом, он отправляется по деревне, преимущественно норовя пройти мимо усадьбы старого майора Дулебова, который, с двумя пожилыми дочерьми, жил в полуверсте от Табуркиных. Вася был уверен, что барышни Дулебовы, завидев его, уже стоят где-нибудь у окна и, спрятавшись за занавеской, рассуждают между собой: «Ах, какой прелестный молодой мужчина!». И хотя барышни были старые, безобразные и злые, но Вася забывал это и увлекался только действием, которое должна была произвести на них его бархатная поддевка.
В такое-то семейство должен был явиться Яшенька. Когда maman Табуркина получила от Натальи Павловны письменное о том извещение, то не обнаружила при этом своих чувств ни словом, ни движением, а только взглянула на Мери, и последняя не только поняла этот взгляд, но в ту же минуту инстинктивно оправила сзади платье.
– У молодого Агамонова триста душ… незаложенных, – сказала Прасковья Семеновна, задумчиво блуждая взорами.
Мери еще раз оправила платье и встряхнула головкой.
– И мужички послушные… не то, что у нас! – продолжала Прасковья Семеновна, вздыхая.
Мери с горячностью бросилась целовать maman, и разговор был этим закончен.
Но Наталья Павловна совсем не равнодушно расставалась с своим детищем. Она несколько раз уже раскаивалась в своей слишком быстрой решимости, несколько раз даже порывалась отказаться от своих слов, но какая-то совершенно некстати проснувшаяся совестливость удержала ее. Тем не менее беспокойство ее высказалось ясно во всех мелочах и подробностях, касавшихся поездки Яшеньки. Еще накануне его отъезда она лично осмотрела беговые дрожки, на которых он пожелал совершить путешествие, и несколько раз призывала к себе кучера Митьку, наказывая ему, чтоб осторожнее ехал по мостам.
– Смотри же, Яшенька, не запаздывай, друг мой, – говорила она сыну, – ты знаешь, какие тут по дороге мосты…
Но на другой день такая несносная тоска начала сосать ее сердце, что она решилась лично сопровождать Яшеньку.
– Позвольте мне, Прасковья Семеновна, рекомендовать вам моего Яшеньку! – сказала Наталья Павловна maman Табуркиной, держа Яшеньку за руку и представляя его, – надеюсь, что вы его полюбите…
– Смею думать, сударыня, – проговорил, в свою очередь, Яшенька, – что вы не откажете мне в своем расположении, в котором я, по неопытности, весьма еще нуждаюсь…
– Очень рада, – отвечала Прасковья Семеновна, – мой Базиль будет очень доволен, что найдет в вас приятного товарища… Базиль! Мери!
– Сейчас, maman! – отвечал из соседней комнаты женский голос.
– А я не решилась доверить моего Яшеньку Митьке, – продолжала Наталья Павловна, – и собралась к вам сама… Он у меня еще такой неопытный, а у нас эти мосты – того и гляди, что экипаж набок повалится!
– Хотя я и служил по кавалерии, – вступился Яшенька, – но не могу не благодарить вас, милая маменька, за ваши родительские обо мне попечения…
Он почтительно поцеловал руку Натальи Павловны. В это время, подпрыгивая и танцуя, вбежали в комнату Базиль и Мери; на Базиле был обычный его костюм, то есть бархатная поддевка и шелковая красная рубаха; что же касается до Мери, то, несмотря на летнее время, она была в синем шелковом платье, а голова ее была вся усеяна мелкими букольками.
– Марья Петровна! позвольте мне представить вам моего Яшеньку! – сказала Наталья Павловна, поцеловавши Мери, – и вы, Василий Петрович, надеюсь, не откажетесь составить компанию молодому человеку!
– Я надеюсь, сударыня, – проговорил Яшенька, расшаркиваясь перед Мери, – что вы не откажете мне в расположении, в котором я, по неопытности, весьма еще нуждаюсь… Я надеюсь также, что и вы, Василий Петрович…
Яшенька замялся, покраснел и в смущенье начал пощипывать свои усы, единственное преимущество, которое он приобрел короткою своею службою в кавалерии.
– Ах, Наталья Павловна! вы знаете, как мы вас любим! – отвечала Мери очень развязно и потом, прищурившись, осмотрела Яшеньку с ног до головы.
– Вы уж сделайте одолженье, займите его, – продолжала Наталья Павловна, – он у меня все как-то скучает!
– Позвольте мне доложить вам, милая маменька, – отозвался Яшенька, – что, обладая такою попечительною матерью, я не имею никакого права скучать.
– Мы пойдем в сад… не правда ли, мсьё Жак? – сказала Мери.
Яшенька вопросительно взглянул на мать.
– Что ж, душечка, ты можешь идти, – отозвалась Наталья Павловна, – для тебя это даже здорово…
– Сударыня! я совершенно в вашем распоряжении! – отвечал Яшенька.
– Ах, Прасковья Семеновна, вы не поверите, как я счастлива! – сказала Наталья Павловна, когда молодые люди вышли из комнаты, – мой Яшенька меня так любит, так любит, что я даже не знаю, чем заслужила такое счастие!
– Это очень приятно! – отвечала Прасковья Семеновна.
– Поверите ли, иногда мы целый день вместе сидим и всё друг на друга глядим… Никто даже не скажет со стороны, чтоб это были мать и сын… даже ни слова не скажем друг другу… всё глядим!
– Это в наше время большая редкость!
– И уж так покорен, так покорен, что даже выйти не может из комнаты, не сказавши наперед мне * …
– Скажите пожалуйста!
– Да; я могу сказать, что бог наградил меня в этом сыне… Одно только тревожит меня, Прасковья Семеновна: мне кажется, что он недолговечен!
– Отчего же! напротив того, я нахожу, что у Якова Федорыча отличнейший цвет лица…
– Ах нет, Прасковья Семеновна! этот цвет лица ужасно как обманчив… Я чувствую, что он недолговечен.
– Я не знаю… мне кажется, что у Якова Федорыча и выражение лица… одним словом, ничто не предвещает близкого несчастия…
– Нет!.. я чувствую! я это чувствую, что скоро должна буду расстаться с ним!
Но между тем как Наталья Павловна преждевременно хоронила Яшеньку, в саду шла беседа совершенно иного рода.
– Как вы находите мой костюм? – спросил Яшеньку Базиль, – не правда ли, очень удобно?
– Да-с, со стороны удобства, я полагаю, что действительно он большого беспокойства не составляет, – ответил Яшенька.
– И главное, то хорошо, что я как две капли воды на ямщика похож! – продолжал Базиль, – знаете ли что? сшейте-ка и вы себе такую поддевку, и будем вместе пьяных ямщиков представлять!
– Я с большим удовольствием; я думаю, что маменьке будет угодно позволить мне…
– А вы еще до сих пор у маменьки позволения спрашиваете? Слышишь, Мери? Ну, а если маменька не позволит вам?
Яшенька ужасно покраснел и не знал, что ответить, потому что подобного рода вопрос еще никогда не представлялся его воображению.
– Знаете ли что, Яшенька? – снова начал Базиль, – я вам должен сказать, что это ужасно подло всякий раз у маменьки позволения спрашивать… Не правда ли, Мери?
– Ах, Базиль, можно ли так откровенно выражаться!
– Ведь этак ни одна порядочная девушка ни за какие блага в свете не захочет выйти за вас замуж… Я уверен, например, что Мери вам непременно откажет, если вы вздумаете за нее посвататься…
Яшенька покраснел до ушей и решительно сбился с толку. Положение его было совершенно ново; с одной стороны, он чувствовал, что тут есть что-то неладное, что над ним как будто смеются, а с другой стороны, думал и то, что, быть может, в большом свете и всегда таким образом действуют.
– Вы меня извините, Яшенька! – сказал между тем Табуркин, – я вас покамест оставлю, потому что в это время я задаю лошадям овес, а это у меня прежде всего… Лошадь езды не боится, только овсом ты ее не обижай…
Хотя Табуркины уже и по слуху знали о странных отношениях молодого Агамонова к матери, но, увидевши его собственными глазами, убедились, что все самые смелые предположения их были ничто в сравнении с действительностью. Поэтому-то они решились не церемониться с ним и действовать на него, так сказать, одним механическим давлением, без особенных издержек со стороны изобретательности и остроумия.
– Вы занимаетесь чем-нибудь дома, мсьё? – спросила Мери, слегка приподнимая платье и выказывая вышитую юбку и из-за нее стройную и узенькую ножку.
– Как же-с, маменьке угодно было поручить мне погреб, и сверх того, я разбирал папенькину библиотеку…
– А правда ли, мсьё, что ваша maman сама своими руками людей бьет?
– Это совершенная ложь-с; конечно, маменька иногда бывает вынуждена наказывать тех, которые нерадением или неохотным исполнением своих обязанностей навлекают на себя ее гнев, но ведь без этого в хозяйстве невозможно-с! однако и тут она действует с величайшею осмотрительностью…
– Скажите, мсьё… вам, должно быть, очень скучно?
– Никак нет-с; конечно, нынешние занятия мои не разнообразны, но я надеюсь, что маменьке со временем угодно будет доверить мне также конный двор, и тогда на мне будет лежать даже слишком много обязанностей, чтобы я хотя на минуту мог оставаться праздным.
– Скажите, пожалуйста… думали ли вы когда-нибудь… о женитьбе?
– Никак нет-с…
– И вы никого не любили?
Яшенька покраснел и потупил глаза; взор его случайно упал на ножку Мери, и неизвестно почему, все предметы внезапно закружились перед ним и самый воздух получил радужные цвета.
– Дайте мне руку, я устала, – сказала Мери утомленным голосом, смотря на него пристально, – пойдемте, сядемте на скамейку.
Яшенька подал руку и ощутил, что какое-то странное чувство вдруг хлынуло в его грудь, то расширяя, то стесняя ее. То чувствовал он порывы безотчетной веселости, и даже неудержимого, светлого смеха, который овладевал всем его существом, то вслед за этим смехом подкрадывалась тоска и так сосала, так сосала его сердце!..
– Но если вы намерены жениться, – продолжала Мери, севши на скамейку, – то должны совершенно изменить свои привычки, свой образ жизни…
Яшенька молчал.
«Господи! как он глуп!» – подумала Мери и продолжала вслух: – Потому что, согласитесь сами, никакая порядочная женщина не захочет похоронить себя в деревне, а еще менее во всем подчиниться вашей maman…
– Я не знаю, Марья Петровна, верно, какой-нибудь злой человек оклеветал перед вами маменьку, – сказал Яшенька слабым голосом.
– Все это может быть; но согласитесь, однако ж, что ваша maman так дурно образована, она так странно говорит… Неужели же вы думаете, что порядочная женщина согласится быть в ее обществе?
Сказав это, Мери еще больше выдвинула вперед свою маленькую ножку и посмотрела на Яшеньку такими влажными глазами, что он на минуту возненавидел и Наталью Павловну, и свою скверную робость, и этот бесцветный, этот длинный и безрадостный ряд дней, который он имел несчастие называть своим прошедшим.
И бог знает, чем бы кончилась эта сцена, если бы в это самое время не послышался с балкона голос maman Табуркиной, призывавший Мери к обеду.
IV
Возвращаясь вечером домой, Яшенька был угрюм и сосредоточен. Напрасно Наталья Павловна обращала внимание его на хлеба, дремавшие по сторонам; напрасно, прислушавшись к громкому и порывистому дерганью коростеля, спрашивала: «Никак, это дергач кричит?» Яшенька упорно и как-то озлобленно молчал.
– Да ты не болен ли, друг мой? – решилась наконец спросить Наталья Павловна.
При этом вопросе странная идея внезапно озарила голову Яшеньки. Ему вдруг, неизвестно с чего, представилось, что перед ним сидит женщина, которая называется его матерью, что эта женщина, однако ж, величайшая из эгоисток, заедает его век, не дает ему ни в чем воли и насильственным образом ограничивает его возраст младенчеством. Ему вспомнились все обиды, все огорчения, которые он перенес в течение последних четырех-пяти лет и которые, до настоящего случая, не волновали его, а только механически нарастали в его сердце. Тогда-то маменька отказала ему в заведовании конным двором, тогда-то не пустила гулять в деревню, ссылаясь на сырую погоду, тогда-то не согласилась на его просьбу заколоть на жаркое откормленного индюка под предлогом, что индюк этот откормлен на продажу и жирно будет, если сами будем таких индюков есть… Все эти обиды, соединенные в один длинный ряд, действительно представляли нечто безобразное. «Если б она в самом деле любила меня, – думал он, – то, конечно, не отказала бы мне в таком вздоре, как индюк!» И должно полагать, что много горечи накопилось на дне смиренной души его, потому что он тут же решился слегка протестовать. Но так как он еще был неопытен в этом деле, то протест его, на первый раз, ограничился тем, что он как-то нелепо скривил свой рот и на вопрос матери с насильственным нахальством отвечал:
– Я думаю, что вам все равно, болен ли я или нет… да! именно все равно!
Сказав это, он повернулся на месте и огляделся кругом, как будто хотел сказать: «Посмотрите, messieurs et mesdames, каков я молодец!» Но зрителей, по счастию, не было, а видел это только светлый месяц, да и тому стало как будто вчуже стыдно, потому что он в ту же минуту скрылся за облако.
Наталья Павловна поняла, что тут есть что-то неладное, но затаила про себя свое замечание.
– Ну, как хочешь! – сказала она.
Но по мере того, как экипаж приближался к дому, волнение Яшеньки стихало, а ирония и насильственное нахальство уступали место прежней покорности и смирению, так что когда экипаж остановился у крыльца, то он уже был совершенно тем же кротким и безответным Яшенькой, каким был до отъезда к Табуркиным.
– Позвольте мне, милая маменька, – сказал он, останавливаясь в передней и подходя к руке матери, – позвольте поблагодарить вас за то удовольствие, которым я, по милости вашей, сегодня пользовался.
Наталья Павловна ласково посмотрела на него, потрепала по щеке и, сказавши: «Ах ты, дурушка мой!», с особенною нежностью поцеловала.
Однако закваска была уже положена; и на другой и на третий день Яшенька был задумчив, и хотя не отступал ни на шаг от прежде принятого порядка, но очевидно тяготился им. Перед глазами его все мелькала бархатная поддевка Базиля, а в ушах раздавались слова его: «Это, наконец, ужасно подло всякий раз у маменьки позволения испрашивать».
«Вот кабы у меня такая поддевка была!» – думал он и в одну счастливую минуту, не откладывая дела в долгий ящик, отправился в комнату к матери и сказал ей:
– Я надеюсь, милая маменька, что вам угодно будет приказать портному Семке сшить для меня такую же поддевку, как у Василия Петровича?
Наталья Павловна посмотрела на него с некоторым изумлением, но потом догадалась, что намеднишняя хмелинка еще не вышла у него из головы, и потому не решилась огорчать его прямым отказом.
– Что это тебе вздумалось? – спросила она.
– Я полагаю, милая маменька, что если я буду иметь хорошее платье, то приобрету через это гораздо более значения в светском обществе…
– Ну, как хочешь!.. только такого бархату вряд ли можно будет скоро достать…
– Я надеюсь, милая маменька, что вам не составит большого труда отправить в город… вместе с откормленным на продажу индюком, – прибавил он колко.
Наталья Павловна вздохнула и немедленно распорядилась послать в город за полубархатом, а вместе с тем приказала индюка заколоть и подать на жаркое.
– Ну вот, мой друг! – сказала она, когда за обедом подали на блюде великолепнейшего из индюков, когда-либо оглашавших воздух своим курлыканьем, – вот ты хотел меня давеча обидеть… сознайся же теперь, что ты был несправедлив ко мне!
– Маменька! – отвечал Яшенька, сконфуженный и растроганный, – позвольте мне доложить вам, что вы примернейшая из матерей!
Через неделю портной Семка принес совсем готовую поддевку и примерил ее на барчонке. Оказалось, что поддевка была сшита в самый раз и плотно облегала формы Яшеньки; но за всем тем в ней был один порок, который Яшенька не преминул заметить тотчас же. У Базиля поддевка сзади оттопыривалась и представляла приятную округлость, а у Яшеньки она просто висела.
– Это, брат, нехорошо! – сказал Яшенька, – надо, чтоб она оттопыривалась, как у Василия Петровича.
– А на чем же ей оттопыриваться-то! – отвечал Семка угрюмо, – у табуркинского барчонка склад-от женский, так она и оттопыривается… Да и бархат у него на поддевке… настоящий бархат, а не плис!
– Как плис! что ты врешь! разве это плис?
– Так неужто ж бархат!
Семка презрительно улыбнулся, сказав это. Яшенька покраснел; он уже чувствовал, как вдруг вся кровь закипела в его жилах, он сознавал уже себя способным на всякую дерзость; но покуда он шел в маменькину комнату, волнение его постепенно утихало, и в сердце остался только крошечный осадок горечи, который, впрочем, и отозвался в благодарственной его речи к маменьке.
– Позвольте поблагодарить вас, милая маменька, – сказал он, целуя руку у Натальи Павловны, – за прекрасную плисовую(тут голос его как будто оборвался и задребезжал) поддевку, которою вам угодно было подарить меня… Я употреблю все усилия, чтобы заслужить эту новую ко мне вашу ласку…
И вместе с тем, как бы опасаясь, чтобы язык его не высказал более, нежели сколько следует, он тотчас же по произнесении этой речи повернулся спиной и удалился из комнаты.
Наталья Павловна, с своей стороны, немедленно потребовала к себе Семку.
– Это ты, каналья, разболтал Яшеньке про плис-то! – сказала она ему.
Но Семка забожился.
– Врешь, подлец, врешь! Я знаю, что Яшеньке никогда и в головку бы не пришло, если б не ты!
И хотя Семка продолжал божиться, но не избег своей участи. Наталья Павловна сама пришла объявить об этом Яшеньке.
– Я, душечка, приказала наказать Семку за то, что он вздумал перемутить нас с тобой, – сказала она.
Но Яшенька не отвечал ни слова; когда же Наталья Павловна вышла из комнаты, то он позвал Федьку, вынул из комода пряник и, отдавая его своему камердинеру, сказал: – Отдай ты это Семке! скажи ему, что я очень сожалею, что все это так случилось, а со временем, быть может, вознагражу его…
Этим, может быть, и кончилось бы препинание; но, как на грех, дня через три после этого происшествия приехал в Агамоновку Базиль Табуркин. Базиль приехал в дрожках на лихой тройке, в наборных хомутах, с бубенчиками и колокольцами. Он сам сидел на козлах и правил лошадьми, причем помахивал кнутом, потряхивал вожжами и покачивался из стороны в сторону всем корпусом, как делывали в старые годы молодые рахинские [61]61
Рахино– станция на с. – петербургско-московском шоссе. Ямщики ее славились дерзким образом мыслей и скорой ездою. (Прим. M. E. Салтыкова.)
[Закрыть]ямщики, которым все, бывало, нипочем. Еще издали завидев его экипаж, Яшенька пожелал иметь подобную же тройку, и некоторое время находился в раздумье, в каком костюме принять гостя: в обыкновенном ли казинетовом пальто или же в новой поддевке. Но, по размышлении, решился надеть поддевку, надеясь, что Базиль не различит плиса от бархата.
«Ах, господи! – подумал он, суетливо облачаясь в новый костюм, – какой-то у нас сегодня обед будет!»
И тут же кстати ему припомнилось, что откормленный индюк уже заколот и съеден и что другой подобной птицы в усадьбе не было.
«Вот маменька-то и права выходит! – подумал он, – кабы не был я так жаден, индюк-то пригодился бы теперь!.. О, боже мой!»
Базиль между тем молодцом соскочил с дрожек; он был в щегольской красной рубахе, перевязанной на желудке золотым поясом, и в прежней бархатной своей поддевке. Яшенька бросился навстречу к нему.
– Какова тройка! нет, вы взгляните, какова тройка! – сказал Базиль, поздоровавшись с Яшенькой, – клянусь честью, один коренник тысячу рублей стоит… да еще и не отдам!
Он подвел Яшеньку к кореннику, с любовью потер последнему переносицу, вследствие чего тот кашлянул и чихнул вместе.
– Нет, да вы отгадайте, сколько мы минут к вам ехали? – спросил Базиль.
Яшенька молчал, но не мог воздержаться, чтоб не вздохнуть и не сказать про себя: «Вот это так жизнь!»
– Д-десять минут! – продолжал Базиль с расстановкой, – да по какой дороге!.. – ведь это, стало быть, по три минуты на версту! Вы поймите, что ж бы это было, если б на таких-то кониках, да по саше!
Базиль очень хорошо знал слово «шоссе», но, однажды навсегда почувствовав в себе призвание быть ямщиком, счел долгом усвоить себе и терминологию этого сословия.
– Да, по сашев пять минут бы доехали! – отозвался кучер Алеха, сидевший в пролетке на барском месте.
– Ну, Алеха, ты поезжай на конный двор, и смотри у меня, чтоб лошадям было хорошо! – сказал Базиль, – чтоб овес был «шастанный» * …понимаешь!
Тройка сделала круг по двору, и Базиль все время стоял в каком-то сладком самозабвении, не имея силы оторвать глаза от лошадей и постоянно то прищелкивая языком, то облизывая им губы.
– Милости просим в комнаты! – сказал Яшенька. Тут только Базиль заметил, что на Яшеньке поддевка.
– Ба! да вы тоже сделали себе костюм! – сказал он, – знаете ли, однако ж: я подозреваю, что вы славный малый и из вас выйдет прок!
Яшенька совершенно сконфузился от этой похвалы.
– Маменька меня ужасно как балует, – пролепетал он.
– Только знаете ли что? – продолжал Табуркин, – если вы хотите быть действительно лихим малым, то нельзя ли поменьше упоминать об маменьке… это страшно как отзывается старым архивом!
– Я… помилуйте, Василий Петрович… я очень рад… – отвечал Яшенька смущенный, и вдруг ни с того ни с сего прибавил: – А знаете ли, Василий Петрович, мы с вами сегодня отлично выпьем!
– Браво! вот это прекрасно! если вы будете продолжать вести себя таким образом, то, клянусь честью, вы будете моим другом! Кстати: сестра Мери велела вам кланяться и сказать, что физиономия ваша ей очень понравилась!
Не знаю, что было бы с Яшенькой при таком неожиданном признании, если бы в это время не вошла в комнату Наталья Павловна.
– А я думала, что Прасковья Семеновна сделает мне честь… и вместе с Марьей Петровной! – сказала она несколько сухо, потому что Табуркина приходилась внучатной племянницей статскому советнику Хламидину и на этом основании держала себя относительно соседей довольно строго.
– Maman поручила мне передать вам, многоуважаемая Наталья Павловна, что у нее мигрень… Вы знаете, что она еще в коронацию простудилась, бывши на бале у английского посланника, и с тех пор ужасно страдает.
– Это очень жаль…
– Да, эти дамы… с ними всегда ужаснейшая возня! Вы не поверите, почтеннейшая Наталья Павловна, сколько мне стоит трудов!.. клянусь честью, что зимой, – ведь вам известно, что по зимам мы живем в Москве, – я положительно не знаю, куда деваться от приглашений!
– Это должно быть очень приятно… однако ж, вы меня извините, я должна вас оставить; да вам и свободнее будет с Яшенькой, чем со мною.
Наталья Павловна вышла.
– Пойдемте ко мне в комнату, – сказал Яшенька, – мы с вами там покурим… вы, может быть, думаете, что маменька мне не позволяет курить, так ошибаетесь… маменька у меня прекраснейшая женщина, и я могу курить сколько хочу…
– Пойдемте… но я вас предупреждаю, что могу курить только тютюн…
– Гм… тютюн… так уж я, право, не знаю… Маменьке очень этот запах противен… еще намеднись кучера Митьку высекли за то, что он тютюн курил…
– Ну, в таком случае, мы пойдем в сад, а еще лучше на конюшню!
– Нет, уж лучше в саду… в конюшне еще как-нибудь заронишь, а в саду есть у нас такая беседочка… там мы покурим… и выпьем!
– Ну, и отлично! Я выпить люблю… да нельзя ли пенного? эти виноградные вина, по-моему, только жажду производят… Вы согласны со мной?
Пришли в сад, и Яшенька не утерпел, чтоб не похвастаться перед Базилем и домом и липками.
– Не правда ли, какой у нас отличный дом! – сказал он, – и как хорошо подстрижены липки! о, маменька у меня женщина с отличнейшим вкусом!
– Ну, об маменьке мы поговорим после, а теперь сходите-ка за вином… ах, жаль, что у меня нет с собой гривенника… Вчера последние с Алехой в питейный снес! – а то я непременно дал бы вам медных, и мы в складчину купили себе косушку вина!








