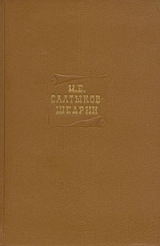
Текст книги "Том 4. Произведения 1857-1865"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
IV
Первые знакомства
Памятуя завет Мурова, Веригин прежде всего отправился с визитом к властям, к которым кстати имел и рекомендательные письма от своего мецената.
– Где я, батюшка, не бывал? с кем хлеба-соли не важивал? – говорил ему Муров, вручая письмо, и при этом, самодовольно обдернувшись, прибавил: – Да, надо много силы, чтоб и за всем тем красоту души соблюсти!
Городничий принял Веригина радушно, а об Мурове отозвался восторженно и даже обозвал его «незабвенным Павлом Иванычем».
– У нас с отъезда Павла Иваныча, – сказал он, – и город как-то упадать стал. Меланхолия какая-то во всем… жизни пролить некому… А начальство между тем спрашивает!..
– Чего ж оно спрашивает?
Городничий возвел глаза к небу и едва не прослезился.
– Всего спрашивает-с, – заговорил он вдруг скороговоркой и с озлоблением, – общественных увеселений спрашивает-с, тротуаров и мостовых спрашивает-с, пожертвований на общественное устройство спрашивает-с… всего спрашиваете!
– Однако я слышал от Павла Иваныча, что у вас здесь значительные капиталисты есть?
– Д-да-с, есть-с… только все это… Эй, Сидоров! Сидоров! – вдруг закричал он, приходя в волнение, – загоняй ее! загоняй! Вот-с, не могу даже внушить скотам, чтоб не пускали своих коров бродить по улицам! – прибавил он, обращаясь к Веригину и презрительно улыбаясь, – а капиталистам как здесь не быть-с!
Прощаясь, городничий опять назвал Павла Иваныча незабвенным, а нынешнего откупщика свиньею, и обещал Веригину познакомить его с дочерью и женою.
– Если вы нуждаетесь в каких-нибудь сведениях, – сказал он, – то я для Павла Иваныча готов-с… Я для губернатора всякий год статистику эту составляю.
От городничего Веригин ездил к дворянскому предводителю, к стряпчему, к исправнику и к окружному начальнику и везде был принят как родной. Все они были как будто отлиты в одну форму; все называли Павла Иваныча незабвенным и находили, что после отъезда его в городе поселилась меланхолия. Предводитель дворянства принял Веригина в бархатном халате и с благоговением, хотя и не без робости, отозвался о тверском благородном дворянстве (увы! это было в ту пору, когда и т. д.). * Окружной начальник выразился очень лестно насчет системы самоуправления и стороною дал понять, что в ведомстве государственных имуществ «все это» давно есть и уже приносит желанные плоды; стряпчий сказал, что у него четыре сына и восемь дочерей, а жалованьишко маленькое; наконец, исправник был так любезен, что пригласил Веригина когда-нибудь прокатиться с ним по его владениям (так называл он уезд города Срывного).
Толкнулся герой наш и к учителям, но они точно в землю ушли: так долго не мог он сыскать квартир их. В Срывном было уездное училище, в котором под командою штатного смотрителя состояло трое учителей. Двое из них жили чуть не в подземельях и приняли Веригина грубо, словно говорили: ну, кого еще занесла нелегкая! Оказалось, что оба пили запоем и с учениками обращались варварски. Третьим учителем, преподававшим историю и географию, оказался тот самый Суковатов, о котором говорил Веригину Крестников. Это был молодой человек, недавно кончивший курс в гимназии, и содержавший своим трудом семейство, состоявшее из матери и сестры. Жил он в собственном маленьком домике, на самом выезде из города, жил бедно, хотя имел богатых родственников, которые, однако ж, относились к нему недружелюбно вследствие особых причин, о которых будет объяснено ниже. Был уже час седьмой в исходе, когда Веригин в первый раз пришел к Суковатову. Ему было несколько совестно прийти в такой неурочный час, но, зная, что Суковатов каждый день утром, кроме воскресенья, занят в училище, и вооружась именем Крестникова, он решился постучаться в калитку.
– Кто там? – спросил из-за калитки женский голос.
– Здесь живет господин Суковатов?
– Братец! вас спрашивают! – сказала женщина и удалилась. Через минуту калитку отпер сам Суковатов.
– Вам меня угодно? – спросил он, как будто сконфуженный.
– Извините меня, – начал Веригин, – быть может, я пришел не вовремя… Моя фамилия Веригин; я бывший студент Петербургского университета, и по делам нахожусь в Срывном…
Сквозь растворенную калитку Веригин увидел на крылечке дома две женские фигуры, которые с любопытством осмотрели его и тотчас же скрылись.
– Милости просим; очень рад! – промолвил Суковатов и как-то еще больше сконфузился, пропуская гостя вперед себя.
Веригин вошел в просторную комнату, надвое разделенную перегородкой. В первом ее отделении, которое, по всем признакам, служило и приемной и кабинетом Суковатова, сидела у окна старушка, повязанная платком, и вязала чулок; из другого отделения слышалось сдержанное шушуканье. В комнате было очень опрятно; деревянные стены были тщательно выскоблены, пол устлан белым холстом, на окнах стояли горшки с незатейливыми цветами. Вообще, все свидетельствовало о заботливой женской руке, которая всему, даже бедности, умеет придать приветливый и благообразный вид.
– Маменька! гость! – сказал Суковатов старушке, которая встала и низко поклонилась Веригину.
– Имею к вам поручение от одного вашего родственника, от Нила Петровича Крестникова, – сказал Веригин, – он в Петербурге, просил меня кланяться вам и обнадежил, что я могу к вам обращаться, если встретится надобность по моему делу.
При имени Крестникова лица Суковатова и матери его словно расцвели. В соседней комнате шушуканье смолкло.
– Так вы знаете Крестникова? – сказал Суковатов и вновь инстинктивно протянул руку Веригину, – а ведь мы когда-то друзьями были, росли вместе… ах, расскажите, сделайте милость, что с ним, где он… насилу-то! насилу-то!
Веригин начал рассказывать о стесненном положении, в котором находился Крестников по случаю ссоры с отцом, об образе жизни, который он вел, словом, обо всем, что он знал и что считал возможным на первый раз высказать. Веригин говорил с увлечением; из слов его было ясно, что хотя Крестников и находился временно в незавидном положении, но что и за всем тем в его личности заключалось нечто такое, что не позволяло относиться к нему, как к рядовому человеку, находящемуся в тисках. Старушка прекратила свое вязание и изредка прерывала рассказ Веригина восклицаниями, в которых высказывалось ее соболезнование о судьбе Нилушки.
– Ведь теперь Петр Никитич-то, пожалуй, и капитал свой весь в чужие руки передаст! – сказала она, – уж это верно, что передаст!
– Да, видно, ему такая судьба! Отец у него человек непреклонный, и хотя Нил также не отличается мягкостью нрава, но здесь спор едва ли будет возможен, – заметил Суковатов.
– Да он и не желает вступать в спор.
– Да; если это возможно, это хорошо. Только вот что я вам скажу: вряд ли можно так расположить свою жизнь, чтоб не нуждаться в тех… одним словом, чтоб поставить себя в независимое положение от обстоятельств.
Суковатов потупился и как-то сдержанно вздохнул.
– Впрочем, Нил все-таки благую часть избрал! – прибавил он шепотом, как бы рассуждая с самим собой, – да он и вынесет!
– Да, таки весь в батюшку нравом пошел, да и родня-то у них вся такая, – сказала старуха мать.
– Отец его не простит – это верно, и тем больше не простит, чем больше возлагал на него надежд. Отец-то его, знаете, сам под ферулой у своего родителя до тридцати лет состоял, так школу-то эту изучил в подробности. Однако, скажите, пожалуйста, Нил не говорил ли вам об ком-нибудь из родственников?
– Он называл мне еще дом Клочьевых; к одному Клочьеву я даже имею письмо от Мурова.
– Да-с, это, вероятно, к Михею Иванычу; как же-с, знаем-с. Тоже своего рода Катон, из тех, которые с таким успехом процветают и благоденствуют на отечественной почве. Экземпляры приятные! И в особенности тем приятные, что совсем уж просты и незатейливы: никаких этих ухищрений или утонченностей, гнут себе в бараний рог – да и все тут. И если вы знаете одного, то будьте уверены, что знаете всех. Вот, даст бог, познакомитесь, так увидите одного из тех благолепных российских старцев, которые смотрят так почтенно, беседуют так рассудливо и которые, в сущности, заедают все, что поближе к ним прикасается.
– Что ты, что ты, Николаша! Хоть бы Катерины Михевны посовестился: ведь она, чай, здесь! – промолвила старуха мать.
В дверях из-за перегородки показалась девушка, одетая в черную ферязь * и накрытая черным же платком с белыми каймами. Это была высокая и полная девушка, по-видимому лет двадцати пяти, и хотя лицо ее уже утратило свежие юношеские тоны, но все-таки оно было чрезвычайно привлекательно. Черты ее были строги и правильны, а матовая бледность, темные волосы и большие серые глаза, которые она, впрочем, почти всегда держала опущенными вниз, придавали им характер почти суровый, что как-то странно противоречило тихой улыбке, которая постоянно играла на ее губах. Подобную, постоянно ласкающую улыбку можно встречать только в монастырях; она наигрывается годами и долговременною привычкою, долговременным принуждением. То же можно сказать и о походке девушки; то была плавная, неслышная, но вместе с тем несколько торопливая походка, которая в таком обычае между монахинями. Вообще, впечатление, производимое девушкой, было не совсем определенное. Виделось, что это натура крепкая и энергическая, но вместе с тем виделось также нечто обрядное, подавленное жизнью.
– Уж вы меня не обессудьте, сударь, что обеспокоила вас, – сказала она, обращаясь к Веригину (голос у нее был звучный и мягкий, словно бархатный), – я вот дослышала, что вы братца Нила Петровича знаете?
– Да-с, я хоть недавно с ним познакомился, но глубоко его уважаю, – отвечал несколько книжно Веригин, которого присутствие молодой и красивой женщины привело в заметное смущение.
– Позвольте, однако, вас познакомить, – вступился Суковатое, – Катерина Михевна Клочьева, к отцу которой вы имеете письмо. Катя! – прибавил он, обращаясь к ней, – вы уж не сердитесь, голубушка, что я давеча так об родителе-то вашем…
Катерина Михеевна улыбнулась ему.
– Так вы и к родителю нашему писемце имеете? – сказала она Веригину, – да ведь их дома нет, и воротятся-то не ближе как дня через четыре. Не от Нила ли Петровича весточка-то? как-то он, наш голубчик, в дальней стороне живет? Чай, стосковался по родным-то?
– Нет, письмо я имею от Павла Иваныча Мурова; что же касается до Крестникова, то действительно жизнь его невеселая… Впрочем, он, кажется, не скучает.
– Ну, как, чай, не скучать? – какая ни на есть, а все родная сторонушка!
– А я думал, Катя, что вы скажете: какие ни на есть, а все родители!
– Ну да и родители тоже!
– Вот мы с Катериной Михевной все спорим, – весело сказал Суковатое, – я говорю, что первый долг детей заключается в том, чтобы почитать родителей, а она говорит, что родители сами по себе, а дети – сами по себе!
– Вы ему, сударь, не верьте; он ведь у нас балагур!
– Не люблю я, Николаша, как ты этак шутишь! – серьезно вступилась мать.
– Вот кабы Нил был здесь, он бы так не оставил вас. Катя! он бы весь этот домострой ваш… Эх! да уж что тут! давайте-ка лучше чай пить! Федор Семеныч, ведь вы не прочь от чашки чаю?
– Сделайте одолжение.
– Так уж и вы, Катенька, на сей раз не откажитесь иметь с нами в питии общение. Да кстати и чаем распорядитесь как следует, а то сестру, я вижу, оттуда силой сегодня не выманишь. Или вам поздно?
– Ах, уж и то я только на полчасика к вам укралась…
– Ну ничего; скажите, что у келейниц от божественного поучались. Вот я вас, Федор Семеныч, когда-нибудь с этими пройдами познакомлю… да-с, поживите, поживите с нами, посмотрите на Русь православную! хороша она, матушка, только подчас нутро от нее наизнанку выворачивает!
– Будто уж и выворачивает?
– Увидите. На первый раз вот вам факт! Город наш между уездными царьком смотрит, в нем больше десяти тысяч жителей, множество кожевенных и чугунолитейных заводов, выделывающих, между нами будь сказано, краденые кожи и выливающих изделия из темного (ворованного с казенных заводов) чугуна; одних купеческих капиталов считается около двухсот… ну-с, и как вы думаете, сколько учеников этот город поставляет в уездное училище? Тридцать-с!!
– Да ведь, может быть, на это свои причины есть?
– Как не быть; разумеется, что на всякую штуку своя законная причина найдется. Только, я вам скажу, как всмотришься поближе в эти причины, да станешь с ними с глазу на глаз, так хоть бы какова ни была пьяна голова, а и та сразу отрезвится!
– Ишь как его обидели! – отозвалась из-за перегородки Катерина Михеевна.
– А мне так кажется, что вы несколько пристрастны, и именно потому пристрастны, что это дело чересчур близко вас касается. Вы даже вряд ли можете тут быть судьею, потому что слишком резко вас оскорбляют внешние стороны жизни, чтобы не застилать той внутренней, родниковой работы, которая за ними трепещет и бьется. Крестников, по крайней мере, совсем не такого мнения об этом вопросе, да оно и должно быть так, потому что если верить вам, то пришлось бы сразу отчаяться, да и сесть склавши руки. А это вещь положительно невозможная. Впрочем, об этом мы поговорим с вами на досуге, когда сойдемся поближе (а я уверен, что вы не оттолкнете меня), а теперь не поможете ли мне как-нибудь здесь устроиться? Предупреждаю вас, что мне придется пробыть в вашем городе более полугода, что средства мои весьма ограниченные, что мне вряд ли подолгу придется заживаться на месте и что, разумеется, самый лучший способ устройства для меня был бы тот, если б вы нашли удобным приютить меня как-нибудь в своем семействе.
– Не знаю, что вам сказать на это. Место для вас, пожалуй, и найдется, да, во-первых, мы люди не богатые, и щи-то с мясом не каждый день едим…
– Я вас прошу не считать этого препятствием…
– А во-вторых, вряд ли для вас полезны будут такие близкие сношения с нами. Ведь вы приехали сюда дело делать, следовательно, вам надо стараться сойтись и с местными властями, и с значительнейшими обывателями. Все сведения, которых вы ищете, добываются под условием частых свиданий и взаимного хлебосольства, между множеством сплетен и праздной болтовни, а сюда к вам никто не заглянет, потому что мы живем-то на краю города, да и никто нас не знает.
– Все это, быть может, отчасти и справедливо; но как бы ни велики были выставляемые вами неудобства, они легко исправимы и совершенно исчезают перед одним весьма важным удобством, которое я приобрету, поселившись у вас: здесь меня не будут преследовать непрошеные знакомства, здесь могу я быть спокоен, что за мной не будут подсматривать. Итак, по рукам? завтра я переезжаю к вам?
– Да где же мы поместим-то их, Николаша? – вступилась мать.
– А наверху, в светелке, а сам я переберусь сюда. Там у меня летняя моя резиденция, – прибавил Суковатое, обращаясь к Веригину, – ну, да я как-нибудь и потесниться могу, а вы будете иметь маленький особнячок.
– Само собой разумеется, что вы назначите плату за квартиру и за стол?
– Ну, конечно; мы люди бедные. Вот у нас и повеселее, матушка, будет.
– Дай-то бог! дай-то бог! Скучненько мы, сударь, здесь живем; ни-то к нам кто, ни-то мы к кому. Я-то смолоду, признаться, веселенько жила – ну, на них смотреть-то словно и жалко.
– А вы, Катя, будете ходить к нам? в горелки бегать станем?
– Уж куда мне в этакой-то одеже в горелки бегать, хоть бы так-то побеседовать!
Катерина Михеевна присела к столу и словно задумалась.
– А что, Катенька, воображаю я себе, вы теперь думаете: только вот здесь и отведешь душеньку мало-мало! – поддразнил ее Суковатов, – ведь правда?
– Да что ты к ней пристал, Николаша?
– Ну, пущай его, не трог, побалагурит! житье-то наше с ним не вот какое сладкое! – отозвалась девушка и глянула на Суковатова тем милым, ласкающим взглядом, каким смотрит мать на баловливое, но милое дитя.
Суковатов, с своей стороны, посмотрел на нее, и Веригину показалось, что в его взоре блеснуло что-то похожее на страсть.
Катерина Михеевна мгновенно опустила глаза.
– Не пора ли домой, Катя? – спросил он потихоньку.
– Да, надо, – отвечала она и снова задумалась.
Все смолкли; уже наступили сумерки, и в полумраке бледное лицо девушки казалось еще бледнее; прекрасное и строгое, оно выступало словно изваянное из мрамора.
– Господи! – потихоньку вздохнул кто-то, и Веригину показалось, что вздох этот вылетел из груди Кати.
Вслед за тем она быстро поднялась с своего места, простилась и ушла. Скоро по уходе ее и старуха Суковатова скрылась за перегородку.
– Пойдемте-ка ко мне наверх, если вам не надоело со мной сидеть, – сказал Суковатов, – кстати и на будущее ваше помещение посмотрите.
Наверху оказалась комната очень маленькая, но чистенькая, как и весь дом вообще: мебель состояла из большого некрашеного стола, на котором лежало несколько разрозненных номеров русских журналов и который служил для Суковатова вместо письменного стола, из двух-трех стульев и довольно жесткого дивана.
– Скажите, пожалуйста, с кем же вы здесь знакомы? – спросил Веригин.
– Да с кем? ни с кем! сижу постоянно дома, вот точно так. как вы сегодня застали.
– Однако неужели здесь молодых людей нет?
– Кому быть? Молодежь из купцов и мещан больше при своем деле находится, а если и улучает свободное время, то проводит его между собой. Не очень-то они с нами сближаются, да, по правде сказать, и интересов таких нет, на которых бы нам сойтись можно.
– Стало быть, житье ваше скучное?
Хотя вопрос этот не заключал в себе ничего особенного, но, вероятно, в тоне, которым он был произнесен, было нечто такое, что заставило Суковатова смутиться.
– Да… конечно, веселого мало, – отвечал он, краснея, – книг нет, говорить не с кем, да и не об чем…
– Это правда, что недостаток в книгах очень чувствительный недостаток, однако если он уже существует и если не от нас зависит устранить его, то ведь и помимо книг есть возможность найти исход для деятельности. Мне кажется, что если вы не бессознательно сейчас выразились, что нет у вас общих интересов с той массой молодых людей, которые вас окружают, то это положительно обвиняет именно вас, а не их. Согласитесь, во-первых, что то, что вы разумеете под словом «интерес», заключает в себе понятие о чем-то весьма неопределенном и смутном…
– Я согласен, что воспитание мое было очень поверхностное…
– Речь покамест не об воспитании, а о том, чтобы создать себе действительный интерес в жизни. Этим интересом вы не обладаете вовсе, хотя, быть может, и имеете смутное предчувствие его, между тем массы, которыми вы пренебрегаете, хотя и не находятся в самом центре его, но, во всяком случае, уже обладают первоначальными его элементами. Они работают работу будничную, но настоящую; они не проводят в своей деятельности тех высших законов, которыми должно управляться идеальное общество, они даже похваляются тем, что не порываются куда-нибудь вдаль, а жмутся крепче и крепче к земле, но сама практика, которую они исключительно имеют в виду, так жестока, что на каждом шагу отрезвляет самых неистовых своих поклонников. Несмотря на то что они строго идут торными путями и что в действиях их нет ни малейшего уклонения от того, что называется законностью, они чувствуют, однако ж, что и им живется плохо, что и ими управляет как будто нечто слепое, случайное. То фабрики вдруг стали, то торгуется плохо, то внезапная и неслыханная дороговизна на предметы самой первой необходимости, то вдруг таинственное исчезновение звонкой монеты * . Конечно, никто как бог, однако, как ни привыкли мы всё сваливать на провидение, но иногда поневоле задумаешься. Как хотите, а подобные интересы совсем не маленькие, и что от них можно незаметным образом подойти к интересам самым высшим и мировым. И если вы примете при этом в соображение, что это интересы признанные (кому, например, придет в голову отрицать, в принципе, право собственности?) и что большинство на каждом шагу оскорбляется именно в том, что оно считает своим законным и кровным делом, то легко поймете, что и для проведения других интересов (высших и покуда еще непризнанных) можно легко отыскать почву законную.
– Так; но ведь опять-таки я должен вам повторить, что мое-то собственное образование слишком недостаточно, что мне не с чем идти навстречу невежеству, что я сам невежда…
– Позвольте вас остановить. Конечно, все это печально, а еще печальнее то, что вы фаталистически поставлены в такое положение, которое отнимает у вас шансы на дальнейшее образование, но разве из этого следует, чтобы двери жизни были закрыты для вас? Нет, из этого вытекает только одно практическое следствие, а именно то политическое правило, которое формулируется словами: делай, что можешь.Позвольте вас спросить, во-первых, может ли кто даже из величайших современных представителей науки сказать, что обладает последним словом цивилизации? Конечно, никто; но если никто, то, стало быть, по-вашему, никто же не может считать себя вправе применять добытые им знания потому только, что знания эти могут быть опрокинуты дальнейшими успехами науки; стало быть, все должны сидеть сложа руки или уподобиться тем мертворожденным балетмейстерам, которые, в стенах университетских, возделывают науку для науки. Но это нелепость очевидная, потому что массы имеют равные с нами права на науку, на ту несовершеннуюнауку, которою обладаем мы сами. Теперь применим всё это лично к вам. Разве масса, которая вас окружает, стоит выше вас в смысле умственного развития? Ни отнюдь; предположим даже, что знания ваши и массы равно ничтожны, но вы уже имеете то преимущество, что свободны от большинства предрассудков, тяготеющих над массой, что вы уже имеете некоторое сознание об общем законе, о методе. Между тем и масса, несмотря на невежество и предрассудки, все-таки нечто провидит и предугадывает, – для чего же вы добровольно устраняете себя из этой робкой работы провидения? Из опасения ли ошибок? Но ведь это или чересчур высокомерно, или, извините меня, глупо! Так вот, видите ли, как поразмыслишь, так и оказывается, что как ни прискорбен недостаток образования, а в деле расширения путей, которыми достигается пользование общечеловеческими нравами, он уже уходит на второй план. А впрочем, до свидания! – прибавил Веригин, вставая, – уж поздно, а мы с вами и завтра и послезавтра можем наговориться всласть.
– Нет, посидите! посидите еще немного! – просил Суковатов, удерживая гостя.
Веригин сел; в комнате уже было почти темно, но Суковатову и на мысль не приходило добыть огня. По-видимому, слова Веригина возбудили в душе его целый новый мир, который хотя и встретил его неприготовленным, но не на шутку расшевелил все фибры его существа. Новые знакомцы несколько времени молчали.
– А знаете ли, – сказал наконец Суковатов, – ваш приезд подействовал на меня болезненно. И сами вы, и воспоминание о Крестникове, все это пахнуло на меня не то чтобы чем-нибудь забытым, – мое прошлое не таково, чтобы там было что забыть или о чем вспомнить, – а какою-то возможностью, чем-то таким, что проносится иногда над душою, проносится смутно и безразлично, словно радужный какой-то мир… Не правда ли, ведь случалось и вам когда-нибудь испытывать это сладкое, почти томительное ощущение?
– Ну да, конечно; однако ж, если вникнуть…
– Нет, позвольте. Покуда я еще не хочу вникать. Я хочу только сказать, что впечатление от этих минут бывает какое-то странное. И хорошо на душе – не то чтоб весело, а как-то сладко, и в то же время все язвы сердца как-то больнее сказываются, и грудь словно пухнет от слез, и встают откуда-то все эти горести, не то чтобы горести действительно выстраданные и на время забытые… нет! а какие-то новые, никогда не изведанные, но в то же время как будто вместе с тобой родившиеся и почему-то не выступавшие наружу. Но, быть может, вам кажется, что я говорю галиматью?
– Совсем нет; я очень просто понимаю это состояние и объясняю его себе возвратом к сознанию той человеческой сущности, которая закладывается в нас самою природой и, по временам, прорывается наружу, несмотря на нашу забитость.
– Да, именно начинаешь сознавать себя человеком, и вдруг как-то ясно и светло выступят все эти возможности, почему-то сделавшиеся невозможностями, почувствуется какое-то право, пригрезится нечто утраченное, погибшее… и так не хочется, так не хочется опять возвращаться к действительности!
Веригин хотел что-то возразить, но Суковатов остановил его жестом.
– Позвольте мне досказать. Вот и теперь, например: приехали вы, принесли с собой весть об Крестникове – и вдруг передо мной нарисовалась какая-то даль, в которой все не так, как вокруг меня, в которой есть своего рода толчки и неровности, но все это исчезает в одном чувстве свободы и независимости. Знаете ли, до какой степени болезненным может сделаться это чутье чего-то другого, неизведанного, что даже на всякого проезжего смотришь с завистью, точно вот тройка так сейчас и умчит его в какое-то царство света… Скажите, ведь вы не совсем как на сумасшедшего смотрите на меня?
– Нет, повторяю вам, что я совершенно понимаю это чувство, и даже думаю, что его следует воспитывать в себе, потому что оно одно может поддержать в человеке ту бодрость и энергию, которые нужны в жизни и которые так легко забиваются обстоятельствами. Но, по мнению моему, в том, что вы высказали, есть большая ошибка…
– А именно?
– Повторяю: ошибка эта заключается именно в той гадливости к действительности, или, лучше сказать, не в гадливости, а скорее в боязни ее, которую вы на себя напускаете. Я согласен с вами, что чем шире будут ваши требования к действительности, чем раздражительнее будете вы относиться к ней, тем лучше; но ведь не все же сказано этою раздражительностью, здесь не конец делу. И вот если вы раз навсегда скажете себе это, если проникнетесь убеждением, что недовольство ваше должно же куда-нибудь примкнуть, то в то же время убедитесь и в том, что ни бояться действительности, ни очень-то презирать ее невозможно, потому что она все-таки заключает в себе тот операционный базис, который нужен, чтоб дать вашей деятельности не мнимый исход.
– Так; но разве у нас есть деятельность не мнимая?
– А вы думаете, что настоящая деятельность возможна только для городничих и исправников?
– Да почти что так.
Веригин посмотрел на Суковатова с некоторым недоумением; ответ этот, после происходившего разговора, показался ему не только странным, но почти нелепым. Между тем дело было очень простое: Суковатов, как это почти всегда случается с людьми, вступающими в непривычный им серьезный разговор, схватывал в словах своего собеседника почти одни звуки, почему-то особенно ласкавшие его слух, и очень мало усваивал его мысль в ее общем значении.
– Ошибаетесь, – сказал наконец Веригин, – есть деятельность для всех. Всякий, кто ищет чего бы то ни было, всякий, кто не удовлетворяется жизнью, в которую втиснула его судьба, пусть добивается, пусть просекает себе дорогу.
Веригин сказал это так серьезно, что Суковатов взглянул на него вопросительно, и ему сделалось даже несколько жутко.








