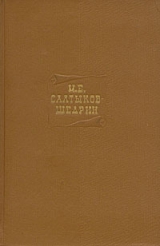
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 57 страниц)
– Я, милая маменька…
Но Марья Петровна уже вскочила и выбежала из комнаты. Сенечка побрел к себе, уныло размышляя по дороге, за что его наказал бог, что он ни под каким видом на маменьку потрафить не может. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала девку Палашку спросить «у этого, прости господи, черта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семен Иваныч в баньку желают сходить.
– На-тко! – сказала Марья Петровна и показала при этом Палашке указательный палец правой руки, – на дворе сенокос, люди в поле, а он в баньку выдумал! Поди доложи, что некому сегодня топить.
Однако через несколько минут Марья Петровна опять обдумалась, велела затопить баню и послала за Сенечкой.
– Ну, ступай в баню, мой друг, – сказала она кротко.
– Но если это затрудняет вас в ваших распоряжениях, милый друг, маменька…
– Ступай в баню, мой друг, – опять повторила Марья Петровна и, чтоб не увлекаться, занялась раскладыванием гранпасьянса.
– Если все люди в поле, дорогая маменька…
Марья Петровна не отвечала, но, судорожно повертываясь на стуле, думала: «Неужели я такого дурака родила?»
– Я не знаю, милая маменька, что я такое сделал, чем я мог вас огорчить?
Молчание.
– Я благонравием своим заслужил любовь всех моих начальников, ныне назначен уже вице-директором и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена…
То же молчание, нарушаемое только шлепаньем карт.
– Во всех семействах первородные сыновья…
– Уйдешь ли ты в баню, мерзавец! – крикнула наконец Марья Петровна, но таким голосом, что Сенечке стало страшно.
И долго потом волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чем-то сама с собой, и все повторяла: «Лишу! ну, как бог свят, лишу я этого подлеца наследства! и перед богом не отвечу!» С своей стороны, Сенечка хоть и пошел в баню, но не столько мылся в ней, сколько размышлял: «Господи, да отчего же я всем угодил, всем заслужил, только маменьке Марье Петровне ничем угодить и заслужить не могу!»
Второй сын Марьи Петровны, Митенька, дипломат. Он воспитывался в лицее, прекрасно владеет французским диалектом, смотрит урожденным камер-юнкером и отлично танцует. Лицо его выразительно и напоминает скорее прекрасный, худощавый итальянский тип, нежели наш мясистый русский. Поговаривают, будто он пользуется значительными успехами у дам; тем не менее он ведет себя очень осторожно, историй, которые могли бы его скомпрометировать, никогда не имел и, как видно, предпочитает обделывать свои дела полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающий, что счастье человеческое заключается в скромности, терпении и небрезгливости, и вследствие того всегда предпочитающий даму опытную, знакомую с жизненной дипломатией, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но в то же время неосновательной бабенке. Носились слухи, что он сумел сыскать в какой-то княгине, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своей красотой; говорили, что он не только пользуется ее благосклонностью, но не пренебрегает и другими, более вещественными выгодами. Как бы то ни было, но квартира его была действительно отделана как игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей расчетливости, не слишком-то щедро давала детям денег на прожитие; сверх того, княгиня почти публично называла его сынком, давала ему целовать свои ручки и без устали напоминала Митенькиным начальникам, что это перл современных молодых людей. Мне, как автору, кроме того, известно, что однажды княгиня, в порыве чувствительности, даже написала к Марье Петровне письмо, в котором называла ее доброю maman и просила благословения. Это был единственный случай, когда Митенька вышел из своего обычного хладнокровия и чуть было не поссорился с своей покровительницей. В первом увлечении гнева, он нашел, что поступок этот чересчур уж нелеп, que ça n’a l’air de rien [91]91
что это ни на что не похоже.
[Закрыть], что это страм; однако ж, по зрелом размышлении, успокоился и даже рассудил, что нелепая сантиментальность княгини может возвысить его в мамашиных глазах и вместо вреда принести пользу. И действительно, почти вслед за тем он получил от мамаши письмо, полное самых шутливых намеков, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось поручением поцеловать милую княгиню и передать ей, что ее материнское сердце отныне будет видеть в ней самую близкую, нежно любимую дочь. Разумеется, Митенька поручения этого не исполнил.
В своем обществе Митенька называл Марью Петровну та bonne pâte de mère [92]92
моя добрейшая матушка.
[Закрыть]и очень трогательно рассказывал, как она там хозяйничает в деревне, чтоб прилично содержать своих детей. К Сенечке он относился дружелюбно, но виделся с ним редко и в отношения его к матери не входил, ибо считал, что это не его дело. Он знал, что Сенечка не потеряется и в конце концов все-таки женится на купчихе, которая соблазнится его генеральством. Феденьку, младшего брата, он в душе презирал, и даже боялся, что он когда-нибудь непременно или казенные деньги украдет, или под суд попадет, или получит неприятность по лицу. Тем не менее это опасение, быть может, было причиной, что он поддерживал с Феденькой сношения даже более деятельные, нежели с Сенечкой: он надеялся, что если и возникнет какая-нибудь неприятность, то можно будет своевременно принятыми мерами предотвратить ее. Повторяю: это был малый очень глубокомысленный, принявший свое положение в том виде, в каком оно действительно представлялось, и употреблявший все свои усилия на то, чтобы вывернуться из него как можно приличнее. Если б можно было упечь Феденьку куда-нибудь подальше, но так, чтобы это было прилично (ему часто даже во сне виделось, что Феденька оказался преступником и что его ссылают в Сибирь), то он бы ни на минуту не усумнился оказать в этом деле все свое содействие.
С своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одном его имени она чувствовала какой-то панический страх, точно вот он сейчас возьмет да и проглотит ее. Митенька дома держал себя таинственно строго, с матерью никогда не ссорился, но и в откровенности не пускался. В сущности, он и Сенечка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основ, то же отсутствие всякой живой мысли, но, вследствие особенностей характера и жизненной выдержки, то, что в Сенечке сказывалось прямою, неподкрашенною нелепостью, в Митеньке являлось твердостью характера, переходившею в холодную и расчетливую злость. Оба они говорили и делали одни и те же пошлости, но проводили эти пошлости в жизнь совершенно различными путями. Сенечка суетился и сантиментальничал; он не смотрел на себя как на государственного человека, но, надеясь на милость начальства, был предан и выигрывал единственно усердием и ничтожеством; взирая на него, как он хлопочет и надрывается, усматривая на каждом шагу несомненные доказательства его почтительности, начальство говорило: «О! это молодой человек верный! этот не выдаст!» Напротив того, Митенька был неприступен и непроницаем; он хранил свою пошлость про себя и совершенно искренно верил, что в ней заключаются истинные задатки будущего государственного человека; он не хлопотал, не суетился, но делал свои маленькие нелепости серьезно и методически и поражал при этом благородством манер. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпийского спокойствия, начальство говорило: «Да! это молодой человек положительный! этот не выдаст!» Результаты в обоих случаях выходили одинаковые, и действительно, Митенька шел вперед столь же быстрыми шагами, как и Сенечка, с тою только разницей, что Сенечка мог надеяться всплыть наверх в таком случае, когда будет запрос на пошлецов восторженных, а Митенька в таком, когда будет запрос на пошлецов непромокаемых. Марья Петровна радовалась успехам Митеньки, во-первых, потому, что это не позволяло Сенечке говорить: «Все у вас дети пастухи – я один генерал!», и, во-вторых, потому, что Митенька один умел сдерживать Феденьку, эту скорбь и вместе с тем радость и чаянье ее материнского сердца.
И действительно, Феденька представлял собой совершеннейший тип не только пустейшего малого, но и положительного ерыги. «Все-то у него удовольствия какие-то неблагородные! всё-то у него либо подол поднять, либо рожу раскровенить!» – часто думала втихомолку Марья Петровна про Феденьку, и болело же, ох, болело! ее материнское сердце! И припоминала ей беспощадная память все оскорбления, на которые был так щедр ее любимчик; подсказывала она ей, как он однажды, пьяный, ворвался к ней в комнату и, ставши перед ней с кулаками, заревел: «Сейчас послать в город за шампанским, не то весь дом своими руками передушу!» – «И передушил бы!» – невольно повторяет Марья Петровна при этом воспоминании. Подсказывала ей память, как он в другой раз преданную ей ключницу Степаниду сбирался за что-то повесить, как он даже вбил гвоздь в стену, приготовил веревку и наконец заставил Степаниду стать на колени и молиться богу. Подсказывала ей память, какой однажды батюшке потихоньку косу обстриг и как батюшка был от того в великом смущении и хотел даже доходить до епархиального начальства… Вообще, каждый приезд Феденьки в родительский дом равнялся неприятельскому погрому, после которого обыватели долго не могли прийти в себя. Во-первых, всех горничных непременно перепортит, и не то чтоб лаской или резонным усовещиваньем, а всё арапником да нагайкой; во-вторых, божьего дара не столько припьет-приест, сколько озорством разбросает; в третьих, изо всего дома словно конюшню сделает. «Другая бы мать давно этакого молодца в Суздаль-монастырь упекла * !» – рассуждает сама с собой Марья Петровна, совершенно убежденная, что есть на свете какой-то Суздаль-монастырь, в который чадолюбивые родители имеют право во всякое время упекать не нравящихся им детей. Никто в доме не любил Феденьку; всех-то он или побил, или оборвал; только горничные девки оказывали какое-то трепетное малодушие при одном его взгляде, несмотря на жестокое его обращение.
Тем не менее сердце Марьи Петровны ни к кому из детей так не лежало, как к Феденьке. Быть может, ей именно то в нем и нравилось, что он таким коршуном налетал; «разбойник!» – громко говорил ее рассудок; «молодец!» – подсказывали внутренности, и, как и водится, последние всегда одерживали победу в этой неравной борьбе. Будучи сама характера решительного и смелого, она, весьма естественно, симпатизировала Феденьке, который ни перед чем не задумывался, ничем не затруднялся. Никогда не имев случая испытать над собой гнет чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелевая, она исполнялась каким-то наивным удивлением перед Феденькой, который сразу подчинял ее себе. Это был совсем не страх, вроде того, который внушал ей Митенька, это именно было удивление. Митеньку она боялась, потому что знала, что уж если этот человек чего захочет, то не станет много разговаривать, не станет горячиться, а просто ехиднейшим образом подкопается подо все существование и изведет, измучит вконец, покуда не поставит на своем. Напротив того, Феденька, как буян по натуре, действовал убеждением, так сказать, механическим: вспылит, подымет дым коромыслом, порой чуть-чуть не убьет, но через десять минут опять успокоится, и опять пошел шутки шутить.
Ко всему этому, Феденька был и по наружности молодец молодцом. Высокий, плечистый, искрасна-белокурый, он олицетворял собой тип чисто русский, мясистый тип, от которого млеют и ноют неиспорченные сердца русских помещиц и их горничных. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: «Господи! да как же и противиться-то этакому молодцу!», и в этом, быть может, была вторая причина ее предпочтения младшему сыну. Когда же, бывало, натянет он на себя свой кавалерийский мундир, а на голову наденет медную, как жар горящую, каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине да войдет этаким чудаком в мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтоб не упасть в обморок от полноты чувств.
– Эк! уж и расползлись! – скажет, бывало, Феденька и дико-торжественно загогочет.
– Да помилуй, мой друг! – вымолвит только Марья Петровна и долго смотрит на своего идола, смотрит без всяких мыслей, кроме одной: «Господи! да неужто же есть на свете такая женщина, которая может противиться моему молодцу!»
Кроме сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька – кругленькое, маленькое и мяконькое существо: вот все, что можно сказать об ней; она менее года как замужем за «хорошим человеком», занимающим в губернском городе довольно видное место, которого, однако ж, Феденька откровенно называет слюняем и фофаном; Марья Петровна души в ней не слышит, потому что Пашенька любит копить деньги. Петенька – четырнадцатилетний мальчик, полуидиот и единственный постоянный собеседник Марьи Петровны, которая обращается с ним снисходительно и жалуется только на то, что он, по своей нечистоплотности, слишком много белья изнашивает. Единственный рассказ, которым всех и каждого потчевал Петенька, заключался в том, как он однажды заблудился в лесу, лег спать под дерево и на другой день, проснувшись, увидел, что кругом оброс грибами.
– Что ж, ты, чай, так их сырые и приел? – спрашивал его обыкновенно Феденька.
– Ей! – отвечал Петенька, который, помимо малоумия, был до такой степени косноязычен, что трудно было понять, что он говорит.
– Ну, брат, скотина же ты!
– Кати…
Итак, вот то семейство, среди которого Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.
Часу в первом усмотрено было по дороге первое облако пыли, предвещавшее экипаж. Девки засовались, дом наполнился криками: «Едут! едут!» Петенька на палочке верхом выехал на крыльцо и во все горло драл какую-то вновь сочиненную им галиматью: «Пати-маля, маля-тата-бум-бум!» Марья Петровна тоже выбежала на крыльцо и по дороге наградила Петеньку таким шлепком по голове, что тот так и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, без мужа.
– Друг ты мой! а что же друг-то твой, Максим Александрыч? – воскликнула Марья Петровна, заключая в свои объятия возлюбленную внучку.
– Максиму Александрычу никак нельзя, милая бабинька; у нас, бабинька, скоро торги, так он приготовляется! Здравствуй, Петька!
– Пати-маля, маля-тата, бум-бум!
– Это он что-то новое у вас, бабинька, выучил!
– Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумал! это он «реприманд» дорогим гостям делает.
– А я, бабинька, полторы тысячи накопила! – сообщает Пашенька, как только унялись первые восторги.
– Ах ты моя ягодка! да никак ты тяжела!
– Я, милая бабинька, тяжела уж с одиннадцатого февраля!
– Ах, малютка ты моя милая! где ж ты рожать-то будешь?
– Максим Александрыч говорит, что у себя, в городе.
– Да есть ли у вас бабка-то там?
– У нас, бабинька, такая бабка… такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую из Петербурга прислали!
– Стало быть, у вас губернаторша-то еще рожает?
– Ах, бабинька! у нас губернаторша… это ужас! Уж не молодая женщина, а каждый год! каждый год!
– Ну, это хорошо, что бабка у вас такая… Куда же ты деньги-то? положила?
– Нет, бабинька, Максим Александрыч мне класть не советовал; проценты нынче в опекунском совете маленькие, так я в рост за большие проценты отдала.
– Смотри, чтоб он у тебя денег-то не выманил!
– Кто это?
– А Максимушка-то твой; бывают, Пашенька, друг, бывают такие озорники, что и жену готовы живую съесть, только бы деньги из нее вымучить!
– Ну, уж это, бабинька, тогда разве будет, когда он жилы из меня потянет!
– То-то, ты у меня смотри!
Бабинька смотрит Пашеньке в глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, с своей стороны, докладывает, что приходил к ней недавно в город мужик из Жостова, Михей Пантелеев, просил оброк простить, потому что погорел, «да я ему, милая бабинька, не простила».
– Ну, душенька, иногда, по-божески, нельзя и не простить! – замечает Марья Петровна.
– Ну, уж нет, бабинька, зтак они так об себе возмечтают, что после с ними и не сговоришь!
– Однако, душечка…
– Нет, бабинька, нет! Я уж решилась никогда никому никаких снисхождений не делать!
Потом Пашенька рассказывает, какой у них в городе дом славный, как их все любят и какие у Максима Александрыча доходы по службе прекрасные.
– В прошлый набор, бабинька, так это ужасти, сколько Максим Александрыч приобрел! – говорит она.
– Да, это хорошо, коли в дом, а не из дому! Ты, Пашенька, разузнавай под рукой про его доходы-то, а не то как раз на стороне метрессу заведет!
– Что вы, бабинька, да я ему глаза выцарапаю!
– Ах ты моя ягодка!
Пашенька чувствует прилив нежности, которая постепенно переходит в восторг. Она ластится к бабиньке, целует ей ручки и глазки, называет царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она заметить, по поводу Михея Пантелеева, что все-таки следует иногда «этим подлецам» снисходить, но заметка эта утопает в другом рассуждении, выражающемся словами: «А коли по правде, что их, канальев, и жалеть-то!» Таким образом время проводится незаметно до самого приезда дяденек.
Наконец и они приехали. Феденька, как соскочил с телеги, прежде всего обратился к Пашеньке с вопросом: «Ну, что, а слюняй твой где?» Петеньку же взял за голову и сряду три раза на ней показал, как следует ковырять масло. Но как ни спешил Сенечка, однако все-таки опоздал пятью минутами против младших братьев, и Марья Петровна, в радостной суете, даже не заметила его приезда. Без шума подъехал он к крыльцу, слез с перекладной, осыпал ямщика укоризнами и даже пригрозил отправить к становому.
– Милости просим! милости просим! хоть и поздний гость! – говорит ему Марья Петровна, когда он входит в ее комнату.
– Я, милая маменька, выехал прежде всех…
– А ты умей после всех выехать, да прежде всех приехать! – говорит Феденька. – Право, мы выехали со станции полчаса после него: думаем, пускай его угодит маменьке… Сеня! а Сеня! признайся, ведь тебе очень хотелось угодить маменьке?
Сенечка улыбается; он хочет притвориться, что Феденька и его фаворит и что, по любви к нему, он смотрит на его выходки снисходительно.
– Только на половине дороги смотрим, кто-то перед носом у нас трюх-трюх! – продолжает Феденька. – Ведь просто даже глядеть было на тебя тошно, каким ты разуваем ехал! а еще генерал… ха-ха!
– Ну, Христос с ним, Феденька!
– Да нет, маменька! не могу я равнодушно видеть… его да вот еще Пашенькинова слюняя… Шипят себе да шипят втихомолку!
– Что такое тебе мой слюняй сделал? – горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла к этому прозвищу, что и сама нередко, по ошибке, называет мужа слюняем.
Митенька сидит и хмурит брови. Он спрашивает себя, куда он попал? Он без ужаса не может себе представить, что сказала бы княгиня, если б видела всю эту обстановку? и дает себе слово уехать из родительского дома, как только будут соблюдены необходимые приличия. Марья Петровна видит это дурное расположение Митеньки и принимает меры к прекращению неприятного разговора.
– Ну, вы, петухи индейские! как сошлися, так и наскочили друг на друга! – говорит она ласково. – Рассказывайте-ка лучше каждый про свои дела! Начинай-ка, Феденька!
Митенька думает про себя: «Господи, и слова-то какие: «петухи индейские»! да куда ж это я попал!» Сенечка думает: «А ведь это она не меня петухом-то назвала! Это она все Федьку да Пашку ласкает!»
– Да что я скажу! – начинает Феденька. – Жуируем!
– Да ты рассказывай! – настаивает Марья Петровна.
– Недавно одну корифейку * затравили!
– Что ты!
– Уговаривали добром – не хотела, ну, и завели обманом в одно место и затравили!
– Ах вы бедокуры! бедокуры! – говорит Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.
– Тебя, Феденька, за эти проделки непременно в солдаты разжалуют, – очень серьезно замечает Митенька.
– Еще что!
– Ах, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень уж шаловлив стал, Феденька!
– Так неужто ж им спуску давать!
– Да уж очень ты неосторожно, друг мой! Чай, ведь она, Феденька, плакала!
– Ну что ж… и плакала! смотреть, что ли, на ихние слезы!
Марья Петровна опять вздыхает, но в этом вздохе не слышится ни малейшей укоризны, а скорее, какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.
– Вот, если б онвздумал такую проделку сделать, – продолжает Феденька, указывая на Сенечку, – ну, это точно: сейчас бы его, раба божьего, сграбастали… нет, да ведь я позабыть не могу, каким он фофаном давеча ехал!
– Ну, где уж ему!
– Нет, маменька, – прерывает вдруг Сенечка, которому хочется вступиться за свою честь, – я тоже однажды имел случай в этом роде…
– Полно! полно хвастаться-то! уж где тебе, убогому!
Сенечка стыдливо умолкает и весь погружается в самого себя, он думает, что бы такое ему сказать приятное, когда маменька станет расспрашивать о его житье-бытье.
– Я, маменька, опять Эндоурова обыграл, – продолжает повествовать Феденька.
– Скажи, сделай милость! и много выиграл?
– Да тысяч на пять обжег.
– Что это за Эндоуров такой? должно быть, хороший человек?
– Просто, филин… в карты шагу ступить не умеет – ну, и обжег! Не суйся вперед, коли лапти плетешь!
– Ну, и за это тебя когда-нибудь в солдаты разжалуют, – хладнокровно замечает Митенька.
– Ах, что это ты, Митенька, точно ворона каркаешь! – с неудовольствием отзывается Марья Петровна.
– Не тянуть же мне канитель по две копейки в ералаш, как Семену Иванычу, – огрызается Феденька.
– Извините-с, я нынче по пяти играю, а не по две-с! – отвечает Сенечка не без волнения.
– Так ты по пяти играешь! ах ты развратник! но только ты все-таки не поверить, каким ты фофаном давеча ехал!
– Для тебя бы, Сенечка, такая-то игра и дорогонька! – сухо замечает Марья Петровна и обращается к Митеньке: – è ву ля метресс… тужур бьен? [93]93
Безграмотная французская фраза: «А вы любовница… всегда хорошо?»
[Закрыть]
– Желал бы я знать, отчего вы вдруг по-французски заговорили? – угрюмо спрашивает Митенька.
– Отчего ж мне и не заговорить по-французски?
– Нет, я желал бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вот как вам взошла в голову пакость, сейчас принялись за французский язык?
– Ах, господи! да неужто ж это преступление какое?
– И сколько я раз говорил вам, чтобы вы со мной о подобных предметах не заигрывали?
– Ведь ты, чай, сын мне! всякой матери лестно слышать, коли сын успехи имеет!
– А я вам говорил и вновь повторяю, что имею ли я успехи или нет, это до вас не касается!
– Ну, уж не знаю…
– Так знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи…
Я не знаю, как вывернулась бы из этого пассажа Марья Петровна, и сумела ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всяком случае, Сенечка оказал ей неоцененную услугу, внезапно фыркнув во всеуслышанье. Вероятно, его, точно так же как и Митеньку, поразил французский язык матери, но он некоторое время еще крепился, как вдруг Митенька своим вовсе неостроумным сравнением вызвал наружу всю накопившуюся смешливость.
– Ты еще что? – строго обратилась к нему Марья Петровна.
– Я, маменька, один смешной случай вспомнил-с…
– Над матерью-то посмеяться тебя станет, а вот как заслужить чем-нибудь, так тут тебя нет!
– Я, маменька…
Но здесь опять, и, конечно, против всякого желания, Сенечка разразился самым неестественным фырканьем, так что сам понял все неприличие своего поведения и инстинктивно поднялся со стула.
– Поди в свою комнату… очнись! – говорила ему вслед до глубины души оскорбленная мать.
Только к обеду явился Сенечка, но и то единственно за тем, чтоб испить до дна чашу унижения. За обедом все шло по-сказанному; Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшие куски на тарелки Митеньке, Феденьке и Пашеньке и потом, обращаясь к Сенечке, прибавляла: «Ну, а ты, как старший, сам себе положишь, да кстати уж и Петеньке наложи». Очевидно, что при такой простоте обращения только относительно щей дело могло принять оборот несколько затруднительный, но и тут обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Феденька, как воин грубый, предпочел крапивные щи ленивым, и вследствие этого оказалось возможным полтарелки последних уделить Сенечке. Наевшись баранины, Сенечка почувствовал такую тяжесть в желудке, что насилу дошел до своей комнаты и как сноп свалился на постель; Феденька отправился после обеда на конюшню, Пашенька, как тяжелая, позволила себе часочек, другой отдохнуть. Марья Петровна осталась с Митенькой наедине.
– Вот вы смеетесь надо мной, мои друзья, – сказала она в виде предисловия, – а я, как мать, можно сказать, денно и нощно только об вас думаю.
Митенька молчал и думал про себя: «Ну, верно, по обыкновению, пойдут разговоры об завещании!»
– Вот я теперь и стара и дряхла становлюсь, – продолжала Марья Петровна, – мне бы и об душе пора подумать, а не то чтоб имением управлять или светскими делами заниматься!
Митенька продолжал молчать, совершенно хладнокровно пуская ртом кольца дыма.
– Паче всего сокрушаюсь я о том, что для души своей мало полезного сделала. Все за заботами да за детьми, ан об душе-то и не подумала. А надо, мой друг, ах как надо! И какой это грех перед богом, что мы совсем-таки… совсем об душе своей не рачим!
Но Митенька словно окаменел. Только чуть заметная ироническая улыбка блуждала на губах его.
– Вот я, мой друг, и придумала… Да что же ты, друг мой, молчишь? Я, как мать, можно сказать, перед тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!
– Вы об завещании хотите говорить… я знаю, – процедил сквозь зубы Митенька.
– Ну, да, об завещании… можно бы, кажется, на слова матери внимание обратить!
– Говорите.
– Нет, это обидно! Я, как мать, покоя себе не знаю, всё присовокупляю, всё присовокупляю… кажется, щепочку на улице увидишь, и ту несешь да в кучку кладешь, чтоб детям было хорошо и покойно, да чтоб нужды никакой не знали, да жили бы в холе да в неженье…
– Да мы, маменька, очень вам благодарны…
– Нет, мне, видно, бог уж за вас заплатит! Один он, царь милосердый, все знает и видит, как материнское-то сердце не то чтобы, можно сказать, в постоянной тревоге об вас находится, а еще пуще того об судьбе вашей сокрушается… чтобы жили вы, мои дети, в веселостях да в неженье, чтоб и ветром-то на вас как-нибудь неосторожно не дунуло, чтоб и не посмотрел-то на вас никто неприветливо…
– Да говорите же, маменька, я вас слушаю.
Мало-помалу, однако ж, Марья Петровна успокоилась.
Она очень хорошо понимала, что весь этот разговор не что иное, как представление, да, сверх того, понимала и то, что и Митенька знает, что все это представление; но такова уже была в ней потребность порисоваться и посекретничать, что не могла она лишить себя этого удовольствия, несмотря на то что оно, очевидно, не достигало своей цели.
– Ну так видишь ли, друг мой, что я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче уж не то, что прежде бывало; вот и хочется мне теперь, чтоб вы меня, старуху, успокоили, грех-то с меня тот сняли, что вот я всю жизнь все об мамоне да об мамоне, а на хорошее да на благочестивое – и нет ничего. Так снимите же вы, Христа ради, с меня эту тягость; ведь замучилась уж я, день-деньской маявшись; освободите вы мою душу грешную от муки мученской! Ведь ты знаешь ли, какой я себе грех беру на душу: кажется, и не отмолить мне его вовек!
Марья Петровна даже прослезилась: так оно выходило хорошо да чувствительно. Несколько минут она все вздыхала и вытирала платком слезы, обильно струившиеся из глаз. Но мысль ее не спала в это время; странное дело, эта мысль подсказывала ей совсем не те слова, которые она произносила; она подсказывала: «Да куда ж я, черт побери, денусь, коли имение-то все раздам! все жила, жила да командовала, а теперь на-тко, на старости-то лет да под команду к детям идти!» И вследствие этого тайного рассуждения слезы текли еще обильнее, а материнское горе казалось еще горче и безысходнее.
– Так что же вы предполагаете сделать? – спокойно спросил Митенька.
– Отдам! все отдам! – с каким-то почти злобным криком отвечала Марья Петровна. – Нет моих сил! нет моих сил! Слушай ты меня: вот я какое завещание составила!
Марья Петровна отперла денежный ящик и вынула оттуда бумагу.
– Да ведь вы мне уж несколько раз это завещание читали, – иронически заметил Митенька.
– Нет, это я другое… я то переменила.
– Ну-с, читайте.
– «Во имя…» ну, там все, как следует, по-старому… «первое, сыну моему Семену, как непочтительному…»
– Кто же вам поверит, что Сенечка был к вам непочтителен?
– Да мне какое дело, поверит ли кто или нет; я мать, я и судья – имение-то, чай, мое, благоприобретенное…
– Ну-с, хорошо-с…
– «Сыну моему Семену – село Вырыпаево с деревнями, всего триста пятьдесят пять душ; второе, сыну моему Дмитрию – село Последово с деревнями, да из вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горелки, всего девятьсот шестьдесят одну душу»… – Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотелось, чтоб он хоть ручку у ней поцеловал, но тот даже не моргнул глазом. – Да что же ты молчишь-то! что ты, деревянный, что ли! – почти крикнула она на него.
– Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.
– «Третье, сыну моему Федору – сельцо Дятлово с деревнею Околицей и село Нагорское с деревнями, а всего тысяча сорок две души».
Митенька пускал дым уже не кольцами, а клубами. Он знал, конечно, что все эти завещания вздор, что Марья Петровна пишет их от нечего делать, что она на следующей же неделе, немедленно после их отъезда, еще два завещания напишет, но какая-то робкая и вместе с тем беспокойная мысль шевелилась у него в голове. «А ну, как она умрет! – говорила эта мысль. – Ведь все эти бредни, пожалуй, перейдут в действительность». Справедливость, однако ж, заставляет меня сказать, что ни разу не пришло ему в голову, что, каково бы ни было завещание матери, все-таки братьям следует разделить имение ее поровну… В этом отношении он очень хорошо понимал, что долг его повиноваться воле матери, тем более что повиновение это для него выгодно.
– Ну-с, – сказал он.
– Вот и все; там обыкновенно, формальности разные…
– А капитал?
– Какой же у меня капитал? а коли и есть капитал, так ведь надо же мне, вдове, прожить на что-нибудь до смерти!
– Да ведь это завещание, а не раздельный акт…
– Неужто ж вы потребуете, чтоб я последнее отдала? чтоб я и рубашку с себя сняла?
– Это завещание, маменька, а не раздельный акт…
– Ну, нет! не ожидала я этого от тебя! что ж, в самом деле, выгоняйте мать! И поделом старой дуре! поделом ей за то, что себе на старость лет ничего не припасала, а все детям да детям откладывала! пускай с сумой по дворам таскается!
– Извините меня, маменька, но мне кажется, что все это только фантазии ваши! и напрасно вы с этим делом обратились ко мне! («Это она Федьке весь капитал-то при жизни еще передать хочет!» – шевельнулось у него в голове.) Вы лучше обратились бы к Сенечке: он на эти дела мастер; он и пособолезновал бы с вами, и натолковался бы досыта, и предположений бы всяких наделал!








