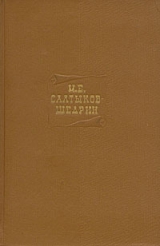
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 57 страниц)
А результат в обоих случаях будет вот какой: толпа не поймет ни моего восклицания, ни моего молчания, а будет себе веровать да веровать, что земля именно на трех рыбах стоит. И много погибнет человеческих голов жертвою такого верования, и долго придется потом их скоблить, чтоб соскоблить эту трехрыбную золотуху, этот фараонов нарост… Конечно, для меня, собственно, это ничего, что будут их там скоблить и стругать… ушел себе в кабинет и мыслю там, вместе с Неволиным, что мир совсем не на трех рыбах стоит и что, напротив того, существо веществ заключается в союзцах, союзах и союзищах, которые, постепенно развиваясь и разрастаясь, берут в полон всю вселенную. И так все это в моей голове ясно и отчетливо разрисовывается, как будто передо мной ландкарта лежит, и все это там начерчено. Этот хорошенький, уютный мир, в котором я заключился, кажется мне миром совершенно особым от того, в котором рассуждают о царе Фараоне; в порыве самодовольства я готов заключить, что между мной и им нет ничего общего, что даже чуть ли не проведено тут что-то вроде маленькой стены. Но с другой стороны, если я начну размышлять, то очень скоро увижу, что совсем здесь никакой стены нет и что даже нас связывает нечто общее. Это связующее начало есть именно тот человеческий облик, который ношу я, утверждающий мир на разных союзах, и носят те, которые утверждают мир на трех рыбах. Он, этот облик, против воли моей, вызовет меня из моего замкнутого уютного мира и кинет в тот мир грубости и пошлости, к которому я так небрежно относился; а кинет он меня потому, что я со всеми своими союзами все-таки ничего не поделаю, а они, эти фараонолюбцы, несмотря на свою пошлость и грубость, все-таки нечто делают. И увижу я тогда, что, покуда я занимался моими «союзами», фараонова вера успела заполонить мир; что мне не только протестовать против этого, но и объясняться уж не приходится, что меня даже никто не спрашивает: почему ты в трех рыб не веришь? – а просто говорят: да как ты смел в трех рыб не верить?
И потому, если я мил и умник, то никак не скажу фараонопоклонникам: «Какую вы, дурачье, чепуху несете!», а равным образом и не отойду от них прочь, а, напротив того, ласковым манером выведаю от них, что и как, откуда взялось такое мудреное учение и в чем оно состоит. Это последнее обстоятельство особенно нужно, потому что происхождение учения всегда имеет большое влияние на дальнейшие судьбы его. Выведавши все, как следует, я ознакомлюсь со всеми подробностями учения и постараюсь поразить его в собственном его убежище и собственным его оружием. Например, я спрошу: кто видал этих трех рыб? и доведу до сознания, что никто; потом спрошу, почему здесь предполагается три рыбы, а не три коровы, и доведу до сознания, что это так, нипочему и т. д. и т. д. И когда таким образом, постепенными мерами, я доведу моего собеседника до того, что он мне скажет: «Да ну тебя к черту!» – тут я его и огорошу моими «союзами». «Это, мой друг, все вздор, что до сих пор тебе глупые люди врали, – скажу я ему, – а вот ты послушай, какие «союзы» бывают!» И начну я тут перед ним канитель тянуть, и буду тянуть ее до тех пор, покуда он глаза на меня не выпучит: верный признак, что я поставил его мысль в полное соответствие с моей. И я уверен, что он не только поймет меня, но даже сам ко мне раз десять придет и все будет просить, чтоб я с ним об «союзах» побеседовал, потому что очень уж это для него занятно. Этим путем я непременно приобрету успех: во-первых, потому что смирил свою гордость, а во-вторых, потому что соблюл постепенность * .
Теперь перенесемся мыслью в другую сферу, в ту самую сферу, в которой находитесь вы, дети. Тут дело идет уже не о трех рыбах, а об идоложертвенном светильнике, возжженном рукою Кошанского и поддерживаемом его прозелитами. Вы говорите, что этот светильник так же чадит, как и тот, который освещал учение о выходящем по ночам из моря Фараоне: так докажите же это, и если можете, то затушите его. Признаюсь откровенно, я сам человек старинного века, но сердце у меня доброе, и детей я люблю. Когда я вижу, что около меня резвятся дети, мне так и хочется их чем-нибудь поощрить и показать им какую-нибудь новую штучку, которой они не знают. «Душеньки! говорю я им, если вы хотите, чтоб папаша дал вам ляльки, то просите ее тогда, когда мамаша ему чем-нибудь угодит!» Или: «Душеньки! вот ужо после обеда папаша почивать ляжет, а мы в то время ляльку и унесем!» И те «душеньки», которые меня слушаются, бывают счастливы, а те, которые не слушаются, часто остаются без обеда и подвергаются телесным наказаниям, даже не всегда заслуженным. Так точно и тут: если вы желаете затушить старый светильник и возжечь на место его новый (смотрите, масло-то у вас есть ли?), то войдите в наше капище ласково, тихим манером расспросите, кем, когда и по какому случаю возжжен наш светильник, разузнайте доподлинно, что именно он освещает, и потом, улучивши минуту, задуйте его. Ибо в мире сем не одна сущность дела роль играет, но и манера.
А потому все можно, говорю вам: если становой пристав будет открывать вам тайну свою – примите ее; если канканист Фокин будет вам открывать тайну свою – примите ее. Чем больше будете вы знать тайн, тем скорее попадете в капище и тем удобнее будет для вас завладеть светильником…
Как-то на днях гулял я по Невскому; вижу: передо мной идут рядом старец и юноша и ведут разговор.
– Ну нет, прыгать я не согласен! – говорит старец.
– Однако, ваше превосходительство…
– Идти вперед спокойно, но твердо – на это я готов; но прыгать… нет, прыгать я, слуга покорный…
– Позвольте мне сказать, ваше превосходительство…
– Знаю, что́ вы будете говорить мне, молодой человек! и заранее отвечаю: прыгать я не согласен и не согласен!
Некоторое время собеседники идут молча. Первый опять задирает старец.
– По-моему, так: если задумал реформу, начни сперва с одного уезда. Сделал? хорошо! переходи к другому. Сделал? хорошо! переходи к третьему. И таким образом, без потрясений и незаметно… а прыгать я не согласен! *
– Но ведь таким образом, если предположить, что в России больше шестисот уездов и что на каждый из них, чтоб удостовериться в совершенной годности реформы, нужно положить, по крайней мере, год времени, то окажется, что последнему-то уезду придется дожидаться шестьсот лет, пока дойдет до него очередь!
– А по-вашему, лучше прыгать? Ну нет, прыгать я не согласен!
– Да разве ваше превосходительство когда-нибудь прыгали?
Старец останавливается при этом вопросе и с азартом говорит:
– Не прыгал-с, не прыгаю-с и прыгать не буду-с.
– Так почем же вы знаете, что прыгать неудобно?
– Как почем я знаю! нипочем я, государь мой, не знаю? Я знаю только одно: что прыгать я не согласен!
Опять водворяется молчание, которое на сей раз прерывает уже юноша.
– Хорошо, – говорит он, – идти вперед «спокойно и твердо», коли человек идет, подобно нам с вами, по прекрасному и ровному тротуару. Но если предположить, что под ногами вашими не тротуар, а раскаленная плита, то согласитесь, что вы сами будете очень благодарны, если вам будет позволено прыгать?!
– Нет-с; я прыгать не согласен!
– Однако же…
– Что вы мне там говорите? разве я наперед всех ваших резонов не знаю? Не согласен я прыгать, милостивый государь, не согласен-с!
Мы дошли до Аничкина моста, и собеседники остановились, чтоб проститься и разойтись. Ба! да ведь это люди знакомые: штатский генерал Постепенников и с ним коллежский секретарь Ваня Колобродников! Я подошел к ним.
– Вот, – говорит мне генерал Постепенников, указывая на Ваню Колобродникова, – уговаривает меня, чтоб я прыгал! да нет, я прыгать не согласен!
– Ваше превосходительство, верно, в клуб поспешаете? – спросил я, чтоб переменить разговор.
– Да, в клуб; пора! *
– А говорят, там нынче настоящие-то прыгунчики и есть? *
– Смейтесь, молодые люди! смейтесь! А прыгать я все-таки не согласен! Ну, прощайте.
Генерал подал нам руки и повернул по Фонтанке налево. Но, сделавши пять шагов, он опять любезно поворотился к нам и, грозя пальцем, сказал:
– А прыгать я, слуга покорный, не согласен!
Колобродников был в унынии.
– Слышали? – спросил он меня.
– Слышал.
– А вот вы говорите, что надобно настаивать, что в отчаянье приходить не следует… Да я с ним битый час разговаривал, и битый час он мне отвечал: «Ну нет! прыгать я не согласен!»
– А вы зачем с ним о прыганье разговариваете?
– Помилуйте! кто с ним разговаривает о прыганье! Это он сам! это у него врожденная идея!
– Тем больше вы виноваты; если вам известно, что такова его врожденная идея, вы должны были сообразоваться с этим; вы обязаны были пресечь зло в самом корне, сразу согласившись, что прыгать никуда не годится.
– Однако…
– Ибо таким людям никогда не доказывают пользу прыганья, а просто-напросто заставляют их прыгать…
– Но ведь это, наконец, противно!
– А вы думали, что пройдете осенью по Невскому от Аничкина моста до Адмиралтейства и не замараетесь? * Ну, и не марайтесь!
– Да я и ходить совсем не хочу!
– Ну, и не ходите!
В это время около нас остановилось еще два собеседника. По внешнему виду это были два канцелярских политика, но не из высших, а так, второго сорта.
– Ну-с, как-то вы с новым начальством служить будете? – спросил один.
– А что?
– Как «что»! да ведь, чай, новые порядки, новые взгляды… все новое!
– А мне что за дело!
– Как же не дело! велит писать так, а не иначе… небойсь не напишете?
– Напишу.
– Чай, тоже неприятно!
– Ничего тут неприятного нет, потому что совсем не в том дело.
– Да в чем же?
– А в том, во-первых, что я могу написать разно; могу написать убедительно и могу написать неубедительно…
– Ну-с, а во-вторых?
– А во-вторых, неужто вы так наивны, что до сих пор не знаете, что эти дела обделываем мы!
– Как так?
– Очень просто. Я напишу проект точь-в-точь такой, как приказывает начальство; от нас он идет на заключение к г. X. Я тотчас же еду к Семену Иванычу, который к своему г. X находится точь-в-точь в таких же отношениях, как я к своему, и говорю: «Семен Иваныч! к вам поступает наш проект, так уж, пожалуйста, вы его разберите!» – «Хорошо», – отвечает мне Семен Иваныч; и действительно, через месяц проект возвращается к нам, разбитый в пух на всех пунктах. Ну-с, хорошо-с; теперь проект этот идет дальше, а именно на заключение к г. Z. Я опять-таки еду к Петру Галактионычу, который к своему г. Z находится точь-в-точь в таких же отношениях, как и я к своему, и повторяю ему ту же просьбу, что и Семену Иванычу. «Хорошо!» – отвечает Петр Галактионыч; и точно, через месяц проект возвращается к нам окончательно добитый и истерзанный. Начальство бесится, но сделать ничего не может; проект его так и остается мертворожденным…
– Гм… да; это хорошо, – задумчиво отвечает собеседник.
– Поверьте, что не дурно.
Собеседники жмут друг другу руки и расходятся.
– Слышали? – спрашиваю я Колобродникова.
Некоторое время юный мой друг нечто соображает.
– Слышал-с, – наконец говорит он мне, – и могу отвечать одно: ну нет, я прыгать не согласен!
Вот и толкуй с ними!
*
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВООБЩЕ И БЕЛЛЕТРИСТИКИ В ОСОБЕННОСТИ. – ОСКУДЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И ПРИЧИНЫ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ. – ПОЧЕМУ САМЫЕ ГОРДЫЕ ИНДЕЙСКИЕ ПЕТУХИ ПО ВРЕМЕНАМ ЯВЛЯЮТСЯ ФОФАНАМИ. – ПРИМЕРЫ. – КАШИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА. – ЧТО ЛУЧШЕ? – ЛЮБОПЫТНЫЙ СПОР МЕЖДУ ДВУМЯ МОСКОВСКИМИ ПУБЛИЦИСТАМИ. – ПРОЩАНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ И НАДЕЖДЫ В БУДУЩЕМ
Публика не без основания сетует на русскую литературу или, вернее, на ту ее часть, которая зовется беллетристикой. Старые таланты исписываются и, сотворив что-нибудь чересчур уж великое, с видимым смущением спешат на покой; новых талантов не нарождается. То есть, коли хотите, эти новые таланты и появляются по временам, но расходуются они как-то по мелочам и ознаменовывают свою деятельность больше сценками да рассказцами, из которых самый обширный все-таки короче куриного носа. Уменье группировать факты, схватывать общий смысл жизни, уменье заводить речь издалека и вдаваться в психологические развития с каждым днем утрачивается все больше и больше, а с тем вместе утрачивается и способность к созданию чего-либо цельного. Беллетристика приобретает характер, так сказать, этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы ее и, надо сказать правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но и замечательное мастерство.
Отрицать этот факт невозможно, как невозможно отрицать и то, что подробности жизни действительно выясняются перед нами и выступают вперед с небывалою доселе яркостью. Но публика не того хочет; она требует общей, более или менее законченной картины жизни, в которой подробности являлись бы не разбросанными, а занимали бы каждая свое определенное и притом соразмерное своему значению место; она говорит, что сколько бы ни было потрачено таланта на разработку какой-либо подробности, все-таки это будет не больше как подробность, которая так и утонет в общем числе прочих. Здесь самое обилие подробностей, самая сила таланта, употребленная на воспроизведение их, как бы содействует взаимному их уничтожению и естественному ослаблению того впечатления, которое они должны бы были производить на читателя. «Посмотрите, – говорит публика, – на произведения наших лучших беллетристов прежнего времени! Там тоже вы встретите прекрасные подробности, но они не бьют в глаза своею разрозненностью, а впадают в общий ход жизни, не отвлекают своею особностью внимания читателя от целой картины, а, напротив того, служат к усилению впечатления, производимого этою последнею».
Нельзя не сознаться, что в этом суждении публики есть много правды. Ум человеческий с трудом довольствуется частностями, как бы они ни были сами по себе привлекательны, и неудержимо стремится приурочить их к чему-нибудь целому. Матерьял самый разнообразный и богатый содержанием все-таки представляет не более как сбор случайных и разрозненных фактов, за пределами которых фаталистически возникает вопрос о том выводе, который отсюда следовать может. Это требование вывода, эта необходимость более или менее цельной картины жизни до того сильны, что нередко заставляют человека прибегать даже к самообольщению и создавать такие обобщения, которые не имеют ни малейшего корня в действительности. Самая странная и нелепая утопия является законною, самые фальшивые и смешные представления о жизни приобретают право гражданственности; и если мы имеем право подвергать осмеянию те формы, в которых облекаются эти утопии и представления, то ни в каком случае это право не может простираться на самую потребность в подобного рода представлениях, потому что эта последняя, в сущности, совершенно законна.
Приведу пример самый простой и общеизвестный. Еще очень недавно все содержание так называемых беллетристических произведений основывалось исключительно на взаимных отношениях двух противоположных полов. Понятно, что это было содержание скудное и одностороннее; понятно, что человек, который сознает себя живущим и действующим не только под влиянием побуждений любви, ненависти, ревности, подозрения и т. п., но и в силу других, более глубоких запросов своей человеческой природы, должен был чувствовать себя приниженным при виде той тесной сферы, в которую его волею или неволею втискивали. Тем не менее это скудное и одностороннее содержание очень долго господствовало в литературе безраздельно, да и до сих пор не покидает еще претензий своих на господство; тем не менее в эту тесную рамку вкладывался весь человек, и никому даже на ум не приходило протестовать против этого насильства. Почему? А потому просто, что другие-то побуждения человеческой природы еще не выяснились до такой степени, чтобы на них было возможно что-нибудь основывать, а еще потому, что эти другие побуждения никогда не пользовались в своих проявлениях тою беспрепятственностью, никогда не сопровождались тем общим признанием, какими пользовались и сопровождались отношения мужчины к женщине, особливо если при этом не ставилось какого-нибудь приводящего в смущение вопроса, и вообще дело не захватывалось глубже, нежели сколько следует. Любовь с ее видоизменениями и последствиями давала легкое средство отыскать содержание для целой картины; к ней одной представлялось возможным свести всю человеческую деятельность. Беллетристы пользовались этим обстоятельством и разработывали любовные способности человека насколько хватало у них сил; результат их заботы был тощий и односторонний до тошноты, но публика не сердилась на своих любимцев, ибо в произведениях их все-таки видела человеческую жизнь не в осколках, а в одном общем фокусе, и притом в таком фокусе, который, по мнению ее, мог вмещать в себе все известные и доступные ей подробности.
Но как ни законны и ни объяснимы сетования публики на современную беллетристику, оправдание последней также не представляет особенных затруднений. Направление литературы изменилось потому, что изменилось направление самой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности. Нет даже той цельности, рамку для которой давали любовные упражнения человека, ибо и последние изменяют свой прежний характер и, видимо, ищут новых форм для своего выражения. Общество чувствует, что если оно останется при прежних своих основах, то неминуемо придет к ликвидации, и эта перспектива заставляет его серьезнее вглядываться в самого себя. Первый акт этой новой для него деятельности начинается, разумеется, поверкой его собственных сил и средств. Неслыханное, затаенное и невиданное целым потоком врывается на сцену, и, разумеется, врывается на первых порах в отрывочном и даже не всегда привлекательном виде. Число действующих лиц непрерывно увеличивается новыми милыми незнакомцами, которые, в свою очередь, скрытничают и выставляют напоказ только то, чего уже ни под каким видом скрыть нельзя. Одним словом, в самой жизни выступают на первый план только материалы для жизни, и притом до такой степени разнообразные и малоисследованные, что самый проницательный наблюдатель легко может запутаться в тех кажущихся противоречиях, которые, разумеется, прежде всего бросаются в глаза. При таком положении дел литературе остается выбрать одно из двух: или лгать, то есть вымышлять картины жизни несуществующие, или же делать частные наблюдения, писать отдельные биографии. Но лгать, очевидно, нельзя, потому что все, что можно было вылгать на старые, избитые темы, все уже вылгано, а новых тем для лганья жизнь не дает; стало быть, остается идти по последнему пути, то есть заниматься подробностями. Когда сумма наблюдений будет достаточно велика, когда выступившие на сцену новые элементы улягутся в общем движении жизни и найдут каждый свое место, тогда, конечно, явится возможность и той цельной картины, о которой тоскует русская публика. А до тех пор литература будет в этом отношении настолько же бессильна, насколько само общество бессильно сплотить за один раз все новые стихии, которые находятся в нем в состоянии брожения.
Что в обществе нашем беспрестанно нарождаются новые стихии, в этом никто, даже самый отъявленный пессимист, сомневаться не может. Можно рассуждать о том, что стихии эти нарождаются без прямого и самодеятельного участия общества, что они заявляют очень мало непосредственной энергии, но в том, что они так или иначе, то есть собственным ли своим движением или силою внешних обстоятельств, но выдвигаются-таки вперед, – в этом сомневаться нельзя. В этом до такой степени нельзя сомневаться, что литература наша в подобных случаях всегда даже опаздывала, то есть являлась на сцену уже тогда, когда праздник объявлялся оконченным и сонные городовые разгоняли последних зевак. Почему она опаздывала – это вопрос, ни для кого не составляющий тайны, но не в нем покуда и дело, а в том, что запоздалая или не запоздалая литература уже не имеет права действовать на прежнем основании в такое время, когда все кругом говорит новою речью, думает новую думу. К прежнему выдохшемуся, выболтавшемуся и несколько уже исказившемуся миру примкнули, с дозволения начальства, свежие элементы, которым, быть может, тоже придется, в свою очередь, выдохнуться, выболтаться и исказиться со временем, но которые покуда еще кажутся миленькими и чистенькими. В этом заманчивом, девственно нетронутом виде застает их литература, овладевает ими, насколько может, угадывает таящуюся в них силу, и во всяком случае, даже на основании одних внешних признаков, относится к ним сочувственно. Где источник этого сочувственного отношения, в том ли естественном чувстве торжества, которое невольно прорывается всякий раз, когда примечается признание непризнанного и освобождение из заточения угнетенного, или в том более простом соображении, что вот, дескать, слава богу, прибавилось еще несколько новых сюжетцев, над которыми можно досыта наболтаться, – это опять-таки дело стороннее, которое отнюдь не уничтожает силы самого факта, вынуждающего литературу останавливаться именно на таких-то, а не на других явлениях жизни, проявлять свою деятельность в такой-то, а не в иной форме. Здесь, как и в самом факте вытеснения старых элементов жизни новыми, сила не в причинах и условиях, вследствие которых явился факт, а в самом его появлении и возведении его на степень факта признанного и действующего.
Но если существование самой простой и ничтожной былинки не может не иметь своего воздействия на окружающий ее мир, то тем больше понятно это воздействие со стороны явления более сложного, каковым представляется нашествие незнакомцев, и притом в той высшей сфере, какова сфера жизни общественной. Это явление прежде всего имеет силу разлагающую. Новые общественные стихии, во-первых, не могут проникнуть в общество иначе как во имя упразднения, и даже как последнее слово этого упразднения, и во-вторых, на первых порах заявляют себя преимущественно отыскиванием нового ложа и поверкою своих собственных сил. Но повторяю: упразднение и искание еще не составляют жизни, а могут дать только материал для нее; факты выходят из тьмы изолированными, и связь между ними сознается лишь в самой слабой степени. Самая характеристическая черта подобных эпох – это непоследовательность, это быстрое возвышение и столь же быстрое падение известных принципов и известных личностей, которые во имя этих принципов действуют. Современники и вообще называются неблагодарными, но этот упрек еще решительнее, еще с большим правом может быть применен к современникам эпох нарождения новых общественных основ. Это народ поистине непоследовательный и малодушный, а вследствие того и неблагодарный. Первейшие агитаторы, каковы, например, М. Н. Катков, Н. Ф. Павлов и А. А. Краевский, не могут удовлетворить их, потому что не могут знать сегодня, что потребует от них завтра всепожирающий дух времени. Горя стремлением создать общую картину, они с тоскою прислушиваются к бродячему говору толпы, с полным усердием прилаживаются к колебаниям температуры и, вопреки всем усилиям и стараниям, на каждом шагу видят себя то оставленными назади, то нерасчетливо забежавшими вперед. Все эти неудачи происходят, разумеется, оттого, что эти простодушные люди ловят то, чего еще нет на деле, и не хотят остаться при том, на что прямо и явственно указывает им современность. Современность говорит: трудись и собирай в поте лица твоего, не претендуй на звание художника и довольствуйся дипломом чернорабочего * ; если ты думаешь, что с этим дипломом тяжело достается жизнь, то или не живи вовсе, или старайся прожить как-нибудь, как живется всем вообще, то есть со дня на день. Будь осторожен, и если сегодня ты зришь себя героем, то не упивайся вином славы, ибо от этого вина на другой день болит голова.
Но чтобы мысль моя предстала перед читателем со всей ясностью, постараюсь подкрепить ее некоторыми практическими примерами.
Предположим, читатель, что путем наблюдения, размышления и размена мыслей ты дошел до некоторых положений, совокупность которых составляет твой так называемый идеал. Предположим даже, что это совсем не тот мошеннический идеал, который заключается именно в отрицании необходимости и плодотворности идеала в жизни, но идеал поистине честный, могущий дать действительное мерило для оценки явлений. Обладая своим сокровищем, ты мыслишь идти твердой стопой по жизненному пути; ты рассматриваешь и обсуждаешь; одному явлению присвоиваешь название худого, другому – названье хорошего; одним словом, ты распоряжаешься в мире, как в своей собственной квартире, и с восхищением видишь, как перед умственным твоим оком встает целая картина, в которой недостает только балетной мифологии * , чтобы дело было совсем как следует. Но увы! практика на каждом шагу разбивает твой идеал, и даже не идеал собственно, а, что всего обиднее, разбивает его отношения к действительности. Она говорит: ты можешь иметь всякие идеалы, какие тебе заблагорассудится, но в то же время обязываешься хранить их для себя и для друзей. Повторяю: это очень обидно. С разбитием идеала примириться можно, потому что здесь есть возможность прийти, по крайней мере, хоть к внешнему оправданию такого факта; можно, например, солгать себе, что идеал, которым я доселе питался, оказывается слабым и ложным и что путем убеждения меня привели к сознанию этого грустного обстоятельства; но примириться с бессилием, но признаться себе, что сам-то я молодец, да вот руки, ноги у меня связаны, не позволяет ни самолюбие, ни здравый смысл. Я полагаю даже, что от одной мысли об этом бессилии можно с ума сойти и постепенно довести себя до зубовного скрежета. «Господи! да где я? да что со мной делается?» – придется беспрестанно восклицать жадному искателю идеалов в этом море яичницы, каковым представляется жизнь, не выросшая еще в меру естественного своего роста. И вот тут-то является к нему на помощь так называемая сноровка, и притом является до того неслышно и незаметно, что подчинение ей делается актом почти бессознательным.
Начнем с отношений к людям, то есть к отдельным человеческим личностям. Идеал ваш, если он только заслуживает этого имени и если вы достаточно строги к самому себе, конечно, таков, что под его уровень могут подходить лишь немногие личности; следовательно, вне этой небольшой сферы, все остальное должно быть для вас безразлично, то есть безразлично ничтожно. Тут нельзя даже пустить в ход известных оговорок: вот эта личность более терпима, потому что менее вредна, а эта менее терпима, потому что более вредна, – от этих оговорок уже отзывается сноровкой и знаменитыми компромиссами. Перед идеалом нет большей или меньшей неправды, а есть одна неправда; идеал даже не имеет права входить в эти различения, потому что, ставши однажды на эту покатость, рискуешь очутиться гораздо дальше, нежели может предугадать самая расчетливая предусмотрительность. Но почему же, скажите на милость, нет в целом мире того последовательного и строгого идеалиста, который на практике, ведением или неведением, не допускал бы возможности и даже необходимости различений? Почему все эти Сидоры, Трифоны, Петры, Иваны, к которым иногда так неловко бывает прикасаться, в действительности совсем не составляют безразличной массы, а выступают вперед каждый порознь, и притом снабженные очень определенными и своеобразными чертами? Нет ли в самой жизни чего-то такого, что ставит разделяющую черту между идеалами человека, с одной стороны, и практическою, живою его деятельностью – с другой?
Нет сомнения, например, что вы происходите не из сырости, но что у вас есть родители. Как бы вы ни были дальнозорки, до какого бы беспримесного аскетизма ни довели свою мысль, вы чувствуете, однако ж, что над душою вашей висит некоторое фаталистическое бремя, что над ней носится ваше прошлое, не то прошлое, когда вы уже сознавали свои силы и от которого, при дальнейшем развитии, во всякое время можете отказаться (по крайней мере, вам так кажется), но то далекое прошлое, которое тяготело над вами всею своей непосредственностью и беспомощностью. Несмотря на то что вы уже вышли из этого непосредственного и беспомощного состояния, оно и до сих пор окружает вас всею силою воспоминаний, всею мощью своего авторитета. Вы не можете даже сказать себе: я буду отдавать этому прошлому только то, чего оно, по справедливости, заслуживает; нет, вы всегда отдадите ему более, во-первых, потому, что оно с своей стороны представляет собою совсем не скопление мертвого материала, а нечто весьма жизненное, протестующее против попыток сухой и холодной оценки; а во-вторых, потому, что как только вы приметесь за оценку и взвешиванье, то неминуемо придете к такому заключению: или что прошлое, в сущности, ничего не заслуживает, или что попытки ваши оценить его никуда не годятся и не выдерживают самого простого прикосновения жизни. Отсюда, первая уступка, первое признание уместности исключений, из которых немедленно и логически разовьется целый ряд дальнейших уступок и признаний, и притом несравненно более важных.
Не забывайте, что то же самое явление, которое сопровождало ваше младенчество, пройдет впоследствии через всю вашу жизнь и что самостоятельность и независимость, которыми с внешней стороны будут облекаться ваши действия, суть качества мнимые, могущие утешать лишь очень неопытные и младенческие души. В сущности, вас и в зрелом возрасте преследует та же беспомощность, та же железная необходимость принижаться и заглядывать в глаза, которая сопутствовала и вашему детству. Только внешняя обстановка жизни переменилась, но идея ее осталась одна и та же, и она неотразимо и не торопясь переберет одно за другим все звенья вашего существования от начала и до конца. Вы ни на минуту не ощущаете себя свободным, радужный призрак независимости беспрерывно носится пред вашими глазами, но где же рука, которая уловит его? Увы! нет этой руки! нет этой крепкой руки! – вот что говорит вам тысячекратно повторяемый опыт и постепенно доводит до сознания темной необходимости хоть как-нибудь, да развязать этот узел. Законность различений, снисхождений и сравнений в этом случае подкрадывается самым естественным порядком и незаметно засасывает в себя всего человека. На сцену выступают Петры Петровичи, Акакии Акакиевичи, Сидоры Сидорычи, которыми обставляется ваше существование, без участия которых ваше спокойствие делается крайне спорным, и выступают они совсем не в виде безразличной массы, равно негодной перед светом идеала, а в совершенно определенных формах отдельных личностей, из которых каждая имеет свои, собственно ей принадлежащие достоинства и пороки. Петр Петрович хотя никуда не годится в сущности, но у него есть некоторая струнка, которою не обладает Акакий Акакиевич и которая в известном отношении для меня необходима; Акакий Акакиевич тоже, что называется, лыком шит, но и у него есть струнка, которая может быть для меня полезна. Все эти струнки, рассматриваемые сами по себе, конечно, суть не что иное, как пакость, и даже самая отборная, но, прибегая к ним, я только следую общему всем людям чувству самосохранения, я делаю в этом случае, так сказать, благородное неблагородство.








