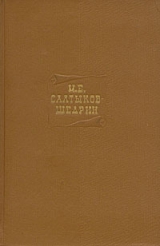
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 57 страниц)
От этих размышлений перейдем собственно к толкам о молодом поколении и взглянем на отношения к нему современной литературы. Выше мы видели, что толки эти составляют, так сказать, обязательное содержание нашей литературы, и потому нас больше всего занимает в этом случае разнообразие их.
Относиться к молодому поколению отчасти поучительно, отчасти язвительно, видеть в нем элемент всеразрушающий, всеотрицающий и ничего не созидающий, – сделалось делом почти модным и потому чрезвычайно приятным и легким. Слова: «космополитизм», «нигилизм», «сепаратизм», «демократизм», «материализм» и проч., слова, имеющие смысл нарочито порочный, – рассыпаются щедрою рукой направо и налево, причем весьма глубокомысленно не принимается в соображение ни то, к кому эти эпитеты прилагаются, ни то, по какому случаю они прилагаются, ни то, наконец, что́ они действительно означают. Дело заранее полагается для всех ясным, и на всякое возражение или недоумение по этому предмету имеется один ответ – хохот, издревле составляющий, как известно, простейшую и самую выгодную форму опровержения. А между тем если взглянуть на дело попристальнее и подобросовестнее, то, конечно, самый предубежденный человек согласится, что тут-то и господствует самый густой туман, и именно тот туман, против которого с таким прискорбным успехом, хотя и с противоположной стороны, гремят московские публицисты * . Рассейся этот туман, – и кто знает, во-первых, будет ли о чем толковать, а во-вторых, если и есть о чем толковать, то таким ли чисто голословным способом, как это делалось до сих пор? Но, с другой стороны, быть может, такое рассеяние тумана совсем и не желательно? быть может, потому-то именно и приятно положение мысли нападающей, что она благодаря туману может посылать свои удары, не подвергаясь опасности быть сбитою с выгодной позиции?
Быть может и это. Но как бы то ни было, а сыпать направо и налево обвинениями и эпитетами сделалось делом чрезвычайно приятным и свободным. Образовалась целая литература * , поставившая себе целью исследовать свойства ядов, истекающих из молодого поколения, или, лучше сказать, не исследовать, а представить в живых (более или менее) образах, что молодое поколение никуда не годно, что оно не имеет будущего и что оно сплошь одарено способностью испускать из себя гангрену разрушения. Бессмысленное слово «нигилисты» переходит из уст в уста, из одного литературного органа в другой, из одного литературного произведения в другое. Беллетристы положительно упитываются им; даже г. Григорович, сей цветок, взлелеянный на полях не фигурального, а настоящего всероссийского нигилизма * , – и тот торопится с своею лепточкой * , и тот несет какую-то микроскопическую сориночку и опускает ее в «Русский вестник», это верное и неизменное хранилище родимого сора… Все спешат напитаться от убогой трапезы нигилистской! Любопытно, стало быть, посмотреть, что такое всполошило этих невинных людей и во имя чего, во имя каких идей они сами ратуют.
Но о том, что их всполошило, я покамест говорить не стану; я предпочитаю в этом случае последовать примеру мысли нападающей, то есть предположу все сие достаточно ясным (впрочем, читатель увидит, что я кое-что и разумею-таки в этом деле), и потому поговорю о том собственно, во имя каких идей на это ясное и известное делаются прямые и косвенные нападения.
Для примера возьму недавно появившийся роман «Марево» * , имеющий в публике довольно значительный успех.
Герой этого романа, Русанов, человек еще молодой, едва начинающий свое жизненное поприще, но уже спокойно расположившийся в лагере мысли безопасно торжествующей и неотразимо нападающей. Каким образом он пришел к этому безмятежию, автор не объясняет и заставляет читателя предполагать, что человек этот так и родился уж мудрецом. Те вопросы, в постановке которых сгорают целые поколения, в его глазах совсем не составляют вопросов, а просто представляют собой явления горячечного бреда, очень трудно объяснимого, а по результатам своим даже и опасного. Даже не на том совсем настаивает этот юный герой, что нельзя с презрением обходить действительность * , что необходимо считаться с нею даже в том случае, если она положительно теснит и гнетет, – на этом-то пункте, пожалуй, можно было бы и поговорить с ним, – но на том, что никто не имеет даже права возмущаться действительностью уже по тому одному, что она действительность и что ничья мысль не должна выходить за пределы той сферы, которая почему-то и кем-то признана для нее достаточною. Такое воззрение на жизнь очень замечательно, в особенности если обладатель его, Русанов, сам принадлежит к молодому поколению, ибо молодость, при обыкновенных условиях, скорее наклонна к преувеличениям, а здесь она является наклонною к сокращениям. Стало быть, здесь что-нибудь одно из двух: либо преждевременная зрелость, либо фаталистическая ограниченность.
Если мы вникнем в дело ближе, то увидим, что это, скорее, ограниченность. Прежде всего, Русанов совсем не заявляет себя враждебным прогрессу (по-видимому, он даже не прочь от всякого рода «принципий» и «мероприятий»), но, кажется, он недостаточно выяснил себе значение этого слова и потому на каждом шагу затемняет его и впадает в противоречия. Умственному его оку представляются два прогресса: один какой-то шутовской и пошловатый, другой – разумный; против первого он вооружается, второму – сочувствует. Первый представляется ему в виде или гимназических и кадетских протестов * (в сущности очень невинных, существовавших всегда с тех пор, как существуют гимназии и корпуса, и подлежащих обличению разве со стороны одного училищного начальства), или же в виде темной интриги, всецело зиждущейся на тех же самых основаниях, которыми проникнута и столь любезная ему действительность * . Если бы Русанов теснее специализировал предметы своих антипатий, если бы он сказал прямо: мне кажутся ничтожными гимназические протесты и недозволительными те поработительные поползновения, которым дает место слишком возбужденное чувство национальности, тогда, по крайней мере, видно было бы, о чем он говорит; но он более заставляет догадываться и подозревать, нежели объясняет, и потому в уме читателя невольно возникает сомнение, что тут идет речь совсем не о школьных проделках и не об интригах, а о чем-то другом. В чем заключается это «другое» – Русанов не дает положительного ответа, потому что и сам не знает того явления, которое возбуждает в нем враждебное чувство. Очевидно, он имеет в виду те самые бранные слова, о которых говорено выше, но выбирает гимназические проделки и интригу потому единственно, что они более доступны его пониманию, потому что они представляют более поводов для увеселения, и потому, наконец, что поражать на другой почве было бы не совсем для него удобно. Отсюда непрерывная путаница; едва начнет читатель утешаться вместе с автором описаниями невинных затей взбудораженной гимназической мысли, как Русанов уже спешит изгладить веселое впечатление неприятными намеками на то, что эти затеи совсем не так невинны, как кажутся, но что они суть порождение того вредного влияния, которое проникает извне вследствие распространения в обществе некоторых темных сил, о которых ему, Русанову, достоверно известно. И так как Русанов ничего, кроме намеков, все-таки не дает (ибо, по ограниченности своей, и дать-то ничего другого не может), то простодушный читатель так и остается при наивном убеждении, что в гимназических протестах заключается весь смысл русского прогресса.
Но допустим, что Русанов хоть и близоруко, но все-таки установил свою точку зрения на современное понятие прогресса, – что́ же, какое другое, настоящеепонятие противополагает он ему? Сосудом такого настоящего, разумногопонимания прогресса является он сам, г. Русанов. Он что-то любит, о чем-то волнуется, к чему-то стремится, но все это делает до такой степени разумно, основательнои аккуратно, что читателю кажется, что он вовсе ничего не любит, вовсе ни о чем не волнуется и вовсе ни к чему не стремится. Это убеждение еще более укрепляется тем обстоятельством, что к чему бы ни прикоснулся наш юный скопец, за что бы он ни принялся, – везде он проваливается самым постыдным образом. Чтобы показать, как следует действовать истинному гражданину, он поступает па службу в гражданскую палату (причем довольствуется весьма скромною должностью) – и проваливается; чтобы показать, как следует иметь общение с народом, он идет уговаривать взбудораженных крестьян – и проваливается. И хотя неудачи свои он объясняет темною интригой, которая, словно чудом каким, охватила целый здоровый край, однако это натяжка, очевидная для всякого сколько-нибудь смышленого читателя. Отчего же ваша правда, г. Русанов, так слабо действует, а эта ложь, против которой вы ратуете, представляется вам всесильною? Вот вопрос, который невольно возникает в уме всякого, слушающего вашу умеренно либеральную размазню, и на который вы, конечно, не ответите. А дело между тем очень просто; причина вашего неуспеха заключается совсем не в общем затмении здравого смысла и не в всесильном владычестве лжи, а в том, что вы, говоря по правде, ничего никогда не любили, ничего никогда не желали и выдаете за правду ту теорию каплуньего самодовольства, которая может удовлетворять только людей положительно нищих духом.
Теория Русанова напоминает знаменитую, но давно забытую теорию искусства для искусства, в том виде, как ее проповедовал не Белинский лично (у него эта теория служила только поводом), а многочисленные его последователи * . Подобно тому как эти последние видели в искусстве нечто отрешенное от жизни, само себе служащее и само из себя питающееся, и на этом основании отделяли для искусства совершенно особенную сферу, в которую не допускались непосвященные, подобно тому и господа Русановы полагают, что прогресс есть нечто такое, что совершается само собою, помимо человеческих усилий, и что стоит только погодить, чтобы получить желаемое. Верный этой теории, Русанов ждет и не шевелится, но этого мало: он смотрит в оба глаза, чтобы и другие тоже ждали не шевелясь; а так как подобная каплунья мудрость не всякому легко достается, то выходит из этого нелепая драма. Гимназисты и интриганы не слушаются, а Русанов делает глупости, говорит пошлости, попадается впросаки, никого не убеждает, никого за собой не увлекает и ничего никому не доказывает. И всем этим неудачам и несчастиям подвергается он по поводу гимназистов и интриганов; что же было бы, если бы такой златоуст появился с своей проповедью в среде более серьезной? Вопрос до того щекотливый, что надо полагать, что в подобной среде он даже не мог бы и появиться.
Вообще этот тип очень замечательный по той внутренней комической струе, которая изобильно течет в нем, и тем больше досадно, что талантливый автор не только не воспользовался этою струею, но даже относится к своему герою очень серьезно. Это какой-то Дон-Кихот консерватизма, который наивно думает, что в жизни большой вес могут иметь доказательства вроде: «подумайте! что вы делаете», «вы погибнете!» и т. д., который даже на мысль человеческую простирает свое негодование, ибо и у нее отнимает право на тот деятельный и свободный процесс, который составляет необходимый признак ее бытия.
Из таких отношений к явлениям жизни естественно может вырасти только нетерпимость, а между нетерпимостью и даже тою кисленькою проповедью, которой предается Русанов, целая бездна. Процесс деятельности гг. Русановых достаточно известен и совершается всегда при одних и тех же признаках. Прежде всего, начинается дело с убеждений, но так как убеждения эти бывают или очень мизерны, или очень мертвы, или очень своекорыстны, то, конечно, никто ими не убеждается и вследствие такой неудачи в сердце убеждающего невольно поселяется некоторый горький осадок. Все кажется, что люди своего собственного блага не понимают и веселыми ногами идут к своей собственной погибели. Тогда Русанов вступает во второй период своей гражданской деятельности, период, так сказать, благоволителыю будирующий. Он сердится, но все еще жалеет; он негодует, но хочет спасти погибающих против их собственного желания; он усугубляет свою попечительную деятельность и укоряет безумцев в неразумии и неблагодарности. А безумцы так-таки и коснеют в своем безумии и даже – о, верх неблагодарности! – посмеиваются над русановскою попечительностью и его самого осмеливаются обзывать расколотою балалайкою. Это, наконец, положительно раздражает Русанова и заставляет его поспешить вступлением в третий и последний период его гражданской деятельности. Период этот может быть назван периодом «по всем по трем»… *
Вот с какими данными наши литературные Русановы всевозможных оттенков выступают на борьбу с молодым поколением и теми убеждениями, которых оно, по праву или не по праву, считается носителем…
Прежде всего, они совершенно не понимают предмета, о котором говорят, и слишком охотно отступают в этом случае от того коренного правила, в силу которого всякое явление следует рассматривать преимущественно в его типических чертах, а не в подробностях и отступлениях, которые, конечно, не должны быть упускаемы из вида, но отнюдь не имеют права затемнять главный характер явления. Поэтому-то им и мерещатся всё нигилисты, да бунтующие гимназисты, да интриганы. Но, без сомнения, замечательнейшее их качество все-таки заключается в том нравственном и умственном убожестве, с которым они являются на арену и которое решительно препятствует им приобретать прозелитов. Можно сказать безошибочно, что они, с большою выгодою для себя, могли бы отложить к сторонке свои маленькие скопческие теорийки (которые, наверное, никогда никого не соблазнят) и прямо приступить к третьему периоду той гражданской деятельности, о которой упомянуто выше. Это спасло бы их от потери драгоценного времени, а лиц, к которым они простирают свои притязания, – от обязательного выслушивания противной либерально-размазистой болтовни.
Тем не менее, несмотря на явную внутреннюю несостоятельность, нападающая мысль в некоторых сферах русского общества пользуется значительными успехами, а незамысловатые ее подвиги имеют привилегию возбуждать шумные рукоплескания. Причина такого явления, кажется мне, заключается, во-первых, в неприхотливости вкусов большинства русского читающего люда и, во-вторых, в некоторой степени свободы, которую присвоила себе нападающая мысль и которая позволяет ей выражаться, по крайней мере, с тою ясностью, на какую она способна.
Неприхотливость русской публики есть факт до того общеизвестный, что о нем нет надобности и распространяться. Она не любит ни углубляться, ни анализировать, а желает, чтобы писатель действовал на нее посредством живых образов и убеждал сравнениями и уподоблениями. Стало быть, учительницею ее стоит на первом плане так называемая беллетристика. Если писатель начинает вести свою речь издалека, публика скучает; если писатель анализирует или делает вывод, она томится и ждет: да когда же, наконец, расскажет он какой-нибудь анекдот разлюбезный? В этом я мог наглядно убедиться, присутствуя однажды в Москве на лекции профессора Юркевича * ; покуда профессор объяснял, что «сознание в этом разе (во время сна) носится на волнах душевного настроения», публика безмолвствовала, но как только он приступил к толкованию снов, она встрепенулась, и по аудитории пронесся веселый и живой шепот. Таким же точно образом, и даже проще, действует нападающая мысль в своих походах против молодого поколения. Она не считает нужным соблюсти в этом случае даже тот призрак приличия, которому отдает дань г. Юркевич, предпосылая своим истолкованиям размышления о сознании, носящемся на волнах душевного настроения. Нет, она просто говорит: молодое поколение – это социалисты, материалисты, жулики, нигилисты, мазурики и прелюбодейцы, а затем начинает рассказывать анекдоты о том, как некто Басардин украл золотую табакерку. Из всех этих слов публика понимает только одну половину, то есть жульничество и т. д., и сверх того твердо знает, что воровать табакерки в законах не разрешается; но этого уже довольно, чтобы пробудить во всех сердцах благодарность за то, что так * просто и наглядно истолковали значение тех слов, которые до сих пор казались мудреными. Начинаются рукоплескания; воришка Басардин получает наименование социалиста и передового человека и возводится в звание представителя молодого поколения. *
Свобода выражения тоже немало в этом случае помогает. Когда преднамеренно и сознательно смешиваются понятия самые противоположные, когда этим смешением угощается публика малосведущая и плохо различающая и когда вся эта нетрудная работа производится безвозражательно, то понятно, что публика становится, так сказать, в положение крепостного человека, который, постоянным давлением на него крепостного права, доводился, наконец, до совершенной бесчувственности и полного непонимания его ненормальности. Она постоянно испытывает одни и те же веселые впечатления и потому весьма естественно покоряется их влиянию. Едва успела она сегодня прочитать веселый рассказ о Басардине, как уж назавтра готов к ее услугам не менее веселый рассказ о гимназисте Горобце. И таким образом, воспитанная па Басардиных, Кукшиных и Горобцах * , доводимая до опьянения наркотическими завываниями «Московских ведомостей» и не видя этой галиматье отпора, публика не вступает даже в разбирательство причин, почему нет и не может быть этого отпора * , а прямо приходит к убеждению, что так тому делу и быть.
Но, без сомнения, всего более содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила. Эти люди считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление общее всем векам и странам и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколению.
Выше я сказал, что самым тяжким положением мысли следует признать то, когда она не только обязывается тратить свою силу на мелочах, но, сверх того, не имеет даже возможности объяснить самоё себя надлежащим образом, очистить исследуемый ею предмет от тех примесей, которые ему вредят. В самом деле, что такое это молодое поколение, о котором так много говорят, какие его стремления и какова его деятельность – всё это вопросы темные не только для публики, но и для большинства самих тех, до которых они ближайшим образом относятся. А этот туман еще более способствует размножению тех темных личностей, которые упомянуты мной выше под именем юродствующих и вислоухих и которые сами совершенно серьезно готовы признать воришку Басардина за тип современного прогрессиста, как признали таковым в недавнее время болтуна Базарова * .
В январском обозрении общественной жизни я сделал очень скромную (и даже, сознаюсь, не довольно резкую и определенную) попытку отличить этих вислоухих и юродствующих и изъять их из общего представления о молодом поколении, которое и без того уже захламощено различными услужливыми ревнителями, – и надобно видеть, какую бурю в среде этих милых лилипутов подняла моя мимоходная и притом лишенная всякого злостного характера заметка. В одном невинном, но разухабистом органе невинной нигилистской ерунды (по врожденной мне скромности, я не называю здесь этого органа) стали доказывать, что я всегда был такой * , что в прошлом году я притворялся, а теперь, дескать, не выдержал и обнаружил свою настоящую суть. Очень приятно.
Да, я всегда был такой, но и в прошлом году отнюдь не притворялся и высказывал свои мнения с полною откровенностью. Вислоухие никогда не прельщали меня; я всегда был того мнения, что они одним своим участием делают неузнаваемым всякое дело, до которого прикасаются, подобно тому как мухи летом в одну минуту засиживают какую угодно вещь, хотя бы самую драгоценную. В прошлом году, как и нынче, я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набеги в область ерунды; в прошлом году, как и нынче, я находил, что эти невинные существа отнюдь не должны считаться представителями какого бы то ни было поколения, но что они изображают собой тот паразитский, из угла в угол шатающийся элемент, от которого, по несчастью, не может быть свободно никакое, даже самое лучшее дело. И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, оттого, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а во-вторых, оттого, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен.
Но предмет этот так интересен сам по себе, что в настоящее время я решаюсь посвятить ему несколько слов, причем предупреждаю читателя, что здесь не будет и речи об обвинениях, на меня взводимых, так как к этим последним я совершенно равнодушен.
Всякая партия, всякое дело имеют своих enfants terribles [75]75
сорванцов.
[Закрыть], которые до тех только пор и бывают терпимы, покуда дело еще слабо и покуда малейший разлад в недрах той партии, которая его поддерживает, может повредить ему. Эти enfants terribles юродствуют, мечутся, не умеют держать язык за зубами и всего охотнее хватаются за внешние признаки дела, так как других они и понимать не могут. Серьезно на них никто и не смотрит, но видя, с одной стороны, их невинность и усердие, а с другой, опасаясь, чтобы от их невоздержности не изгибло хорошее дело, стараются действовать на них посредством ласки, которая, как известно, имеет свойство отчасти поощряющее, а отчасти умеряющее. Большинство убеждается этими ласками, и хотя продолжает заниматься мелкоплаваньем и не обещает никакой существенной помощи делу, однако уже и тем ему отрицательно содействует, что не мешает и не умножает собой победоносные ряды его противников.
И таким образом шло бы это дело воздержно и безопасно к вожделенному концу, если б из среды невинных enfants terribles не возникали своего рода горлопаны, юродствующие и вислоухие. Эти последние плавают столь же мелко и точно так же не идут далее внешних признаков какого бы то ни было дела, но уже возводят эти признаки в принцип и проповедуют громко, самодовольно и с ожесточением. На этих людей простая ласка уже не действует, и дело, в своих собственных пользах, должно оградить себя от их несносного и навязчивого влияния.
В позапрошлом году пущено было в ход слово «нигилизм» * , слово, не имеющее смысла и всего менее характеризующее стремления молодого поколения, в которых можно, пожалуй, различить всякого рода «измы», но отнюдь не нигилизм * . Между тем слово пошло в ход и получило право гражданственности, и совсем не потому, что его пустил в ход г. Тургенев (это-то бы еще небольшая беда), а именно благодаря тем вислоухим, которые ухватились за него, словно утопающие за соломинку, стали драпироваться в него, как в некую златотканую мантию, и из бессмыслицы сделали себе знамя * . Если б г. Тургенев употребил вместо «нигилистов» слово «дураки» или «безголовые», как выразился однажды г. Юркевич, они бы и за эти слова ухватились с жадностью и самодовольно склоняли бы в настоящее время: мы дураки, мы безголовые, нам, дуракам, и т. д. Это уж такая несчастная страсть красоваться глупостями, беседовать о глупостях и лезть на стену по поводу глупостей, и главный источник этой страсти заключается, конечно, в скудном запасе умственных способностей.
Другой пример: в прошлом году вышел роман «Что делать?» – роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей * , а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками. Точно так же, например, в сочинениях Фурье их увлекла бы не теория страстей, положенная в основание его универсальной ассоциации, не плодотворная концепция гармонического воспитания * и проч., а какие-нибудь anti-lions и anti-réquins [76]76
антильвы и антиакулы.
[Закрыть], а какие-нибудь когорты мальчиков * , с самоотвержением предающихся очищению отхожих мест и т. п. В этом случае они следуют примеру составителей паскудных французских литографий: посмотришь на надпись – написано «L’oiseau envolé» [77]77
«Улетевшая птичка».
[Закрыть], посмотришь на картину – никакой oiseau envolé тут нет, а просто девица грациозно приподняла платье и показывает sa jambe bien faite… [78]78
свою хорошо сложенную ножку…
[Закрыть]И когда такие их пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: «Эге! да вы, кажется, уж над Чернышевским глумитесь!» И таким образом сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество.
Третий пример представляет вопрос женский… но здесь предпочитаю остановиться, потому что вовсе не желаю увлекаться, а говорить хладнокровно об этом предмете, благодаря паскудному покрову, который набросили на него вислоухие * , совсем не легко.
Одним словом, нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы. «Я демократ», – говорит вам вислоухий и доказывает это тем, что ходит в поддевке и сморкается без помощи платка. «Я нигилист и не имею никаких предрассудков», – говорит вам другой вислоухий и доказывает это тем, что во всякое время дня готов выбежать голый на улицу. И напрасно вы будете уверять его, что в первом случае он совсем не демократ, а только нечистоплотный человек, и что во втором случае он тоже не более как бойкий человек, без надобности подвергающий себя заключению в частном доме, – не поверит он ни за что и вас же обругает аристократом и отсталым человеком.
Если вы посещали, читатель, петербургскую биржу * весною, то, конечно, имели возможность наблюдать за неугомонною деятельностью обезьян. Сидит обезьяна в клетке и все кругом озирается, все высматривает, нет ли чего перенять. Видит она, например, рабочего, который заколачивает ящик, и тотчас же начинает суетиться, отыскивает на дне клетки завалящую щепочку, в другую лапку берет орех и пресерьезно начинает щепочкой постукивать по ореху. Вот действительный смысл работы наших enfants terribles. Насколько он полезен, предоставляю судить читателю, с своей же стороны думаю, что он вреден уже тем, что возбуждает смех в зрителях и дает им повод делать неправильные и произвольные обобщения. Конечно, мне могут возразить, что много будет чести, если обращать внимание на мнения каких-нибудь праздных зрителей, и я, разумеется, принял бы подобное возражение, если бы оно исходило от людей серьезных (впрочем, оговариваюсь: принял бы только отчасти, ибо, по моему мнению, праздных зрителей нет и не может быть, и презрительное отношение к ним составляет большую и очень часто неисправимую ошибку), но ведь надо же понять, что деятельность наших enfants terribles совершенно по плечу самому праздному из праздных зрителей, и, следовательно, от них никакое возражение в этом смысле принято быть не может.
Но этого мало. Не забудем, читатель, что, кроме enfants terribles, y нас есть вислоухие, которые потщатся подчеркнуть пошлость и возвести ее в принцип. Об enfants terribles можно бы еще объясниться, что это просто милые люди, на невинную переимчивость которых стоит только не обращать внимания, чтоб она упала сама собой; об вислоухих же этого сказать нельзя, потому что они лезут вперед, входят в азарт, выдают себя за людей серьезных и убежденных и подбирают себе поклонников. Посторонний зритель, непосвященный, смотрит на вислоухого уже с некоторым трепетным смирением, как на сосуд некий, в котором заключена мудрость будущего, и если ему порою кажется, что эта мудрость смахивает на ерунду, то он тут же спешит поправиться и уверить себя, что это оттого ему так кажется, что он сам преисполнен ерунды, а что ерунда вислоухого есть действительная мудрость, но только мудрость не настоящего, а будущего. Скажите же, не обидно ли это?
Итак, вот каких именно вислоухих и юродствующих имел я в виду в моем январском обозрении нашей общественной жизни, а совсем не то, чтобы «выругать огулом молодежь», как выразился в письме ко мне некоторый анонимный корреспондент * , который обругал меня при этом самым вислоухим образом. Ибо я очень хорошо понимаю, что взгляд на молодое поколение, как и на всякое другое, должен определяться общею его деятельностью, общими его стремлениями, а не уклонениями и юродствами, хотя бы этих последних было и великое множество.
А еще и вот что имел я в виду сказать: что одно из самых пагубных свойств вислоухих составляет непомерное их самолюбие. С одной стороны, им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их * из своего далека, с другой стороны, – что нет на свете ни одной отрасли практической деятельности, которую бы они могли занять * , не уронив своего достоинства. Вольными ремеслами они заниматься не могут, потому что нет у них ни ума, ни искусства, ни прилежности, ни даже физической силы, которая потребна в некоторых из них, называемых низшими. Обязательным ремеслом * , тем самым, которое как бы нарочно создано для того, чтоб давать приют всякого рода неспособным и от природы обиженным, заниматься несогласны, потому что: что скажет Россия! А Россия даже не подозревает, существуют ли они, эти нового рода социалисты, взирающие на жизнь как на увеселительное представление с пением и плясками! От этого-то слово «нигилизм», слово бессмысленное и ничего решительно не выражающее, было для них как бы манной небесной, потому что оно дало им повод успокоиться, дало возможность на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» – отвечать: «Мы занимаемся нигилизмом».








