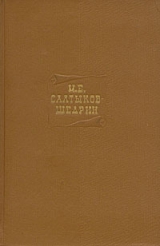
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 57 страниц)
Но в 16-м № этого почтенного журнала произошло нечто такое, что своею предусмотрительностью и преднамеренностью разом превзошло все «действительные меры», когда-либо предполагавшиеся «Московскими ведомостями». На страницах этого № вновь появился г. Касьянов (тот самый г. Касьянов, который в прошлом году беспокоил публику своими «письмами из-за границы» и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества и чуть ли даже не на лоне самой Спиридоновки) и от нечего делать повел речь о нигилистах. * Я умолчу о том факте, который заставил взяться г. Касьянова за перо, да он и не нужен здесь, потому что нигилисты сами по себе представляют уже факт достаточный и, по мнению всех московских публицистов, требующий мероприятий. В этом одинаково согласны и «Московские ведомости», и сам «День»; разница между ними заключается только в характере этих мероприятий и большей или меньшей их действительности. «Московские ведомости» желают действовать посредством устрашения и усекновения, «День» – посредством убеждения; «Московские ведомости» стоят на стороне таких мероприятий, которые действуют со всею скоростью и строгостью («отзвонил, да и с колокольни долой»), «День» – на стороне таких, которые действуют хотя медленно, но прочно; «Московские ведомости» утверждают, что нигилисты суть не что иное, как «жулики», что это растленные плоды «растленной петербургской атмосферы»; «День», напротив того, допускает, что это заблудшие овцы одного и того же стада, и не отчаивается сделать из них со временем полезных членов общества.
Основываясь на всех этих соображениях, г. Касьянов предлагает в своем письме особого рода педагогический прием. Припомнив себе стихи знаменитого поэта-славянофила:
И ты, когда на битву с ложью *
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тяжесть лат земных.
Доспех Саула – ей окова.
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружье – божье слово,
А божье слово – божий гром! —
он находит, что в этих стихах находятся самые удовлетворительные указания насчет характера предстоящих мероприятий, и обращается ко всем знаемым и незнаемым с просьбою действовать против нигилистов именно посредством этого не им изобретенного оружия.
На первый взгляд намерения г. Касьянова поражают своею учтивостью, и нигилисты (которые понеопытнее) готовы будут признать в нем отца родного, подобно тому как признали такового же в г. Тургеневе, изобразившем для них Базарова. Но я, с своей стороны, нахожу педагогический прием г. Касьянова не только не благодетельным, но даже сугубо принудительным и истязательным. Для того чтобы убедиться в этом, следует только пристальнее вникнуть в сущность предлагаемой им меры.
Никакие «действительные меры» не палят так нестерпимо, как паление словесное; ничто так не ожесточает человека, как паление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Система усекновения, проповедуемая «Московскими ведомостями», по крайней мере, понятна; скажу более: своею очевидною резкостью она может даже приносить утешение. При виде этого постоянно и преувеличенно разверстого зева «Московских ведомостей», до того уже разверстого, что и сомкнуть его нет средств, голову может посетить мысль даже освежающая: «Пускай, дескать, человек потормошится, а мы посмотрим!» Никаких такого рода шансов не представляет система, предлагаемая г. Касьяновым, ибо она стремится всписать не тело, но самую бессмертную человеческую душу.
Представьте себе такую картину: сидит благонамеренный педагог и декламирует:
И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых… —
– Понимаешь, дружок? – ласково спрашивает он у своего ученика.
– Не-нет… не понимаю! – отвечает ученик, которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а, напротив, заставляет заподозривать нечто сугубое.
– А? не понимаешь, мой друг?! ну, повторим сначала!
И ты, ког-да на бит-ву с ло-жью
Вос-ста-нет Пра-вда дум свя-тых…
– Понимаешь, дружок?
И так до бесконечности. Что может предпринять ученик против этого стиховного наказания? Куда уйдет он от своего ласкового и благонамеренного учителя? Что будет, если он, наконец, не догадается и не скажет: «понимаю»? Что будет, если сам педагог наконец не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: «А ну-те, подайте-ка нам сюда розог»? Поистине я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно что объять необъятное, что изрекать неизреченная, что стараться уловить свой собственный кукиш.
Но даже если ученик и догадается сказать «понимаю», то и тут он обязан употребить известную сноровку, то есть уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе. Ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее дрожание в голосе, и тогда опять пошла писать:
И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых…
Но даже и тогда, когда педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до окончательного озлобления и сделать над собой что ни на есть очень скверное. Ибо, повторяю: ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и невсписываемость, как бессмертная человеческая душа.
Мы, русские, в особенности не терпим душевных испытаний. Мудрая Екатерина понимала это и наказывала своих придворных тем, что заставляла, по мере вины, выучивать по нескольку стихов из Телемахиды * . Г-н Касьянов хочет применить эту методу в размерах уже несравненно более обширных, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание.
С своей стороны, я свое дело сделал: я предупредил господ нигилистов, чтобы они не слишком-то радовались, что г. Касьянов намеревается действовать с ними посредством убеждения, и не торопились бы подносить ему титул «родного отца», которым они почтили г. Тургенева.
Передо мною две книги «Эпохи», и хотя я один в комнате, но очень явственно слышу, что вокруг меня раздаются какие-то рыдания. И чем дальше я углубляюсь в журнал, тем слышнее и явственнее становятся эти рыдания, точно сто Громек разом ворвалось в мое скромное убежище, точно несметное полчище сокращенных мировых посредников невидимо присутствует при моих занятиях.
Но нет, это рыдают не Громеки, это рыдает «Эпоха» устами всех своих редакторов и сотрудников. Рыдает Косица, рыдает Аполлон Григорьев, рыдает Федор Достоевский, рыдает Горский, рыдает Страхов. Один главный редактор, г. Михаил Достоевский, молчит, но это и понятно: он вдоволь нарыдался в объявлении, и затем, рыдания его уже должны подразумеваться во все дни существования «Эпохи». «Не роди ты меня, мать сыра-земля», – умиленно-унылыми голосами вопиют все эти бескорыстные труженики и в то же время присматривают, как бы им так приноровиться, чтобы всех прельстить смиренством да «тихим, кротким поведением».
Из всех этих рыданий я понял только рыдания г. Аполлона Григорьева. Он рыдает о том, что дошел до той степени умопомрачения, что не может отличить Ничкину от Белотеловой * (известные лица из комедий Островского). Положение действительно трудное; но нового, собственно, оно представляет мало. По крайней мере, я имею в актере Славине живой пример того, что можно не только не различать Ничкину от Белотеловой, но, вместо: «наливай мне чару зелена вина», выговаривать: «наливай мне чару велена зина» * . И никто на г. Славина не жалуется, никто на него не ропщет, потому что никто от произвольной его перестановки слогов ничего не теряет. Кто слушает г. Славина, когда он ораторствует на сцене Александрийского театра? Кто читает г. Григорьева, когда он ораторствует во «Времени», в «Якоре» или в «Эпохе»? Никто, ибо всякий себе говорит: «Ну, это то самое… знаю!» – и начинает в это время разговаривать с своим соседом. Следовательно, никто тут ничего не теряет, никто даже ничего и не подозревает. Пропускают целые сцены, оставляются нечитанными целые печатные листы, не потому совсем, чтобы зритель или читатель ожидали встретить там что-нибудь неприятное, а, так сказать, инстинктивно, на том только основании, что ничего этого ни слушать, ни читать совсем не следует. Стало быть, стоит ли тут беспокоиться, извиняться, оправдываться, а тем более рыдать?
Но о чем рыдают прочие редакторы и сотрудники «Эпохи», – этого я решительно понять не в состоянии. Вижу, что они изо всех сил друг друга поощряют, чувствую целый ряд усилий и потуг, слышу хор голосов, вопиющих: «бодрей! смелей!» – и все-таки остаюсь в совершенном недоумении. Что хотят совершить эти ужасные люди? намереваются ли они превзойти «Русский вестник» или же, подобно Купидоше (см. комедию Островского «В чужом пиру похмелье»), замышляют только «удивить мир коварством»?..
В заключение считаю не лишним представить на суд читателей драматическое произведение одного начинающего писателя, очевидно имеющее иносказательный смысл. Страшусь сказать, но думаю, что молодой драматург в своем произведении имел в виду едва ли не «Эпоху», журнал, в который, по-видимому, перешли все орнитологические тенденции «Времени». Вот этот драматический опыт.
Стрижи
Драматическая быль
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА *
Стриж первый, редактор журнала.
Стриж вторый, философ.
Стриж третий, эстетик.
Стриж четвертый, беллетрист унылый.
Стриж пятый, беллетрист веселый (находится в отсутствии).
Стриж шестый, Стриж седьмый } стихотворцы.
Нетопырь первый, служащий при редакции.
Нетопырь вторый, сторож.
Несколько крыс.
Театр представляет запустелый, сырой погреб, на дверях которого красуется вывеска: «Главная редакция журнала «Возобновленный Сатурн» * ; по стенам полки; на одной из них несколько упраздненных кадушек, на которых сидят стрижи. По полу бегают голодные, тощие крысы.
Стриж первый. Прежде всего, господа, нам необходимо оглянуться на наше прошедшее. За что они нас обидели?
Все стрижи( вместе). За что они нас обидели?
Стриж первый. Целых восемь месяцев эта идея ни на минуту не покидала меня: за что они нас обидели? В течение двух лет с лишком все обличало в нас стрижей! мы собирались, толковали, проводили время, ловили мух… Казалось бы, каких еще гарантий надо! И вот, в одну ужасную минуту, Стрижу второму пришла несчастная мысль слетать в злополучный некоторый край * …
Стрижи( вместе, кроме второго). «Вдруг вздумал странствовать один из них, лететь» * …
Стриж первый. В это время некто Петерсон, имея достаточно свободных минут… Но за что они нас обидели? *
Стриж вторый( оправдывается). Я единственный стриж из бесчисленного множества стрижей, который занимался философией; и потому, будучи учеником и последователем Гегеля, я полагал…
Голос сверху. Впредь не полагай! ( Стрижи в ужасе.)
Стриж вторый( бессознательно продолжает свою речь). Я полагал…
Стриж первый. Довольно. ( С горечью.) Очевидно, здесь даже оправдания не допускаются ( голос сверху: «А ты думал как?»), а потому забудем прошлое ( в сторону: «За что они нас обидели?») и займемся исключительно настоящим. Прежде всего, я полагаю, нам следует условиться насчет программы. Стриж седьмый! так как вы в настоящее время линяете, то выдерните из себя перо и передайте его Нетопырю первому. Итак, господа, что скажем мы в нашей программе? Откровенно говоря, мне хотелось бы предоставить это дело на волю наборщиков типографии! ( Стрижи испускают слабый писк.) Вас это удивляет? Но я очень хорошо помню, как в годину основания «Отечественных записок» некто Андрей Премудрый * говорил мне: «Друг мой! Хотя ты и стриж, но когда будешь издавать свой журнал, то помни…»
Раздается тихая музыка; с улицы доносится голос г. Альбертини, поющего на мотив: «Jadis régna en Normandie»: [100]100
«Когда-то в Нормандии правил».
[Закрыть]
В одном пространном государстве
Жил некогда мудрец Андрей;
Воспитан не в шелку, не в барстве,
Просил он несколько рублей,
Не по третям, а поскорей!
Голос в отдалении умирает; стрижи впадают в забытье; первый приходит в себя Стриж вторый и робко осматривается, не видать ли где Петерсона.
Стриж вторый. Несмотря на многознаменательное совпадение этой песни с словами моего почтенного друга и сострижа (я говорю не о внутренней сущности той и других, но о том, что в обоих случаях упомянуто знаменитое имя Андрея Премудрого), я полагаю, что совершенно положиться в этом случае на прозорливость наборщиков все-таки нельзя. Во-первых, наборщики, в видах сокращения труда, могут позволить себе брать буквы не по порядку, а горстями; во-вторых, они могут, назло нам, напечатать в программе, что журнал наш издается «для веселого чтения», и тогда кто может поручиться за последствия такого поступка!
Стриж третий. Да, тут может вновь произойти неприятное веянье!
Стриж вторый. И мы тем успешнее можем избежать всего этого, что имеем живой пример в глазах: журнал «Эпоху», издающийся с начала настоящего 1864 года. Подобно ей, мы можем сказать, что направление нашего журнала достаточно определяется уже тем, что его издают стрижи…
Стриж четвертый. И что недалеко то время, когда достаточно будет сказать слово «стрижи», чтобы всякий понял, что оно означает именно стрижей, а не орлов!
Стриж первый. Прекрасно. Я сам всегда утверждал, что мы стрижи – и ничего более. ( В сторону.) За что они нас обидели? ( Вслух.) И если бы Петерсон знал…
Голос сверху. Он знает! ( Стрижи в ужасе.)
Стриж первый. Итак, программа написана. Теперь остается поговорить собственно о статьях. Стриж седьмый! готово ли у вас приветствие к публике?
Стриж седьмый( скромно). Я назвал свое приветствие: «Снова здорово». Песня эта должна изобразить радость молодого стрижа по случаю весеннего прилета птиц на старые гнезда. ( Декламирует.)
В темный день!
В светлу ночь!
Собиралися стрижи!
Собирались молодцы!
Уж как стрижики сидят-стоят!
Уж как молодцы молчат-говорят!
Чик-чибирики!
Чик-чибирики!
Веселые-мрачные стрижики! [101]101
Хотя это стихотворение есть не что иное, как дурно скрытое подражание г. Ф. Бергу, однако для стрижа оно удовлетворительно. Прим. авт.
[Закрыть]
Стриж первый. Достаточно. Я полагаю, господа, что это стихотворение еще больше выяснит направление нашего журнала. Ибо что, в сущности, хотим мы сказать, спрашиваю я вас?
Все( отвечают хором).
Чик-чибирики
Чик-чибирики!
Стриж первый. Именно. Следовательно, все, что я могу заметить молодому нашему поэту и сострижу, заключается в том, что он без нужды заканчивает каждый свой стих знаком восклицания!
Стриж третий( обращаясь к Стрижу седьмому) Отдавая справедливость вашему «чик-чибирики!», я, в качестве критика орнитологических искусств, не могу не заметить, что мне гораздо более нравится ваш романс, начинающийся стихами:
На днях летая. Над Фонтанкой?
Я жажду. Утолить желал…
Правда, что знаки препинания расставлены здесь совсем уж несообразно, но от этих стихов, если позволено так выразиться, разит «Ершами» Всеволода Крестовского, тогда как от вашего «чик-чибирики!» разит собственно вами.
Стриж первый. Вообще, Стриж седьмый, вам вменяется на будущее время в обязанность писать стихи без знаков препинания, которые расставит за вас корректор. Итак, одно стихотворение готово. ( Стриж седьмый в восторге чистит носиком перышки в хвосте.) Ну-с, теперь вы-с! Господин Стриж шестый!
Стриж шестый( развязно). Стихотворение, которое я сейчас прочту, должно изобразить печаль стрижа средних лет при виде житейских треволнений. ( Читает.)
Давно не катался я в лодке по Мойке…
Страшился… но вдруг пожелал!
И сладко забывшись, в той лодке, как в койке,
На дне ее смирно лежал!
Взяв щепочку в лапки, я мнил, что сражаюсь,
Что сто океанов шумит подо мной!
Что я даже в лодке готовым являюсь
Сразиться с гнетущей судьбой!
Но ах! неуклюжая барка с навозом
Задела мой бедный челнок —
Чуть-чуть не погиб я! как будто морозом
Безвинно побитый цветок!
Собравши остатки, я челн свой исправил,
Замазал, заклеил, как мог!
И к Средней Мещанской я бег свой направил:
Там сказочный некий чертог
У Банкова моста, в огнях весь сияет… [102]102
И это стихотворение есть явное подражание стихотворению г. Гербеля: «Давно не видал я небесной лазури», напечатанному в 1–2 № «Эпохи» на сей 1864 год. Прим. авт.
[Закрыть]
Стриж первый. Довольно, благодарю вас. ( В сторону.) За что они нас обидели? ( Вслух.) Одно только смущает меня: «собравши остатки»… какие остатки? чего остатки? Что разумел Стриж шестый, выражаясь таким образом?
Стриж шестый( запинаясь). Я… я разумел… я просто думал…
Стриж вторый. Быть может, вы разумели какие-нибудь органические остатки?
Стриж третий. Быть может, вы разумели остатки прежнего нашего направления? ( В сторону.) За что они нас обидели?
Стриж первый. Вот этого-то я и боюсь всего более. Признаюсь, я даже сомневаюсь, возможно ли при нынешних обстоятельствах печатать такое стихотворение, которое может дать повод к различным толкованиям… Конечно, если б меня удостоверил Петерсон, что можно…
Голос сверху. Можно! ( Общая радость.)
Стриж первый. Прекрасно. Следовательно, нам остается засим перепечатать из «Эпохи» стихотворение Майкова, и мы будем вполне обеспечены. Теперь поговорим насчет беллетристики. Я полагаю, господа, что нам прежде всего следует перепечатать из той же «Эпохи» новое произведение И. С. Тургенева * .
Стриж третий. Я полагаю даже, что не худо будет перепечатывать его в каждой книжке нашего журнала.
Стриж первый. Это так; это нас обеспечит. После того я полагаю поместить процесс под названием «Нечаянное убийство некоторого стрижа во время сражения при Сольферино» и еще интереснейший рассказ под названием «Старые и новые стрижи», присланный мне из провинции * . Затем я с горестью должен сказать, что хотя друг наш, Стриж пятый, прислал нам целых десять романов, но они оказались подмоченными. Нетопырь первый! прочтите письмо нашего русского Купера! *
Нетопырь первый( читает). «Был в Полтаве и облетел всю; написал роман и полетел в Харьков; в Харькове Кулиш устроил для меня танцевальный вечер; были дамочки… Тут только вспомнил: как жаль, что я не успел побывать в Полтаве…»
Стриж первый( в сторону). Ну, за что, за что они нас обидели?!
Стриж вторый. Позвольте, однако; ведь он за две строки перед сим писал, что облетел всю Полтаву, а теперь жалеет, что не успел быть в ней?
Стриж первый. Ах, Стриж вторый! неужели же вы не знаете, что у него такая привычка!
Стриж третий. А я так нахожу даже, что это привычка совсем непредосудительная, потому что искусство без некоторой чертовщины не может и существовать!
Стриж первый. Во всяком случае, наше положение очень неприятно, потому что во всех десяти романах можно было явственно разобрать только следующее: «На высокой скале, обмываемой бурными водами тихой Лопани, гордо высится огромный белый замок, со всех сторон окруженный рвом. В этом замке живет старый маркиз де-Шассе-Круазе с дочерью своей, прекрасною Оксаной»… затем можно было с величайшими усилиями угадать еще следующее: «ро… ро… ро… * путник в штиблетах… однажды мы с Гербелем, Григоровичем и Федором Бергом обедали у Тургенева»… и больше ничего!
Стриж третий. Это жаль; но нас выручит, конечно, Стриж четвертый, которого произведения читаются с жадностью не только стрижами, но и всем вообще пернатым миром!
Стриж четвертый. Новое произведение, которое я написал, носит название «Записки о бессмертии души». Для стрижей это вопрос первой важности, а так как нам надобно прежде всего показать, что журнал наш есть орган стрижей, что он издается стрижами и для стрижей, то весьма естественно, что я сообразовался с этим и при выборе сюжета. Записки ведутся от имени больного и злого стрижа. Сначала он говорит о разных пустяках: о том, что он больной и злой, о том, что все на свете коловратно, что у него поясницу ломит, что никто не может определить, будет ли предстоящее лето изобильно грибами, о том, наконец, что всякий человек дрянь, и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь, и в заключение, разумеется, переходит к настоящему предмету своих размышлений. Свои доказательства он почерпает преимущественно из Фомы Аквинского, но так как он об этом умалчивает, то читателю кажется, что эти мысли принадлежат собственно рассказчику. Затем следует обстановка рассказа. На сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный. Все плачут, и не об чем-нибудь, а просто потому, что у всех очень уж поясницу ломит… ( Чихает от волнения и умолкает.)
Стриж первый. Что скажете вы об этом, Стриж третий?
Стриж третий. Я еще не понимаю… то есть, я и понимаю, и боюсь понимать!.. Это… это, так сказать, албинизм мысли… тут что-то седое… да! С одной стороны, потрясающее furioso, с другой – сладостное cantabile! С одной стороны, демоны увлекают Дон-Жуана в ад; с другой стороны – за сценой раздается «По улице мостовой»… страшно! страшно!
Некоторое время стрижи молчат и не могут прийти в себя.
Стриж первый( Стрижу третьему). Все, что вы сейчас заметили по поводу нового произведения Стрижа четвертого, изложите, пожалуйста, в форме письма ко мне * и приготовьте для второй книжки журнала. Это будет у нас отдел критический. Затем, господа, что касается собственно до текущей части журнала, то надеюсь, что мы будем руководствоваться в этом случае примерами прошлых лет. Вы будете писать ко мне письма, а я буду молчать; потом вы будете писать письма друг к другу – и таким образом год пройдет у нас незаметно! Конечно, вы уж приготовили, господа, что-нибудь в этом роде?
Стриж вторый. Я приготовил письмо, в котором прошу вас объяснить мне, об чем я говорю…
Стриж первый. Прекрасно. Я думаю, что при нынешних обстоятельствах нужнее всего именно такие статьи, в которых преобладал бы элемент, так сказать, чревовещательный. ( Спохватившись.) Позвольте, однако ж… ведь вы очистились?
Стриж вторый. Принес покаяние и получил прощение. *
Стриж первый. Так и надо. Это значит, вы понимаете, что если человек провинился, то необходимо, чтоб он испросил прощения. Вы, Стриж третий?
Стриж третий. А я написал статью о влиянии чревного недуга на состояние драматического искусства в Петербурге.
Стриж первый. Отлично. Итак, господа, мы обеспечены, и я надеюсь, что отныне никто нас никогда не обидит… ( В сторону.) И за что они нас обидели? ( Вслух.) С одной стороны, мы убедим окончательно публику, что мы стрижи, с другой стороны…
Раздается треск. В погреб сходит М. Н. Катков, освещаемый
сальным огарком. Крысы дохнут. Стрижи кричат «виноваты!» и
падают в кадушку.
Запах.
( Занавес опускается.)








