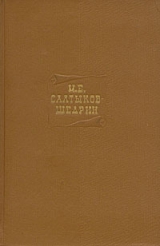
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 57 страниц)
Вследствие этой наклонности все облекать таинственностью, всякое явление возводить к конечным причинам, отношения к фактам, представляющимся нашему пониманию, делаются натянутыми и неестественными. Мы хлопочем не о том, чтобы объяснить себе факт из его собственной сущности, определить характеристические его признаки, место, которое он занимает в кругу других фактов, и те практические выводы, относительно целой системы, какими представляется возможным воспользоваться из его свойств, но о том, чтобы как-нибудь, хотя насильственно, приурочить факт к готовой уже системе и посредством этой последней истолковать значение его. Одним словом, мы не подходим к факту, а, напротив того, увлекаем его за собой.
Для объяснения возьмем здесь так часто приводимую в пример градацию человеческих способностей (известно, что наука психология, не довольствуясь наименованием способностей человека человеческими, еще разделяет их на высшие и низшие). Встречая на пути своем людей с различными способностями и наблюдая эти последние в их практических проявлениях, с каким намерением приступаем мы к этим наблюдениям? Спрашиваем ли мы себя, свободно ли сказываются эти проявления, или они стеснены внешними условиями? Сознаем ли мы, что разрешение этого вопроса необходимо, потому что процесс проявления известной способности может совершиться или вполне нормально, если он предоставлен естественному своему течению, или же получить извращенную форму, если на первых же порах будет опутан различными искусственными препятствиями? Рассматриваем ли мы, наконец, разнообразие способностей просто, как бесповоротный факт, из которого следует только вывести известный практический закон? Нет, мы ничего этого не делаем, а прежде всего стараемся тискать факт в готовую, веками нарожденную систему, приурочить его к той умственной неурядице, которую внесло в нашу жизнь постоянное обращение с призраками.
Вековой кодекс житейской мудрости гласит нам о существовании добра и зла, и однажды приняв это положение за истину неподвижную, делает его мерилом всех наших побуждений, исходным пунктом всей нашей деятельности. Откуда взялось представление о добре и зле, почему оно укоренилось в такой степени, что мы и действительно не можем шагу ступить, чтобы не видеть несомненных признаков его существования, не прививное ли оно, не внесено ли в жизнь ошибочною практикой, – мы ничего этого не доспрашиваемся, а просто принимаем на веру, что начало добра и зла составляет неизбежно закваску жизни. Отправляясь отсюда, мы уходим очень далеко: все проходящее перед нашими глазами, все доступное нашему пониманию распадается на две противоположные области: темную, в которой царствует зло, и светлую, в которой господствует добро. И затем очень легко возникает у нас целая система, вооруженная разными арсеналами подробностей; является борьба духа с материей, из которых первый, конечно, преобладает, вторая, конечно, подчиняется; а так как практика беспрерывно опровергает это положение, к удовольствию материи, то, как пополнение к теории преобладания духа, изобретается другая теория – о несовершенстве сего мира и о некоторых таинственных наградах и наказаниях. Одним словом, тут возникает целый фантастический мир, до такой степени лишенный реальных оснований, до того непоследовательный и разрозненный, что отношение к нему утрачивает характер разумности и окончательно переходит на почву упований. Вынуждаемые реальною, неподкупленною жизнью, объяснения и тезисы следуют одни за другими, но не объясняют, а, так сказать, мнут факты и насильственно выливают их в произвольные формы. Легкость, с которою производится эта операция, изумительна. Тут не нужно даже строго придерживаться основного принципа, потому что здесь самый принцип не только ничем не ограничивается, а представляется растяжимым до бесконечности. Следовательно, тут возможны разного рода пристройки и подделки, лишь бы они сохраняли фантастический колорит и как можно старательнее обходили тот действительный мир, который становится вразрез подобным мечтаниям и самым бессовестным образом напоминает нам, что хотя произвольное обращение с фактами и привлекательно по своей легкости, но зато оно непрочно и постыдно. Достигнувши этой степени беззастенчивости и сделавшись полными хозяевами нашей фантазии, мы разом завоевываем себе такое положение, которого удобнее ничего нельзя себе представить. Если главный принцип, из которого мы отправляемся, не исчерпывает всех жизненных явлений, то мы не затрудняясь строим около него вспомогательную теорию, а если и эта теория окажется неудовлетворительною, то мы и другую вспомогательную теорию выстроим. И таким образом, постепенно нарастая и нарастая, чудовищная эта система произвола и разнузданной фантазии принимает под конец такие неслыханные размеры, что мы сами чувствуем себя вконец опутанными и утопающими в бездне противоречий и недомолвок.
Понятие о градации человеческих способностей принадлежит именно к той категории фантастических понятий, о которых говорено выше. Что люди обладают способностями разнообразными и весьма различными, в этом не может быть никакого сомнения, но чтобы каждая из этих способностей, взятая в отдельности, заключала в себе какие-либо особые достоинства и на этом основании заявляла претензию на первенство перед другою, – это следует разве только из той фантастической теории, которая вообще всю сферу человеческой деятельности делит на две половины: высшую и низшую. Тут принцип проводится весьма последовательно, потому что если признать за истину, что есть интересы перворазрядные и второразрядные, интересы духа и интересы плоти, то, разумеется, нельзя не признать, что и способности, служащие удовлетворению этих интересов, могут быть перворазрядными и второразрядными, благородными и неблагородными. На каком разумном основании допускается подобная градация, – этого до сих пор никто еще не объяснил, между тем практические ее последствия столь важны, что невозможно не остановиться на них.
Задавшись понятием о высших и низших способностях, мы весьма естественно приходим к тому, что людей, обладающих высшими способностями, разумеем людьми высшими, а людей, одаренных так называемыми низшими способностями, разумеем за людей низших. Первые приобретают право господствовать и управлять, вторые осуждаются на служение и подчиненность. Здесь лежит, так сказать, первое зерно неравноправности, которое впоследствии история, с свойственною ей неумолимостью, развивает до крайних результатов. Являются вожди, герои, воины, администраторы, ученые, художники, которым противопоставляется масса, то есть торгаши, ремесленники, земледельцы. За первыми остается звание высших организмов, вторые жалуются в скромное звание организмов низших. Но это разделение людей на овец и козлищ, хотя и опирающееся на основание фантастическое, было бы еще терпимо, если б оно всегда продолжало быть случайным. Говорю «терпимо», потому что различие, принятое добровольно (в первые минуты возникновения оно всегда основывается на общем добровольном заблуждении), все-таки сказывается не так жестко и не полагает между людьми слишком резких перегородок. Но в том-то и дело, что оно не может оставаться случайным, не может самым естественным путем не приобрести того искусственного характера, которого содержание всецело выражается словами: принуждение и несправедливость. Для людей низшего сорта утрачивается возможность доступа в число людей высшей категории не только лично, но и потомственно. Изъятые от участия в высших интересах жизни, осужденные вращаться в сферах деятельности менее блестящей, эти люди привыкают смотреть на себя как на отверженников, и не только на себя, но и на детей своих. Эти дети с самого рождения своего окружены тою же атмосферою, в которой живут и отцы их; способности их, в свою очередь, приобретают ту фаталистическую складку, которая налагается всею обстановкою их жизни и сгладить которую с каждым новым поколением делается все менее и менее возможным. И таким образом утверждается на незыблемых основаниях наследственность ремесл, званий и состояний, прямое последствие которой заключается не только в нравственном страдании масс, но и в страшной неурядице экономической и политической.
Итак, вот к какому очень положительному практическому результату может привести признание за исходный жизненный пункт такого начала, которое само по себе имеет содержание совершенно произвольное. Если б спор о борьбе добра и зла, о высших и низших побуждениях и т. п. не выходил из тесной семьи моралистов, то на него можно было бы смотреть, как на куриоз, не причиняющий никому вреда, но в том-то и дело, что все такого рода убеждения ищут себе арены более широкой, стремятся вторгнуться в живую жизнь человечества и усиливаются организовать ее на свой манер. Но здесь я покамест остановлюсь.
Как кому угодно [88]88
Сочинению этому должны предшествовать два письма, которые, быть может, и появятся впоследствии. ( Прим. M. E. Салтыкова.)
[Закрыть] *
Рассказы, сцены, размышления и афоризмы
IСлово к читателю
Всегда меня удивляло, как это люди не исполняют своего долга. * Как известно всем и каждому, вся жизнь человеческая есть не что иное, как непрерывное служение всякого рода обязанностям, которые для блага нашего придуманы и кем следует утверждены. Человек родится – его долг уважать родителей. Человек поступает в школу – его долг прилежно учиться и уважать наставников, человек женится – его долг руководить и наставлять жену, поступает на службу – его долг прилежно служить, хранить канцелярскую тайну и уважать начальников, человек приобретает детей – его долг любить их и внушать им понятия о долге, дабы и они, в свою очередь, и своим детям преподали таковые же. Если спросят меня, каким образом понятие о долге образовалось, – я откровенно отвечу: не знаю. Поэтому я никогда и не рассуждаю, а только огорчаюсь, когда вижу людей, относящихся к обязанностям своим с небрежением.
Всякое общество имеет свои алтари, свои краеугольные камни, около которых группируется, на которые устремляет свои взоры * . Если мне кто-нибудь говорит: «поступать таким, а не иным образом повелевает долг чести», – то я, коли хотите, не понимаю этого, однако понимаю; или, лучше сказать, я понимаю потому, что не могу не понимать. И несмотря на то что здесь, по-видимому, скрывается некоторый каламбур, всякий, кто захочет глубже вникнуть в дело, поймет, что я совсем не о каламбуре хлопочу, но что это именно так и есть, как я говорю.
Люди, постоянно видящие перед собой беспрерывную цепь обязанностей, бывают бодры, худощавы, легки на подъем; нрав имеют во время исправления обязанностей озабоченный и суровый, а в свободное от сего исправления время – любезный и веселый; любят ходить в баню, охочи до женщин и обладают хорошим аппетитом, ибо всегда находятся в нравственном моционе. Напротив того, люди, небрегущие своими обязанностями, бывают ленивы, жирны и беспечны до такой степени, что даже не каждый день меняют белье; нрав имеют тихий, но не веселый; любят напиваться пьяны и, опьянев, тотчас же ложатся спать; от этого сто́ит их после сна только взболтать, как они уже вновь пьяны без всякого видимого резона; умываются редко, и вследствие того имеют лицо, покрытое прыщами; до женского общества не охочи, потому что это возлагало бы на них обязанности; едят много, но без пользы, ибо тотчас же съеденное извергают. Замечено еще, что люди смуглые и черноволосые усерднее к исполнению обязанностей, нежели белокурые и с белым круглым лицом. *
Обе эти разновидности в чистом состоянии встречаются довольно редко; большинство людей в этом отношении представляет породу смешанную, то есть, отчасти по недосугу, а отчасти по неразумению, исполняют лишь некоторые обязанности, да и то не всегда с надлежащим рачением. От этого в природе очень мало встречается настоящих брюнетов и настоящих блондинов, а преобладает цвет каштановый. Впрочем, мне случалось видеть экземпляры исполнителей поистине нестомчивых, и все они оказывались, по справке, бывшими воспитанниками одного училища; с другой стороны, однажды мне привелось видеть на скотном дворе один образчик изумительнейшего равнодушия к своим обязанностям: скотник, обращаясь к нему, называл его «хавроньей». Бывает также, что люди, от природы не расположенные к исполнению обязанностей, препоборают себя сначала исподволь, а потом и более крутыми мерами, и, наконец, посредством долгой практики и мучительного труда приобретают то сокровище, которое другим баловням природы дается даром * .
Многие легкомысленные люди обращались ко мне с вопросом: каким образом исполнять обязанности в тех случаях, когда это невозможно? Так, например, возможно ли уважать отца-шулера и мать galante femme [89]89
Здесь: особу легкого поведения.
[Закрыть], возможно ли быть надежным супругом, когда чувствуешь в себе органическую несостоятельность? На все эти вопросы я всегда отвечаю одно: изыщи средства! Тем-то и важно служение долгу, что оно не только мышцам нашим готовое упражнение дает, но и остроту ума развивает, заставляя человека объяснять необъяснимое, делать возможным невозможное. Ибо, что же бы сталось с человеческим родом, если бы все сие доставалось даром, если б исполнять долг было бы столь же просто, как и производить различные естественные отправления? Сталось бы то, что человек бы забылся и в самом деле подумал бы, что жизнь есть не что иное, как приятное препровождение времени.
Иные еще более легкомысленные люди спрашивают: как поступать в том случае, когда исполнение долга неприятно? Этим я отвечаю кратко: принудь себя!
Наконец, легкомысленнейшие из легкомысленных говорят: зачем исполнять обязанности, коли и так хорошо? Этим я просто ничего не отвечаю.
Кажется, что после изложенных выше объяснений для каждого делается понятным, какую важную роль играет в жизни человека исполнение долга. А так как обязанности, в коих человеку упражняться предоставлено, разнообразны и многочисленны, и так как притом ум человеческий неистощим в изобретении для себя новых таковых же, то ясно, что жизнь человека усердного должна равняться поджариванью, на неугасимом огне производимому. Этому человеку всегда недосуг, ибо нет той минуты, которая не несла бы за собой и своей обязанности. Даже посидеть на месте некогда, а все должен бежать и поспешать.
А потому ни для кого не должно казаться удивительным, что писатели знаменитые посвящают свои сочинения именно этому предмету. Почему, например, Базаров кончил столь несчастливо? А потому именно, что не уважал родителей, смеялся над старшими и святое чувство дружбы попирал ногами. Почему юный Виктор Басардин (в романе «Взбаламученное море», не столько знаменитом, сколько пахучем) непременно должен скверно кончить? * А потому, что не уважал даже целомудрия губернаторши и, не оказывая никакого почтения к идее собственности, крал чужие золотые табакерки. Ясно, что человек, одаренный такими превратными понятиями, не только сам не может заслуживать уважения, но непременно должен кончить жизнь на каторге.
В предупреждение таких-то пагубных результатов, взялся и я за перо, любезный читатель. Не будучи в состоянии написать нравоучительный роман, я предпочитаю достигать своей цели посредством ряда доступных мне очерков, в которых поочередно будут являться люди, относящиеся равнодушно к самым необходимым человеческим обязанностям. Не скрою: я не всегда буду иметь возможность сослать моих героев в Сибирь или уморить их холерою, но не потому, чтобы это не зависело вполне от моего произвола, но потому, что мне нередко случалось самому видеть, что люди, преступавшие свои обязанности, не только пользовались почетом в обществе, но и состояли в немаловажных чинах. Но как бы ни удачно устроивали они свои дела, я все-таки уверен, что они когда-нибудь не уйдут от заслуженной казни. И я сочту себя вполне вознагражденным, если читатель, пробежав мои скромные, но правдивые очерки, сам изречет суд над героями их и мысленно распорядится ссылкою их в Сибирь.
IIСемейное счастье
21 июля, накануне своих именин, Марья Петровна Воловитинова * с самого утра находится в тревожном ожидании. Она лично надзирает за тем, как горничные убирают комнаты и устраивают постели для дорогих гостей.
– Пашеньке-то! Пашеньке-то! подушечку-то маленькую не забудьте под бочок положить! – командует она направо и налево.
– А Семену Иванычу где постелить прикажете? – спрашивает ее ключница Степанида.
– Ну, Сенечка пусть с Петенькой поспит! – отвечает она после минутного колебанья.
– А то, угольная порожнем стоит?
– Нет, пусть уж, Христос с ним, с Петенькой поспит!.. Феденьке-то! Матрена! Феденьке-то не забудьте, чтоб графин с квасом на ночь стоял!
– А перинку какую Семену Иванычу прикажете?
– Попроще, Степанидушка, попроще! из тех… знаешь? – отвечает Марья Петровна, томно вздыхая.
Сделав эти распоряжения, Марья Петровна удаляется в девичью, где ждет ее повар с разложенною на столе провизией.
– Я сегодня дорогих гостей к себе жду, Афоня! – говорит она повару.
– Слушаю-с.
– Так как же ты думаешь, что бы нам такое сготовить, чтоб дорогих гостей порадовать?
– На холодное галантир можно-с.
– Что это, господи! только и слов у тебя, что галантир да галантир!
– Как вам угодно-с.
– Нет, уж ты лучше… да что ты жуешь? что ты все жуешь?
Афоня проворно подносит ко рту руку и что-то выплевывает.
– Таракан залез-с! – отвечает он.
– Ах ты, дурной, дурной! (Марья Петровна решилась не омрачать праздника крепкими словами.) Верно, уж клюкнул?
– Виноват-с.
– Вот то-то вы, дурачки! огорчаете вы вашу старую барыню, а потом и заедаете всякой дрянью!
– Виноват-с.
– Ты бы вот, дурачок, подумал, что завтра, мол, день барынина ангела: чем бы, мол, мне ее, матушку, порадовать!
– Виноват-с…
– Молчать! Что ты, подлец, какую власть надо мной взял! я слово, а он два! я слово, а он два!.. Так вот ты бы и подумал: что бы, мол, такое сготовить, чтоб барыне перед дорогими гостями не совестно было! а вместо того ты галантир да галантир!
– Можно ветчину с горошком подать-с! – отвечает повар с некоторым озлоблением.
– Ну да; ну, хоть ветчину с горошком… а с боков-то этак котлеточек…
Марья Петровна высчитывает, сколько у нее будет гостей. Будут: Феденька, Митенька и Пашенька; еще будет Сенечка, но его Марья Петровна почему-то пропускает.
– Так ты три котлеточки к одному боку положи, – говорит она. – Ну, а на горячее что?
– Щи из свежей капусты можно сделать-с.
Марья Петровна рассчитывает; свежей капусты еще мало, а щи надобно будет всем подавать.
– Щи ты из крапивы сделай! или нет, вот что: сделай ты щи из крапивы для всех, да еще маленький горшочек из свежей капусты… понимаешь?
– Слушаю-с.
– А на жаркое сделай ты нам баранинки, а сбоку положи три бекасика…
– Можно-с.
– А пирожное, уж так и быть, общее: малиновый пирог! И я, старуха, с ними полакомлюсь!
Кончивши с поваром, Марья Петровна призывает садовника, который приходит с горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладывает их на четыре тарелки, поровну на каждую, и в заключение, отобрав особо самые лучше фрукты, отправляется с ними по комнатам дорогих гостей. Каждому из них она кладет в потаенное место по нескольку отборных персиков и слив, исключая Сенечки, около комнаты которого Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, как бы в борении, но выходит из борьбы победительницей.
Марья Петровна женщина очень почтенная; соседи знают ее за чадолюбивейшую из матерей, а отец Павлин, местный сельский священник и духовник Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов божиих. Марья Петровна сама знает, что она хорошая женщина, и нередко, находясь наедине с самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразных своих добродетелей. Сядет этак у окошечка, раздумается и даже всплакнет маленько. Всё-то она устроила: Сенечку в генералы вывела, Митеньку на хорошую дорогу поставила, Феденька давно ли из корпуса вышел, а уж тоже штабс-ротмистр, Пашенька выдана замуж за хорошего человека, один только Петенька… «Ну, да этот убогонький, за нас богу помолит! – думает Марья Петровна. – Надо же кому-нибудь и богу молиться!..» И все-то она одна, все-то своим собственным хребтом устроила, потому что хоть и был у ней муж, но покойник ни во что не входил, кроме как подавал батюшке кадило во время всенощной да каждодневно вздыхал и за обедом, и за ужином, и за чаем о том, что не может сам обедню служить. А храмы-то, храмы-то божий! тогда-то Марья Петровна пелену на престол пожертвовала, тогда-то воздухи прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила… Как вспомнит это Марья Петровна, да сообразит, что все это она, одна она сделала, и что вся жизнь ее есть не что иное, как ряд благопотребных подвигов, так у ней все внутри и заколышется, и сделается она тихонькая-растихонькая, Агашку называет Агашенькой, Степашку – Степанидушкой, и все-то о чем-то сокрушается, все-то благодушествует.
У Марьи Петровны три сына: Сенечка, Митенька и Феденька; были еще две замужние дочери, но обе умерли, оставив после себя Пашеньку (от старшей дочери) и Петеньку (от младшей).
Сенечка, как сказано выше, уже генерал (разумеется, штатский) и занимает довольно видный пост в служебной иерархии. Начальники Сенечки не нахвалятся им; мало того что он держит в страхе своих подчиненных, но, что всего драгоценнее, сам повиноваться умеет. Окончив с успехом курс в училище правоведения * , Сенечка с гордостью мог сказать, что ни одного чина не получил за выслугу, а всё за отличие, и, наконец, тридцати лет от роду довел свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденным наградить его чином действительного статского советника. Поздравляя его с этой наградой, Сенечкин начальник публично улыбнулся и назвал его général-enfant [90]90
генерал-ребенок.
[Закрыть], а Сенечка, с своей стороны, разревновался до того, что в один год сочинил пять проектов, из коих два даже по совершенно постороннему ведомству. Начальство просто растерялось и не знало, как наградить молодого генерала. Сенечка же, с своей стороны, слушая со всех сторон себе похвалы, застенчиво краснел, что придавало еще более цены его усердию. Я не читал сочиненных Сенечкою проектов, но, признаюсь, очень хотел бы почитать их. А так как, с другой стороны, мне достоверно известно, что все они кончались словами: «вменить начальникам губернии в обязанность» и т. д., то, положив руку на сердце, я с уверенностию могу сказать, что содержание их мне заранее известно до точности, а следовательно, и читать их особенной надобности для меня не настоит.
Итак, со стороны службы, Сенечка был счастлив; он имел прекрасный, шитый золотом мундир, был баловнем своих начальников, служил предметом зависти для сверстников и примером подражания для подчиненных. Сверх того, он имел очень приятную наружность и те прекрасные манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правоведения. И в наружности, и в манерах его прежде всего поражала очень милая смесь откровенной преданности с застенчивою почтительностью; сверх того, он имел постоянно бодрый вид, а когда смотрел в глаза старшим, то взгляд его так отливал доверчивостью и признательностью, что старшие, в свою очередь, не могли оторвать от него глаз и по этой причине называли его василиском благонравия. Замечательно, что до всего этого он дошел своим собственным умом, без малейшей протекции, потому что maman Воловитинова хотя была женщина с состоянием, но жила безвыездно в деревне и никаких знатных связей не имела. Понятно, что, видя такие качества, начальники были без ума от него. Поэтому Сенечка мог дерзать в будущем очень далеко, и хотя предположений своих по этому предмету не высказывал, но я знаю, что и он был не чужд мечтаний. Я знаю, например, что нередко ему снились мундиры самых разнообразных цветов и покроев, но всегда с великолепным шитьем; однажды он даже увидел себя во сне сплошь утыканным павлиньими перьями, которые так и играли на солнце всевозможными радужными цветами. Сон оказался вещун, потому что на другой же день его представили к награде. Повторяю: Сенечка был счастлив. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось в том, что он никак не мог пленить сердце маменьки Марьи Петровны. По-видимому, он заключал в себе все данные для увеселения материнского сердца; по-видимому, он был и благонравен, и почтителен, не пропускал ни одного праздника, чтоб не пожелать милой маменьке «встретить его в полном душевном спокойствии и в той сердечной тишине, которых вы, милая маменька, вполне достойны», однако материнское сердце оставалось холодно к нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не «утешалась» им: когда он в первый раз приехал к ней показаться в генеральском чине, она даже потрепала его по щеке и сказала: «Ах, ты мо-ой!», но денег не дала и ограничилась ласковым внушением, что люди для того и живут на свете, чтобы друг другу тяготы носить.
– Маменька, мне надо будет мундир новый сшить! – сказал Сенечка, думая деликатным образом дать понять об истинной цели своего посещения.
– Сшей, душенька, сшей! – снисходительно отвечала Марья Петровна, а денег так-таки и не дала.
Соседи всячески истолковывали себе причины холодности Марьи Петровны к своему первенцу. Приплетали тут и каких-то двух офицеров Пошехонского пехотного полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сенечка первый и единственный сын своего отца и что Марья Петровна, не питавшая никогда нежности к своему мужу, перенесла эту холодность и на сына; некоторые доходили в своих догадках даже до того, что утверждали, будто бы Сенечка, будучи еще грудным ребенком, имел уже четыре зуба и однажды пребольно укусил ими мамашину грудь, и что с тех пор Марья Петровна забрала себе в голову, что этот сын будет ей злодеем.
Я, с своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смея ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеров и аптекаря (потому что и сам этого обстоятельства не привел в положительную известность), я удостоверяю, однако ж, что, при врожденной почтительности, Сенечка никак не позволил бы себе укусить мамашину грудь даже в таком случае, если б челюсть его была полна зубов, как у щуки. Я объясняю себе (заметьте: не оправдываю, а только объясняю) холодность Марьи Петровны несколько иначе: она была женщина простая, деятельная и весьма сообразительная; Сенечка же, напротив того, был молодой человек вычурный, лимфатический и слегка словно пришибенный. Марья Петровна любила, чтоб у нее дело в руках горело; Сенечка любил всякое дело обсудить, то есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его с три короба всякого рода предварительных пошлостей. Марья Петровна терпеть не могла, когда к ней лезли с нежностями, и даже целование руки считала хотя необходимою, но все-таки скучною формальностью; напротив того, Сенечка, казалось, только и спал и видел, как бы ему влепить мамаше безешку взасос, и шагу не мог ступить без того, чтобы не сказать: «вы, милая маменька», или: «вы, добрый друг, моя дорогая маменька». Весьма натурально, что, будучи от природы нетерпелива и не видя конца речи, Марья Петровна выходила наконец из себя и готова была выкусить язык этому «подлецу Сеньке», который прехладнокровно сидел перед нею и размазывал цветы своего красноречия. «Как начнет он это разводить, да размазывать, да душу из меня выматывать, как начнет это свои слюни распускать, – говаривала Марья Петровна по этому случаю, – так поверите ли, родная моя, я даже свету невзвижу; так бы, кажется, изодрала ему рот-то его поганый, чтоб он кашу-то эту из себя скорей выблевал!» Когда Марья Петровна ела, то совсем не жевала, а проглатывала пищу, как щука; напротив того, Сенечка любил всякий кусок рассмотреть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцем, и к довершению всего, разрезывал кушанье на маленькие кусочки, а с огурца непременно срезывал кожу. Поэтому, когда им случалось вдвоем обедать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она как ужаленная выскакивала из-за стола и, не говоря ни слова, выбегала из комнаты, а Сенечка следом за ней приставал: «Кажется, я, добрый друг, маменька, ничем вас не огорчил?» Наконец, когда Марья Петровна утром просыпалась, то, сплеснув себе наскоро лицо и руки холодной водой и накинув старенькую ситцевую блузу, тотчас же отправлялась по хозяйству и уж затем целое утро переходила от погреба к конюшне, от конюшни в контору, а там в оранжерею, а там на скотный двор. Сенечка, напротив того, и спал как-то не по-человечески: во-первых, на ночь умащал свое лицо притираньями, во-вторых, проснувшись, целый час рассматривал, не вскочило ли где прыщика, потом целый час чистил себе ногти, потом целый час изучал перед зеркалом различного рода улыбки, причем даже рот как-то на сторону выворачивал, словно выкидывал губами артикул. Хоть Марье Петровне до всего этого было очень мало дела, потому что она и не желала, чтоб дети у ней в доме чем-нибудь распоряжались, однако она и на конюшне, бывало, вспомнит, что вот «Сенька-фатюй» теперь перед зеркалом гримасы строит, и даже передернет ее всю при этом воспоминанье. Одним словом, встречаясь в жизни на каждом шагу, они не только не могли ни в чем сойтись, но положительно и постоянно точили друг друга. Ясно, что причина этого явления лежала совсем не в офицерах Пошехонского полка, но объяснялась гораздо проще. Они видеть друг друга не могли без того, чтоб мысленно не произнести – она: «Ах, если б ты знал, как меня от одного твоего вида тошнит!», он: «Ах, если бы ты знала, с каким бы я удовольствием ноги своей сюда не поставил, кабы только от меня это зависело!» Какой же тут аптекарь! тут просто люди не понимают друг друга, потому что говорят на разных языках!
Однажды Сенечка насмерть перессорился с маменькой из-за бани. Приехавши летом в отпуск, вздумал он вымыться в баньке и пришел доложить об этом маменьке. Он тогда только что был произведен в статские советники и назначен вице-директором какого-то департамента.
– У меня есть до вас, милая маменька, большая просьба! – приступил Сенечка, по своему обыкновению, с предисловия.
– Говори, мой друг!
– Вы меня извините, добрый друг, маменька, только что я приехал и решаюсь уже вас беспокоить…
– Говори, мой друг!
– Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мне расположение, и как вы всегда были снисходительны ко всем моим нуждам…
– Да говори же, дурак!
– Я, право, не знаю, дорогая маменька, чем я мог заслужить ваш гнев…
– Долго ли ты меня притеснять будешь? долго ли тебе мной командовать-то?








