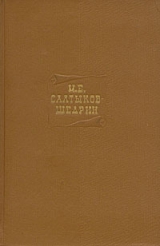
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 57 страниц)
– Гм… так идет хорошо? – обратился я к мужичкам.
– Что такое идет? что такое идет? – залотошил один из них испуганным голосом и озираясь по сторонам.
– Mais laissez, mais laissez donc! – вступился мой приятель. – Ce sont des enfants de la nature… est-ce-qu’ils savent, est-ce-qu’ils comprennent ces choses là! [96]96
Оставьте, оставьте же! Это дети природы… разве они знают, разве они понимают такие вещи!
[Закрыть]
И действительно, прожив у приятеля моего более месяца, я имел случай убедиться, что «дети природы» положительно ничего не понимают и что многоболтаевские условия исполняются самым оригинальным образом. Несколько раз обращался я к многоболтаевским крестьянам с вопросом, знают ли они, что у них есть права, и всюду встречал непроходимейшее на этот счет невежество.
– Какие такие права? – спрашивали меня крестьяне с некоторым остолбенением.
– Ну, хоть бы, например, насчет отлучек? имеете ли вы право во всякое время отлучиться для заработков?
– Да коли взнес вперед оброк, можно!
– Ну, а еще когда?
– А еще, коли ты не пьяница!
– Ну, а еще?
– А еще, коли ты ни в чем не замечен!
– Как ни в чем не замечен?
– Так, не замечен, да и все тут! а коли замечен, так и вида на отлучку ни в жизнь не дадут!
Признаюсь, этот последний ответ несколько смутил меня и охладил мой энтузиазм к многоболтаевскому либерализму. Что такое значит «ни в чем не замечен»? – долго ломал я себе голову и, конечно, едва ли пришел бы когда-нибудь к удовлетворительному разрешению этого вопроса, если б в одно прекрасное утро меня сама собой не осенила счастливая мысль, что «ни в чем не замечен» просто означает «ни в чем не замечен» – и больше ничего.
В самом деле, кто может исчерпать всю глубину иронии, заключающейся в этих словах? кто может провидеть все разнообразие случайностей, которое в них скрывается? Ты отставил вперед ногу – замечен («где у тебя ноги? где у тебя ноги?»); ты тряхнул кудрями – замечен («что ты, стоять, что ли, спокойно не можешь?»); ты заявил в голосе некоторую крамольную хрипоту – замечен («ишь ты! ведь и голос-то у них…словно вот змея шипит… словно вот так пронизать и хочет!»); ты походкой изобразил некоторое волнение чувств – замечен («куда, куда ты так бежишь! затылком, что ли, нагрубить хочешь!»). Ясно, что при таких условиях всякие вольности могли процветать во всей безопасности. Мало того, процветать: они могли даже не процветать вовсе, и никто бы этого не заметил…
Однажды из окна барской усадьбы я увидел перед «домом многоболтаевского общественного управления» огромную толпу. Спрашиваю: что это такое? отвечают: многоболтаевская сходка – ну, как же не взглянуть!
– У меня все это, mon cher, в порядке, – сказал мне при этом мой либеральный друг, вместе со мной любовавшийся видом размахивавшей руками толпы, – у меня ничего по имению, ничего без нихне делается! обо всем онидолжны свое слово сказать! У меня, mon cher, по-старинному… вот как!
Мучимый любознательностию, я осторожно подошел к толпе, чтобы не спугнуть ее своим появлением и не мешать выборным людям многоболтаевской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но увы! сходка уже подходила к концу, и я мог слышать только заключительные слова речи, которую произносил Иван Парамоныч:
– Рожна, что ли, вам надобно! черти вы! право, прости господи, черти!
Выборные молчали; только по местам слышались какие-то глубокие, сосредоточенные вздохи.
– Что ты вздыхаешь! что ты вздыхаешь! утробу, что ли, до свету набил, – обращался Иван Парамоныч, прозорливо подмечая, из чьей груди вылетал карбонарский вздох. – Вот я те набью!
– Что набивать-то! чем набивать-то! – слышалось в ответ.
– То-то «набивать»! Вас милуют, так вы и тово… на дыбы сейчас! пошли вон, подлецы!
Сходка начала медленно расходиться, но зато через два часа перед приятелем моим стоял Иван Парамоныч и докладывал ему следующий приговор: лета 18… маия «» дня, я, помещик и коллежский асессор Николай Петров Многоболтаев, приказал, а выборные положили: имев рассуждение, что для пополнения запасных хлебных магазинов собирается ежегодно со всех многоболтаевских мирских людей хлебная пропорция и что сие неудобно, заблагорассудили ввести у себя общественную запашку * отныне навсегда, для чего определяют и т. д. и т. д.
– Однако ведь они, mon cher, совсем не желают этого! – возразил я, все еще питая некоторую веру в многоболтаевские вольности.
– Mais laissez donc, laissez donc, mon cher! [97]97
Оставьте, оставьте же, дорогой мой!
[Закрыть]разве они понимают! – сказал мне мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.
– Не́што они что разумеют! – поддакнул, с своей стороны, Иван Парамоныч.
И приговор был подписан, но я все-таки не мог успокоиться. Несмотря на происшествие с приговором, я все чего-то доискивался, все еще продолжал делать наблюдения.
Увы! я должен сказать правду, что мало утешительного вынес из этих наблюдений. Во-первых, я убедился, что выборные многоболтаевцы, занимавшие должности в общественном управлении, проводили время, собственно, в том, что топили печи в доме общественного управления и по очереди в нем ночевали, совокупляя таким образом в себе и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не гордились честью участвовать в многоболтаевских делах, но даже положительно тяготились ею.
– И для чего только нас держут! – сказал мне один из них, внезапно обнаруживая какую-то тоскливую доверчивость.
– Как же для чего, мой друг (защитникам многоболтаевских интересов я всегда говорил не иначе, как «мой друг» или «голубчик»)! Ведь вот теперь вам дал Николай Петрович права…
– Права-то?
– Ну да, права… как же ты, голубчик, не понимаешь этого?
Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.
– Ну? – сказал он.
– Ну да, права, – повторил я.
– А Иван Парамоныч-то что? – спросил заседатель.
Я смешался еще более.
«Однако вы таки бестии!» – подумал я и на первый раз так на этом и порешил, все еще надеясь, что когда-нибудь, со временем, «бестии» все-таки придут в себя.
Но мне не пришлось этого дождаться. Через полгода я встретил Николая Петровича в Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:
– Ну что, как ваши деревенские дела?
Николай Петрович махнул рукой.
– Гм… – сделал я.
– Бросил! – отвечал мой приятель.
Признаюсь, я готов был обвинить моего друга в ретроградстве, в недостатке энергии, в совершенном отсутствии инициативы… Я почти готов был задушить его!
– Mon cher! не обвиняйте меня! – сказал он кротко.
– Да нет, Николай Петрович! это была ваша обязанность! вы должны были персеверировать * !
– Нельзя! – возразил он мне самым решительным тоном. – Они ничего не понимают!
И вслед за тем он рассказал мне трогательную историю своих усилий и ихнепониманий.
– Бестии! – произнес я решительно.
– C’est le mot! [98]98
Вот именно!
[Закрыть]
– Что ж вы сделали?
– Велел Ивану Парамонычу действовать решительно…
. . . . . . . . . .
Так вот каков был наш землевладельческий либерализм. Мудрено ли, что он и поприскучил наконец! – Тем более прискучил, что то, что составляло предмет его, уже осуществилось, а нового предмета для переливанья из пустого в порожнее мы еще не выдумали, да вряд ли и выдумаем когда-нибудь.
Но, возвращаясь вновь к землевладельцу, добровольно заключившему себя на лето в деревню, я все-таки нахожу, что положение его очень затруднительно. Сельским делом он заниматься не может, потому что это не его дело; грибы брать не может, потому что на этом поприще его обижают русские бабы; кабинетным делом заняться не может, потому что летом дома не сидится, да и неестественно; либеральничать не может… Стало быть, остается лениться и гулять, что землевладельцы и исполняют, что исполнял и я в течение всего минувшего лета.
В чем же, однако, состоит это «сельское дело», к которому никак не может пристроиться землевладелец, и что за люди, которые им занимаются? Я могу отчасти отвечать на эти вопросы, потому что и гуляя все-таки успел кой-что заметить.
«Сельское дело» – не веселое дело, читатель! Все оно вертится около земли и заключается в разнообразном уходе за нею. Если вы видите человека, идущего за сохою или бороною, возящего навоз, копающего канаву, разработывающего торф и т. д. и т. д., то можете с уверенностью сказать себе: это человек, который занимается сельским делом! Картина простолюдинов и простолюдинок, собравшихся для исполнения своих обязанностей, всегда бывает довольно привлекательна. Вот, например, мужички рассыпались группами по пашне; рубашечки на них белые, порточки синие; ветер играет их волосами; ходят они, ходят себе по пашенке… ну, вот так и кажется, что гуляют! Или вот вам жнитво; опять живописные группы поселянок в длинных белых рубашках, быстрые и дружные взмахи серпов, золотые колосья ржи… Господи! да, никак, и они гуляют! Даже когда поселяне длинной вереницей тянутся на пашню с навозом, даже и тогда можно скомпоновать очень миленькую картинку, потому что навоз ведь на картинке не пахнет, да и пейзаж-то уж кстати изображается в миниатюре, а не в натуральную величину (в натуральную-то величину принято изображать баталии, а не сельские виды, за что я и похваляю живописцев, потому что они в этом случае следуют прямым указаниям эстетического чувства).
Но пускай зритель не слишком увлекается очаровательною картиной, пускай он раз навсегда убедит себя, что глаза его лгут, что художник, срисовавший картину, тоже делает дело неправедное, и что в сельской жизни нет ни прелестных пейзажей, ни восхитительных tableaux de genre [99]99
жанровых картин.
[Закрыть], a есть тяжелый и невзрачный труд.
Дабы читатель вполне мог освоиться с этою мыслью, опишу здесь некоторые из поселянских занятий.
Сенокос. Когда поселянин приступает к сенокосу, то у него после первого же опыта до такой степени начинает болеть правое плечо, что он несколько дней чувствует его как бы вывихнутым. По-видимому, находясь в таком положении, он не может продолжать свою работу, однако он ее продолжает и впоследствии даже перестает ощущать боль, из чего остроумный медик может вывести заключение, что самое лучшее средство от вывиха есть постоянное повторение того же вывиха. Кроме этого неудобства, есть еще другое: чтобы косить успешно, необходимо с каждым взмахом косы употреблять известное усилие, равняющееся, по крайней мере, тому, которое употребляет человек при поднятии пудовой тяжести. Таким образом, предположив, что простолюдин косит в день шесть часов (работа эта производится обыкновенно ранним утром, покуда роса не обсохла) и что он в течение каждого часа, с прохладой и разговорцем, сделает только сто взмахов косой, то из этого следует, что он в какие-нибудь шесть часов времени: а) вывихнет себе плечи и б) сделает усилие, равняющееся поднятию шестисот пудов тяжести. Цена: тридцать копеек серебром (цене красная, потому что за круглый день работы поденщик получает не более 75 к. сер., а постоянный работник и того не получает). Следовательно, если глаз в это время нам показывает, что эти люди гуляют, то он самым постыдным образом врет: эти люди не гуляют, а предаются самому тяжкому мучению для того, чтобы после двух часов отдыха предаться другому, еще более тяжелому.
Сушка сена. Производится в течение целого дня, начиная с девяти часов утра, то есть с той минуты, когда обсохнет роса, и часов до осьми вечера, когда воздух вновь начинает делаться влажным.
Вся работа, за исключением отдыхов, продолжается часов восемь. Бабы, убравшись дома (встают они, неугомонные, часов с трех и успевают до девяти и в лес за грибами и за ягодами сбегать, и коров подоить, и пищу для всей семьи приготовить) и, вооружившись граблями, выходят на скошенный луг и начинают сушить сено. Когда время бывает хорошее (и это случается именно тогда, когда солнце палит во всю мочь), то бабы бывают мокры и изнурены от жара и усилий, делаемых ими при беспрерывном взбрасывании клочьев сырого сена. Предположив, что каждый взмах грабель равносилен усилию, делаемому при поднимании 10 фунтов (самые грабли весят не менее), и что подобных взмахов, при быстроте работы, баба делает до 180 в час, окажется, что в течение восьми часов работы она поднимет тяжести до трехсот шестидесяти пудов. Согласитесь, что для особы прекрасного пола, набегавшейся при этом целое утро по домашнему хозяйству, это цифра весьма почтенная, в особенности если принять в соображение, что во время полдневного жара и гулять-то тяжеленько. Тем не менее когда бабы возвращаются вечером с сенокоса домой, то всегда деребят песни. Это я приписываю их простосердечию.
Разработка торфа. Во время этой операции простолюдины, в ней действующие, находятся по пояс в густой и клейкой массе, которую и утаптывают ногами. Находясь постоянно в сырости и вдыхая болотные испарения, эти люди к концу лета почти теряют человеческий образ. Операция эта до того отвратительна, что наши москвичи положительно ею гнушаются и предоставляют ее дикарям – калужанам и рязанцам.
Рубка леса и дров. Присутствующий при этой работе явственно слышит, как одновременно с каждым ударом топора раздается какой-то особенный звук, не имеющий себе подобного в мире звуков. Это охает сама утроба работающего, это стонет его нутро от натуги и напряжения.
И т. д. и т. д.
Нет сомнения, что я долго не кончил бы, если б вздумал перечислять одно за другим все обычные телесные упражнения, которым предается простолюдин вообще, и русский в особенности, но думаю, что и приведенных выше примеров весьма достаточно, чтоб убедить читателя, что здесь дело идет совсем не об гулянье.
Гораздо более интересным представляется вопрос: как принимает простолюдин все эти упражнения? ропщет ли на судьбу свою? Но признаюсь откровенно, я имею слишком мало фактов, чтоб отвечать на эти вопросы вполне положительно. Однако же, судя по тому, что бабы, возвращаясь с работ, деребят, а мужики горланят, я полагаю, что для них это положение кажется не вовсе горьким. Это хорошо. Во-первых, звуки песни разнообразят деревенскую обстановку и услаждают слух; во-вторых, несравненно приятнее, если крестьяне простосердечны, разговорчивы и веселы, нежели тогда, когда они смотрят исподлобья и угрюмо помалчивают, да еще, сохрани бог, грубят. Почти совершенное отсутствие грамотности, думаю я, служит в этом случае прекраснейшим подспорьем для придания простолюдину бодрости и содержания его постоянно в хорошем расположении духа. Ибо известно, что как только простолюдин начинает понимать буки-аз-ба, то он в то же время незаметно и постепенно наполняется ядом, так что когда дело дойдет до ижицы, то из прежнего кроткого и доверчивого весельчака образуется фиал, наполненный ехиднейшим ядом. Это не я первый говорю; это еще прежде меня выразил известный знаток русской народности г. Даль.
Итак, должно заботиться о том, чтоб простолюдины постоянно сохраняли добрый и беспечный вид. А для того, чтоб достигнуть этого, самое лучшее средство – это внушать простолюдинам, что праздность есть мать всех пороков. Они насчет этого народ толковый – поймут сразу; тем скорее поймут, что ведь за них ихней работы никто не сработает. Так им и можно это объяснить: «Послушай, милый Иван! вот ты третьего дня гулял – кто же за тебя пашню-то вспашет?»
Некоторые думают, что хорошо также по временам доставлять простолюдинам некоторые недорогие удовольствия. Указывают в особенности на вино, как на такое средство, которое ближе других достигает цели. Я сам думаю, что это хорошо, да и мужички, кажется, согласны со мной, потому что каждый раз, как я проезжаю мимо любого питейного дома, вижу на крылечке толпу простолюдинов, до того разрумяненных Вакхом, что издали кажется, будто бы лица их обожжены молнией. В этом положении простолюдин любезен и приветлив, но в то же время не совсем твердо стоит на ногах. Разумеется, однако, что, ввиду главной цели, на это последнее обстоятельство не следует обращать никакого внимания. Главное, чтоб простолюдин был приветлив и не кручинился, а как это в нем происходит и шатается ли он или не шатается – до этого, конечно, дела нет.
Надо сказать правду: наш мужичок не чувствует никакого отвращения к вину. С тех пор как объявлена ему воля, он часто празднует и, по своему простосердечию, праздники эти ознаменовывает преимущественно употреблением вина. По этой-то, быть может, причине в настоящее время почти нет деревни, сколько-нибудь похожей на деревню, в которой бы не бросилась в глаза вывеска: «Навынос и с распитием». По крайней мере, так оно ведется у нас в Московской губернии, и нет сомнения, что заведется со временем и в других, так как Москва вообще дает тон в делах этого рода и сверх того приючает у себя на лето сотни тысяч захожих мужиков из Калужской, Тульской, Рязанской, Тверской и Владимирской губерний, которые сначала являются совершенно необнатуренными, но потом мало-помалу присматриваются и, по врожденной русскому человеку переимчивости, возвращаются домой совершенно вышлифованными.
Когда существовало крепостное право, мужички наши совсем не знали праздников. Барщина и различные другие требования делали то, что свободного времени оставалось у них чрезвычайно мало, и потому работать в праздник грехом не считалось. Понятно, что как скоро получилась возможность управляться дома с большею свободою, то и праздник стал соблюдаться строже. Сверх того, мужички наши, когда были крепостными, совсем ни об чем не думали, а думал за них помещик; теперь же завелись у них свои мужицкие дела, которые и решаются преимущественно в праздник. Решаются они по большей части таким образом: соберутся мужички на сходку (обыкновенно поближе к вывеске, если таковая есть, или к какому-нибудь отставному солдатику, который держит вино про себя, но с удовольствием ссужает им за деньги и своих односельцев) и ждут, не провинится ли кто-нибудь. Заведут этак тонким манером речь об запасной магазее и ожидают, не обзовет ли кто-нибудь хлебного смотрителя вором. Разумеется, на миру не без желчных людей; сейчас же выищется такой, который не вытерпит и скажет: «Да ведь Егор Антипьев известный вор!» Не успеет он это вымолвить, как его тут же сграбастают и в питейный дом: ставь четверку или полведра, тогда простим, а не поставишь – засудим! И ставит желчный человек, и благо ему, если он сам тут же не напьется, ибо в противном случае он непременно обругает мир чертями, жидами и кровопивцами, – ну, тогда и опять ставь четверку или полведра. Не знаю, правда ли, но сказывали мне, что бывают такие бедные макары, которые почти каждый праздник подобной операции подвергаются, и что в то же время выискиваются такие смышленые люди, которые рта не разожмут на сходке и все поджидают, все поджидают, не провинится ли кто-нибудь. И бывают эти смышленые люди каждый праздник отлично пьяны на чужой счет и потом целый день слоняются по деревне и всё ругаются: и ворами, и чертями, и кровопивцами – это ничего, это можно, потому что не на сходке.
Случалось мне иногда говорить мужичкам: уж если у вас, мои милые, такое пристрастие к штрафам, так не лучше ли штрафовать деньгами в пользу школы или другого общеполезного устройства? Но всегда на мои увещания встречал одинаковый, лаконический ответ: «дерьма́-то!»
Когда не бывает провинившихся, то представляется и другое средство для выпивки – это по́мочь * . Работать в праздник грех, но помогать ближнему – дело благое, особливо если впереди предстоит за это выпивка. Здесь вполне выразился любвеобильный славянский характер, и разумеется, не я буду порицателем этой любвеобильности. Преимущественно делают помочи помещики, потому что есть такие хозяйственные работы, которых с помощию ограниченного числа своих вольнонаемных рабочих ни под каким видом не выполнишь. Таковы, например, кошение и уборка сена, где, для успеха дела, требуется одновременное участие нескольких десятков рук. Помочи обходятся довольно дешево и притом в настоящее цивилизованное время не представляют никаких хлопот. Прежде нужно было в подобных случаях посылать за несколько верст за вином, печь пироги, варить щи; нынче все это упрощено: кабак всегда под рукою, и мужички приглашаются прямо туда; там разлюбезный целовальник поднесет им вина и подаст закуску в виде черствых французских булок; бабы получают или пиво, или чай, что стоит никак не дороже 7 копеек на человека. Из этого следует, что наши землевладельцы и доныне еще вынуждаются прибегать к пособию соседей и что поэтому действительный расчет в наших хозяйствах составляет еще весьма большую редкость.
Теперешние питейные дома совсем не то, что прежние. Это просто харчевни или постоялые дворы, в которых совсем нет казенного характера и в которых мужички собираются побеседовать по душе. Это почти что клубы, но, разумеется, обстановка их не так великолепна, как в московском английском. Прежний целовальник был почти что чиновник, нынешний – не больше как приятный собеседник. От этого в клубах царствует совершенная непринужденность. Кроме вина, имеется чай, пиво и закуска, заключающаяся в неизменной селедке. Только такой селедки не приведи бог никому есть. Я убежден, что селедки эти родятся, исключительно имея в виду русского простолюдина, и что только этот последний может оказывать им внимание. Какие цены берет с простолюдинов любезный целовальник – об этом даже сказать непристойно. Вино, например, он покупает в Москве по 3 р. 5 к. за ведро, а с провозом до места оно обходится ему до 3 руб. 14 к.; продажная цена: навынос 3 р. 80 к., с распитием – 5 р., а так как больше всего продается вино с распитием, то барыш оказывается почти неслыханный. Селедка обходится содержателю в покупке не больше 2 к. с., а в продажу пускается по 5 к.; фунт чаю стоит 90 к. (от этого чаю вяжет во рту, как от черемухи), а три фунта сахару 75 к., по разделении же на парыэтот материал продается, по крайней мере, за 5 р. В одной деревне, где прежде не было питейного дома и откуда, следовательно, мужичок, желавший напиться, должен был дожидаться базарного дня и ехать в Москву, с апреля месяца нынешнего года открыто заведение и в нем продано вина, в течение каких-нибудь 5-ти месяцев, с лишком 8 бочек. На одном этом предмете содержатель получил, стало быть, барыша около 350 р., а между тем патент стоит 10 р., а арендная плата за помещение 100 р. в год; следовательно, за свой труд содержатель с женой имеют полное право рассчитывать на годовое вознаграждение до 600 р. на одном только вине. А в этой деревне нет ни фабрик, ни заводов, ни многочисленного пришлого народа. Кто же выпил такое огромное количество вина? – А всё свои мужички, по милости божией, выпили-с, отвечают вам. А своих мужичков и всего-то наберется не больше полутораста душ, да в соседних деревнях около того же количества – вот и думайте тут! Для того чтоб привлечь к себе мужичков из соседних деревень, содержатели питейных домов употребляют хитрость: жертвуют на деревню от полуведра до ведра вина и таким образом на целый год приобретают себе обязательную практику и получают возможность продавать вино по той цене, какую бог на душу положит. Мужички, пропившие этим порядком свою деревню, свято соблюдают обязательство и строго надсматривают друг за другом: чуть у кого прочуют косушку вина, купленную не в заветном кабаке, сейчас тому суд и расправа, и волокут его, раба лукавого, в тот же кабак, и идет у них тут пир горой до поздней ночи.
Собираясь в своих клубах, мужички занимаются оживленною беседой, но обыкновенно беседуют отрывисто и маловразумительно.
– Говорю тебе, любезный друг, – сказывает один, – уж я коли что сказал, так ты этому слову верь! Уж коли я тебе, то есть, одно слово, так ты супротив него не моги… ну!
– Это так точно.
– Потому, коли я теперича тебе одно слово, а ты мне десять, ну и я, значит, на оборотку тебе двадцать… ну!
– Это правильно.
Такой приятный разговор продолжается нередко по нескольку часов сряду, и замечательно, что беседующие, если не всегда понимают друг друга, то во всяком случае всегда удовлетворены.
Но довольно о пьянстве; поговорим о забавах и увеселениях. Им предается преимущественно женский пол, потому что мужчины, даже и молодые, праздники проводят или в Москве на базаре, или в местном питейном доме. А потому в деревнях, где население не очень большое, увеселения имеют характер до того мизерный, что в них принимают участие даже десятилетние девочки. Самое видное место в этих забавах занимает хоровод, но песня уже поется не та, какая певалась в бывалые времена. Нет ни «Веселой беседушки, где батюшка поет», ни «Дуная», ни «За морем за синим»; место их заступили: «Ты, Настасья, ты, Настасья!», «Он меня разлюбил!», «Ты не поверишь!» * и прочая чепуха в этом роде. Очевидно, что галиматья эта занесена в деревни фабричными молодцами, которые не один раз на своем веку наслаждались пением московских цыган. Поются эти романсы отвратительно, и со всевозможными коверканиями. Так, например, в известном романсе «Ты не поверишь» кем-то присочинен бессмысленный припев:
Я очень верю, я очень верю!
Я вас люблю!
Эта бессмыслица принимается самым серьезным образом, и даже в сию минуту, когда я пишу эти строки, до меня долетают безобразные звуки хора, отхватывающего «Настасью».
Странная судьба всего русского: даже для того, чтобы прослушать русскую песню, надобно нанимать цыган…
На этом покамест кончу. В следующем месяце надеюсь встретиться с читателем – в городе.








