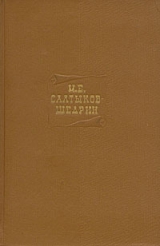
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 57 страниц)
На это я шепнул им на ухо такое занятие, одним названием которого надеялся привести их в смущение * . К удивлению моему, они, однако ж, не смутились и отвечали: во-первых, что на мой аргумент, как на глупый, не следует и внимание обращать; во-вторых, что исключение, если б это и было исключение, не может быть признано за общее правило; в-третьих, что потребность в подобных занятиях, с введением различных технических усовершенствований, с каждым днем делается все меньшею и меньшею, и в-четвертых, наконец, что если мы будем глубже вникать в существо человеческих способностей, то, конечно, и для этого рода занятий найдем деятелей.
Да, «деятелен»; так и сказали: «деятелей». Да еще прибавили: «Ведь находятся же люди, способные исполнять должность публицистов, – ну, вот эти люди и займутся тем делом». Ну, скажите на милость!
Нет надобности, я полагаю, говорить, что все это не что иное, как пошлое остроумие, на которое и отвечать не стоит. Ибо не безызвестно всем и каждому, что есть, именно есть в природе такие занятия, которых никто, даже публицисты исполнять не согласятся. Поэтому-то занятия сии производятся исключительно ночью, поэтому-то люди, предающиеся им, называются людьми худородными. А по-вашему, как? Не считать ли уж их героями? Не венчать ли лаврами? Тьфу!
Желал бы я знать, каким образом они объяснят отношения Марьи Петровны Воловитиновой к ее детям? Знаю. Они скажут, что если Сенечке приятнее быть с своими начальниками, нежели с матерью, то пусть и будет он с своими начальниками; что если Марье Петровне нравится больше буян Феденька, то это значит, что между ними есть сходство характеров и что, стало быть, она совершенно в своем праве; что все взаимное недовольство, поселившееся в этом семействе, именно и происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают. Ну, а наследство-то как, милостивые государи! наследство-то? «А наследство», – скажут они…
Тьфу!
Знаю я также, что они и поступки Попкова– старшегос своей точки зрения найдут удовлетворительными, да и приятеля моего (того, который с женою разошелся), кстати, оправдают. «Все эти люди, – скажут они, – каждый сам по себе!» Сами по себе! а дети-то, милостивые государи! детей-то куда ж девать? «А детей», – скажут они… *
Тьфу!
По этой ужасной теории, всякий человек живет не для исполнения своего долга, а для удовольствия; даже дети, малолетние дети составляют свое особое общество, как и взрослые, и родители не только не смеют их наказывать, но и советовать могут только умеренно, а отнюдь не надоедать… Да и кто эти дети? Кто эти родители? О, боже! отцы большею частью неизвестны!
Тьфу, тьфу и тьфу!
В деревне *
Летний фельетон
Давным-давно известно, что самая благодатная вещь на свете – это лето в деревне. В самом слове «деревня» звучит что-то невинное; как-то переносишься мыслию в те приятные и злачные места, в которых гуляли наши прародители, пока не вкусили от древа познания добра и зла. Конечно, им было ловчее нашего, потому что они ходили совсем без одежд, кушали самые сочные фрукты и вообще жили на всем на готовом; но и нам, их потомкам, недурно: недаром же с словом «деревня», кроме понятия о невинности, соединяется еще понятие о просторной одежде и о прекрасной еде.
Иногда я думаю: как это, право, досадно, что наши прародители преслушались! Если б они не преслушались, мы и сейчас гуляли бы себе беспечно по садам, кушали бы прекрасные фрукты, ходили бы без одежд, не пахали бы, не сеяли… Но, стало быть, красив же был тот плод, который рос на древе познания добра и зла, если одного вида его достаточно было, чтобы возбудить со стороны человека такое ужасное действие, как ослушание! Да, много горя и бед наделали нам прародители из одного любопытства! Но если уж наделали, то, стало быть, и говорить об этом нечего.
По понятиям простолюдинов, мало вникающих в существо вещей, житье самое близкое к прародительскому есть житье нашего русского землевладельца летом, в деревне. В самом деле, если судить поверхностно, тут есть своя доля правды. По-видимому, землевладелец только и делает, что гуляет, кушает фрукты и ходит в просторной одежде; который умеет сочинять стихи, сочиняет стихи, который обучен на скрипке или виолончели, выводит смычком серенаду Шуберта * . Но, повторяю: суждения эти поверхностны, ибо простолюдину, конечно, непонятно, какие заботы и соображения обуревают в это время землевладельца. Может быть, он изобретает уже изобретенный Ньютонов бином? Может быть, он измышляет законы вечного движения? Может быть, он доходит собственным умом до разрешения вопроса о том, что такое комета и отчего у ней хвост? Как приделан этот хвост и зачем он надобен? Все это в его руках, потому что у него имеется достаточно досуга, да притом он съел, по крайней мере, девять десятых того яблока, которое росло на древе познания добра и зла, простолюдину же оставил только с капельку. А потому он все это знает, а простолюдин ничего не знает.
Нынешнее лето было особенно отрадно в деревне. Не потому, чтобы оно было само по себе хорошо, – нет, нынешнее пасмурное и дождливое лето было усладительно разве для одних лягушек и грибов, – а потому просто, что можно было убежать в деревню и забыть город. Вот, например, я сижу в настоящее время в двадцати пяти верстах от Москвы и знаю, что там, в Москве, как в котле, кипит, и ни до чего-то мне дела нет. В деревне я бодр, здоров и весел; в деревне мною обладает решительная словобоязнь. Я вижу, что вокруг меня все работает, все занято делом, а не переливаньем из пустого в порожнее, и ненависть к словоизвержению до того охватывает всем моим существом, что день получения газет становится днем тошноты. «Господи! думаешь, да неужто ж есть на свете такая обязанность, чтоб каждый божий день приниматься все за ту же сутолоку, каждый божий день заниматься тем, чтоб из вчерашнего существительного делать сегодняшнее прилагательное, и наоборот?»
Да, есть такие занятия; они существуют в той пыльной и душной сфере, где, с одной стороны, беспокойно реет над жизнью жадное до падали литературное воронье и надрывающим душу голосом выпрашивает жертв для своей плотоядности, а с другой – ключом кипят кисленькие споры о различии между Русляндией и Русью * , где с одной стороны тупоумие и хвастовство признаются за единственную руководящую истину жизни, а с другой – неудержимым потоком вырываются из самых человеческих внутренностей метафоры о форейторе, оторвавшемся с выносными лошадьми от экипажа (фигуральное изображение Русляндии). Это мир почти фантастический, мир, где все обусловливается или подачкой, или вдохновением, которое, как известно, не признает никаких условий. Прямое назначение людей этого мира – сочинять мадригалы и конфектные билетики * , но судьба странно играет смертными и из урожденного сочинителя триолетов делает плохого и невразумительного публициста. Говорят, будто бы и между * деятелями этой категории следует различать «искренность» * , то есть занимающихся политическими и экономическими «рондо» по внушению невинного и слишком горячего сердца, от тех, которые пишут таковые без всякого сердечного влечения, но, признаюсь, я не хорошо понимаю, в чем, собственно, заключается преимущество первых над последними. Результат в обоих случаях одинаков, но в первом он достается даром, во втором – с помощью некоторого труда, – стало быть, разница не в сущности дела, а в личных качествах действующего лица, которые до публики нимало не касаются. Вдохновенные глупцы едва ли даже не вреднее, нежели плуты, промышляющие ложью с сознанием. От последних еще можно освободиться, от первых – ни пестом, ни крестом… Как бы то ни было, но убежать хоть на время от этого мира – сущее наслаждение.
Городской житель, который говорит себе пред наступлением весны: вот я уеду на лето в деревню и там займусь, там окончу такой-то труд, жестоко ошибется в своих расчетах. Для нас, людей, прикованных ремеслом к городам и лишь временно счастливящих деревню своим посещением, труд возможен только в городе, и притом зимою, когда все прилажено так, чтобы держать человека скованным; деревня нам дается единственно для того, чтоб лениться. В городах мы привыкли мерять большою мерою; в деревне, напротив того, все группируется около грошей и копеек, вся жизнь расходится по мелочам; поэтому истинно деревенское дело представляется ничтожным. Ущербы и уроны, случающиеся на каждом шагу, важны лишь в своей совокупности; будучи взяты каждый отдельно, они кажутся столь мизерными, что городской житель невольным образом пропускает их мимо глаз. Все эти вопросы о потравах, порубках и проч. сводятся в большей части случаев к вопросам о двугривенных, полтинниках и целковых, на которые городской житель, даже с довольно ограниченными средствами, привык смотреть более или менее легко; следовательно, поднимать из-за этого бог весть какую возню, уличать, подозревать, ловить – решительно не стоит. Да если б, наконец, человек и решился предпринять подобный труд, то скоро он убедится, что труд этот отвлек его от другого, более производительного, и что в конце концов, так или иначе, но усилия его все-таки останутся напрасными. Следовательно, вам остается покориться своей участи и сквозь пальцы смотреть, как в вашем хозяйстве пошаливают. Вот первая причина, по которой городской житель является неспособным к деревенскому делу. Вторая причина заключается в том, что городской житель и в это дело вносит тот гуманный и снисходительный взгляд, к которому решительно не способен коренной обыватель деревни. Зрелище труда тяжкого и изнурительного, каким вообще представляется всякий труд деревенский, совсем не такого свойства, чтобы производить умиляющее впечатление; напротив того, оно заставляет страдать даже и постороннего человека, не принимающего в труде непосредственного участия; здесь тяжесть слишком наглядна, чтоб дать место каким бы то ни было фантазиям, а потому на городского жителя, удосужившегося и самый труд свой поставить в условия некоторой комфортабельности, подобная египетская работа действует раздражительно. Недоделки, недосмотры и лукавые уклонения со стороны рабочего народа представляются до такой степени естественными, что и на них, точно так же, как и на те вселенские вопросы о потравах и проч., о которых говорено выше, приходится смотреть сквозь пальцы. А между тем, судя по сказаниям сведущих людей, в этих-то недоделках и уклонениях и заключается именно вся сила деревенского дела. Огрех в пашне, неравномерный посев, несвоевременная и небрежная уборка сельских произведений не только производят чувствительный ущерб временный, но подрывают сельское хозяйство в его будущем. А потому коренной обыватель деревни смотрит на это дело совсем другим оком. Оттого ли, что право собственности, как осязательное, доступнее его пониманию, нежели всякое другое право иной, высшей сферы, или оттого, что ежедневное столкновение с известными формами жизни делает человека менее чувствительным к тем шероховатостям, которые в них кроются, – как бы то ни было, но, в смысле технического выполнения труда, сельский человек точен до неумолимости и требователен до жестокосердия. Никто не сумеет так заставить работать, как мужик мужика. Только разве особое какое-нибудь соображение вынудит его на минуту отступить от своей аккуратности, но чувство снисхождения все-таки не примет в этом случае никакого участия. Наконец, третья причина, делающая усилия городского жителя войти в деревенское дело ничтожными, заключается в том, что дело это обширно и в то же время разбросанно. Лично принять участие во всех разнообразных и крайне мелочных его операциях, лично за всем присмотреть – нет никакой возможности, да если б таковая и оказалась, то здесь труд, по своей утомительности и крайне невидным его последствиям, самому стоит дороже; если же нанимать таких людей, которых присмотр, хотя не вполне, заменял бы хозяйский, то это будет стоить так дорого, что результат никогда не вознаградит издержек. Да и никогда (за самыми разве редкими исключениями) от подобных надзоров никаких улучшений в деревенском деле не бывает, потому что ненатурально заставить наемного человека смотреть на чужое дело, как на свое собственное; и как бы вы ни заинтересовывали его в вашем предприятии, участием ли в прибылях, прекрасным ли обхождением, все-таки не найдется такого математика, который бы сумел доказать, что два равно единице или что единица больше двух. А поверять действия такого надзирателя, следить за ним шаг за шагом просто не хватает духа. Во-первых, измучишься в этом бесплодном труде точно так же, как будто и действительно что-нибудь работал; во-вторых, на каждом шагу встречаешься с вопросом: да неужто ж вы мне не доверяете? вопросом, делаемым иногда с едва скрываемою иронией. И напрасно вы будете уверять и самого себя, и вашего доверенного, что учет этот заводится вами совсем не из недоверия, а в видах поверки собственных ваших средств; внутри вас все-таки шевельнется что-то вроде сомнения: «а ведь я и в самом деле ему не доверяю»; в нем же хотя и не шевельнется никакого подобного вопроса (он положительно уверен, что недоверие есть, и, в сущности, считает его законным), но от зоркого его взгляда не укроются ни ваше смущение, ни ваши извороты – и вот тут-то настоящий источник той иронии, которую он не старается даже скрыть. Нелепее и даже безнравственнее таких отношений ничего не может быть. Вся штука, стало быть, в том, что городской житель, вовлекающийся в деревенское дело, увлекается в этом случае таким занятием, которое ему не сродно, за которое он не имеет ни охоты, ни уменья, ни, наконец, выгоды взяться как следует. А отсюда прямое следствие то, что деревенское дело выгодно и занятно только для того, кто принимает в нем участие непосредственным своим трудом. Да, не командованием только, не «печалованием», а именно личным, тяжелым трудом.
Приведу один, очень маленький пример * – содержание домашней птицы. Утверждают люди сведущие, что крестьянину это содержание ничего не стоит, да этому можно и поверить. Тут всякая крошка идет в дело; все, что хотя и негодно для непосредственного употребления крестьянской семьи, в общем обороте хозяйства представляет статью далеко не бесполезную. Напротив того, в помещичьем хозяйстве (по упразднении крепостного права) вырастить птицу дома стоит гораздо дороже, нежели купить такую же на базаре, если не лучше. Теперь не такое время, когда птицам и другим домашним животным полагалось питаться остатками от скудной трапезы дворовых людей; теперь этих остатков не полагается; поэтому птица, хотя бы это была даже курица, освобождается от обязанности крохоборствовать (своего рода эмансипация), а требует особой и притом определенной дачи корма. «Так вот ты и увидишь, батюшка, во что оно тебе вскочит!» – говорила мне по этому случаю добрая моя знакомая, г-жа Падейкова * . Да, и увидел; и вскочило.
Все замеченное выше приводит к тому, что самый рьяный и востренький горожанин на первых порах хоть и потопчется-потопчется на месте, хоть и возьмется за дело с бойкостью истинно изумительною, но изумит мир не столько очевидными результатами этой бойкости, сколько неумелостью и происходящими отсюда утомлением и раздражением. Везде-то он увидит себя одиноким, ни к какому-то делу не найдет себя приурочить – ну, и отойдет потихоньку прочь.
Таким образом, из всего деревенского дела горожанину остается одна только отрасль – собирание грибов. О вы, которые смотрите высоко на это невинное занятие, будьте снисходительны к нему именно во уважение его невинности! Вспомните, что человек, предающийся ему, никого не убивает, не подрывает ничьей репутации, ни на кого не клевещет. Беспечно бродя с лукошком по лесу, он может обдумывать, что ему угодно, может воображать себя гражданином вселенной, может возвыситься даже до мысли о бессмертии души… покуда не блеснет ему изо мха ярко-оранжевая головка осинника или не заставит взыграть в нем сердца иссиза-палевая шапка белого гриба! Недаром же замечено, что люди, у которых охота к собиранию грибов доведена до страсти, бывают наклонны к мыслям о бесконечном, и притом самые пламенные консерваторы. Постоянно находясь на лоне природы, взявши на себя роль присяжных свидетелей ее творчества, они находятся в непрерывном умилении и до того отождествляются с наблюдаемым ими грибным строем, что переносят его и на весь остальной мир. Ясно, что из этого ничего, кроме хорошего, произойти не может; ясно также, что если помещики русские захотят послушаться моего совета, то оставят всякие заботы о недоступном для них сельском хозяйстве и примутся за собирание грибов. Они поймут, что, при известных условиях, это занятие самое настоящее, и что когда человек не расположен, не может или не умеет найти себе дело не столь невинное, то ничто так не помогает убивать время, как беседа с грибами. А в чем же и вопрос, как не в том, чтоб убить время? Конечно, тогда грибы сделаются нипочем, но ведь не возить же на базар продавать результаты трудов своих… фуй!
Поэтому каждый землевладелец-горожанин должен убедиться, что в этом смысле он не без пользы может направить всю свою деятельность. Не надо думать, однако ж, что такая деятельность не может быть плодотворною; напротив того, и в этой сфере возможны открытия весьма полезные, хотя и скромные.
Грибов бывает множество сортов; самыми лучшими считаются: белые, подосинники (в иных местах их называют боровиками) и черные березовики; отваренные в уксусе или зажаренные в сметане, грибы эти составляют равно лакомое кушанье и для вельможи и для поселянина; худшие сорты грибов: волнушки и многочисленные сорты сыроежек; наконец, никуда не годные: валуи, мухоморы и поганки. Насчет мухомора существуют, однако же, мнения весьма противоречивые: некоторые признают их совершенно негодными к употреблению, другие, напротив, видят в них завидное лакомство. В записной книжке одного моего знакомого я встретил: «Не знаю, отчего гриб мухомор пользуется такою дурною репутацией между охотниками до грибов, – что до меня, то я всегда любил собирать эти красивые, большие грибы и потом, обжарив их в сметане и посыпав перцем, кушал не только без всякого вреда, но и с большим удовольствием».
Но искание грибов, как и все на свете, сопряжено с своего рода тревогами и столкновениями и сопровождается хитростями, компромиссами и уступками. Это и понятно, потому что кто же когда-нибудь мечтал о том, чтобы найти розу без шипов? Первый и заклятый враг гриба есть русская баба, которая чутьем слышит гриб и истребляет его почти в утробе земли-матери, начиная благородным белым грибом и кончая тощею и незврачною сыроежкою. Естественно, что она же должна явиться страшною соперницею землевладельца и на этом поприще. Землевладелец-горожанин просыпается поздно, баба встает с восходом солнца, обшаривает все кусты и как ни в чем не бывало уже занимается обычной работой в то время, как землевладелец, потягиваясь в постеле, мечтает о том, как он будет, под сению дерев широковетвистых, срывать грибы наслаждения. От этого соперничества не упасут его ни канавы, ни убеждения; нет той канавы, через которую не перелезла бы русская баба, нет того увещания, которого бы она послушалась, когда дело идет об интересах ее ненасытной утробы!
Другой, еще более жестокий враг грибов – это сухое, бездождное лето, ибо тайнобрачные любят нежиться в мягком и влажном ложе. Отцы наши умели, однако ж, устранять и этот недостаток, окружая себя людьми, которые имели способность находить грибы даже в такую сухмень, когда и от болот несло гарью. Я очень хорошо помню в нашем доме одного дворового человека, Палладия, который именно разыгрывал относительно грибов роль благодетельного дождя. Бывало, маменька, как истинная хозяйка, даже закручинится, что вот нет да и нет грибов!
– Да что ж ты, душенька, Палладку в лес не пошлешь! – молвит ей папенька.
И все лица оживают, все сердца расцветают. Призывают Палладия, вооружают его обширным лукошком… и к вечеру он является с полным кузовом самых отборных белых грибков. Из этого факта я имею право заключать, что кто желает с успехом охотиться за грибами, тот должен искать их не столько по лесам и рощам, сколько в собственном сердце своем.
Охотники до грибов сказывают, что существуют даже известные заклинания, очень много помогающие при собирании их. Обращаются в этих заклинаниях к одному из многочисленной семьи леших, Шикале-грибодавцу. Вот один образчик подобного заклинания * : «Шикалу-ликалу! царь бородавок! сила грибная! Иду я раб (имярек) по твоему темному царству, заплутанному государству; вижу я три гриба: вижу гриба ала, гриба светла, гриба изумрудна» и т. д. Говорят, что при этих словах грибы вырастают, как грибы; но говорят также, что человек, который прибегает к подобным заклинаниям, погубляет свою душу… из-за грибов! Поэтому мой совет таков: лучше совсем откажись от грибов, но душу свою соблюди!
«Господи! про какие это он, однако ж, пустяки говорит!» – наверное скажет читатель, пробежав предыдущие строки. Но позвольте, читатель; об чем же, как не о грибах, прикажете говорить в такое мочливое, грибное время, каково нынешнее? Да притом разве я говорил о грибах для грибов только? Нет, я указал на роль, которую они должны играть в будущем значении землевладельцев с городскими наклонностями, и ярко поставил цель, к которой эти последние должны стремиться. Кажется, это заслуга не малая. Сверх того, сюжет этот мне по душе и по тому одному, что я знаю, что он ни под каким видом не может встревожить сердце моего милого цензора. Или и он может встревожить? Не найдет ли здесь цензор каких-нибудь намеков? Не заподозрит ли он, что я под «тайнобрачными» разумею некоторых газетчиков * ? Не увидит ли он в Палладке намека на неискусных администраторов, которые и в неблагоприятное для грибов время умеют отыскать и съесть гриб? А мне что за дело, если он даже все сие увидит и заподозрит? ведь ничего этого нет, следовательно, и совесть моя должна оставаться спокойною.
Итак, если нет грибов, если воздух сух и душен, что остается делать в деревне землевладельцу? Ему представляется отличный случай наблюдать за нравами простолюдинов, приобщаться к их играм и забавам и вообще затеять в обширных размерах игру в сближение сословий * . Это дело отменно хорошее, но не могу скрыть, что и здесь встречается на пути множество препятствий, которые преодолеть довольно трудно. Первое препятствие со стороны самого простолюдина, который дик, застенчив и мало любит, чтоб за ним подглядывали. Сверх того, он убежден, что для землевладельца его простолюдинские игры слишком мало изысканны, что они оскорбляют его изящное чувство; и потому, как только подходит к нему землевладелец, он исчезает в подворотню. Второе препятствие заключается в стыдливости самого землевладельца, и это я совсем не шутя говорю. Надобно иметь совершенно чугунный лоб, чтоб лезть туда, где вас не спрашивают, чтобы напоминать об вашем существовании людям, которые об нем если еще не забыли, то, во всяком случае, вспоминать не любят. Положим, что вы приходите туда, где шумит простолюдинское веселье; веселье это самое искреннее, и потому оно резво, и нельзя сказать чтоб очень чинно; но с вашим приходом вы видите, что вдруг все изменяется: песня спускается тоном-двумя ниже, смех умолкает; праздник, бывший в полном разгаре, внезапно заминается. Точно тень какая-то набежала на все лица, точно укор какой стремится к вам отовсюду за то, что вы смутили общую радость. И если в вас осталась хоть капля совестливости, вы повертите, повертите тросточкой и уйдете, поджавши хвост, домой. Отсюда правило: не затевай игру в сближение сословий, ибо такая попытка поведет лишь к бесплодной трате времени, конфузу и позднему раскаянию.
Таким образом, из рук землевладельца ускользает не только живое сельское дело, но и непосредственное наблюдение над ним. Самые грибы находятся в заговоре и следуют общему настроению умов. Остается, стало быть, устроиться в деревне по-городскому, то есть перенести с собой ту же душную, политико-административно-сплетническую атмосферу, которая, словно свинцовый туман, тяготеет над городами. Большею частию так оно и делается… в намерении; но здесь оппонентом землевладельцу является сама природа. Скажите на милость, есть ли какая-нибудь возможность запереться наглухо в душной комнате в такое время, когда все зовет и манит на воздух? Есть ли возможность предаться какому-нибудь кабинетному занятию, когда вся природа говорит о тепле, свободе и наслаждении? В комнате положительно не сидится; даже тот, у кого нет никакого дела, вызывающего его из дома, и тот бежит на волю, чтоб побродить, послоняться без всякой цели. Днем его манят тенистые аллеи парка своими прохладами; ночью – манит сама ночь своими бесчисленными звездами, своим фантастическим лунным освещением, своею торжественною, глубокою тишиною. Все располагает к кроткому безделью и тихой мечтательности. Мысли и образы пробегают по душе, не останавливаясь и не цепляясь за те слишком живые струны сердца, которых сотрясение более или менее болезненно действует на весь организм человека. Блаженная, безмятежная радость чувствуется во всем существе; думается много, но ни о чем в особенности; воспоминания прошлого, представления настоящего, предвидения будущего – все это сливается в одну массу, все это проходит без ясных, определенных очертаний, проходит затем только, чтобы утонуть в каких-то сумерках, совершенно подобных тем, которые царствуют в тенистых аллеях, по которым гуляет беспечный, нигде не находящий себе места землевладелец. Вновь спрашиваю: возможно ли при таком положении вещей какое-либо другое занятие, кроме занятия собственной леностью?
Правда, прежде было еще занятие у русских землевладельцев – это занятие либеральничаньем, но нынешним летом оно прекратилось, ибо за сим строго наблюдали «Московские ведомости» и «День» * .
Известно, что из млекопитающих всевозможных пород самым либеральным всегда был и будет русский землевладелец. В области свободномыслия и свободных художеств это просто ненасыть какой-то. Послушать их, то все эти реформы, которые отчасти осуществились, а отчасти имеют осуществиться, ко благу нашей родины, уже давным-давно бродили в их головах, и если не вышли оттуда во всеоружии, то единственно потому, что общество, для которого они измышляли свои проекты, еще не созрело, а созрело оно тогда, когда захотело того правительство. И в доказательство указывают вам на такого-то А., который, еще при существовании крепостного права, устроил у себячуть-чуть не конституцию, или на такого-то Б., который, еще гораздо прежде отмены телесных наказаний, уже написал проект о замене рылобития устностью. Либерализм очевидный и тем более похвальный, что сам сознавал свою слабость и потому заявлял себя с полною скромностью.
Чтобы показать, до чего мог доходить русский землевладельческий либерализм, я приведу здесь случай, бывший со мной самим.
Каюсь: в бывалые времена (то есть до отмены крепостного права) я был знаком с одним таким землевладельцем, который был до того либерален, что даже наводил на меня трепет своим свободномыслием. Несмотря, однако ж, на этот трепет, мне было до крайности лестно считаться в числе друзей «опасного» человека; но что касается прочих соседей, то они положительно избегали его. Во-первых, с этаким проказником, чего доброго, как раз в беду попадешь; а во-вторых, он хоть и без толку, но все же болтает о какой-то эмансипации: того гляди, еще смуту в умах дворовых людей поселит. Звали моего друга Николаем Петровичем Многоболтаевым.
Однажды я был у него в гостях, и, по обыкновению, мы занимались либеральничаньем.
– У меня, mon cher, – говорил он, – не то, что у других сиволапых патриархов! у меня всё это они сами… Все эти права записаны, утверждены и выставлены под стеклом на стене! Mais venez, je vais vous tout montrer! [94]94
Но пойдемте, я вам все покажу!
[Закрыть]Алеша (камердинер либерального моего друга)! сходи в контору и скажи, что мы сейчас будем!.. У меня, mon cher, даже суд и все такое… все это в порядке: вот увидите!
И он привел меня в контору, на которой красовалась вывеска «Дом общественного управления села Многоболтаева с деревнями». Мы вошли в просторную и довольно опрятную комнату, среди которой стоял стол, а за столом сидели: на президентском месте рослый и несколько рыхлый мужик с лоснящимся лицом и жиденькою белокурою бородкою, которого сам барин, в знак уважения, называл Иваном Парамонычем, по бокам два мужичка видом пожиже и помизернее. При появлении нашем присутствующие встали с своих мест, причем председательствующий остался у стола, а заседатели отошли к стене.
– Вот это мой президент! – обратился ко мне либеральный мой друг, трепля председателя по плечу. – Он один только и представляет здесь мои интересы… и эти вот (он указал на стушевавшихся мужичков) – от них!
Президент осклабился и произнес нечто вроде: рады стараться вашему здоровью! Мужички обдернулись.
– Ну что, как у вас тут? – продолжал либеральный мой друг. – Бывают споры… столкновения? (Он хотел моргнуть в мою сторону одним глазом, как будто хотел мне сказать: vous verrez nous allons rire! [95]95
вот увидите, как мы посмеемся!
[Закрыть])
Председатель и мужички осклабились, как бы выражая полную готовность.
– Ну-ну-ну! трудитесь! трудитесь! – сказал мой приятель, причем полегоньку вздохнул и, обращаясь ко мне, прибавил: – А вот и условия наши!
На стене висели две золоченые рамки, в которых под стеклом красовалось изложение прав и обязанностей крестьян села Многоболтаева с деревнями. Изложение было сделано правильным и весьма приятным слогом и переписано самым отличным почерком. Тут на первом плане значились всякого рода свободы: во-первых, свобода отлучек для заработков, что, как известно, в крестьянском нашем быту составляет статью первой важности, во-вторых, свобода семейных разделов, на что крестьяне наши хотя и посматривают несколько косо, но что тем не менее составляет предмет самой настоятельной потребности, в-третьих, свобода раскладки повинностей по усмотрению общества и проч. и проч. Обязанностей на крестьянах лежало, собственно, две: платить исправно оброк и быть благонравными.
– Эге! да у вас тут… тово! – сказал я, прочитав условия и тут же припомнив те клеветы, которые во время оно взводились на землевладельцев.
Приятель мой был так тронут, что даже застыдился.
– И хорошо это у вас идет? – продолжал я, обращаясь на этот раз к председателю.
– Обстоит благополучно-с! – отвечал председатель, пощипывая себя за жиденькую бородку.








