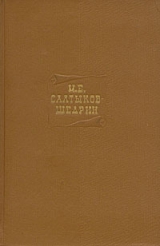
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 57 страниц)
Журнальная полемика *
Неизвестному корреспонденту *
Письмо ваше, которым вы приглашаете меня отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно «нигилистов», я получил. На сей раз не могу, однако ж, исполнить ваше желание, и совсем не потому, чтоб это было больно для моего самолюбия, а просто потому, что вы сами, очевидно, не сознаете, чего именно желаете. Но объясниться я не прочь, тем более что, кто знает, быть может, и помимо вас найдутся люди достаточно ограниченные, чтоб обвинить меня в намерении «выругать огулом молодежь», как вы выражаетесь. Такого намерения не было, и я надеюсь доказать это в очень немногих словах.
Как бы объяснить вам, к кому именно могло относиться заподозренное вами место моей хроники? Попытаюсь. Быть может, вам памятно то время, когда в русском обществе шли горячие толки о народности и славянофилы были в большом ходу. Тогда, рядом с людьми, относившимися к этому делу совершенно серьезно и искренно (я говорю не об достоинстве самого дела, а об отношении к нему его сторонников), находились и такие, которые потому только мнили себя быть славянофилами, что понашили себе поддевок, мурмолок и рубах с подоплеками, но этих людей никто, однако, не называл «славянофилами», а называли гороховыми шутами. Другой пример: если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья. Третий пример: если я встречаю человека, который для того, чтоб доказать, что он не имеет предрассудков (это, кажется, единственный, сколько-нибудь разумный признак, к которому хотят приурочить себя так называемые нигилисты), выбежит голый на улицу, то говорю ему: нет, тут совсем не о предрассудках идет речь, а о том, что ты очень бойкий глупец. Всякое дело, всякая мысль, всякая партия имеют своих enfants terribles, своих юродствующих и вислоухих – вот этих-то «юродствующих» и «вислоухих» и имела в виду моя статья, и я не вижу в этом случае никакой ошибки, потому что по совести нахожу, что люди эти существуют единственно для того, чтоб портить дела самые лучшие: как мухи летом в одну минуту засиживают самые драгоценные произведения искусства, так и эти люди делают неузнаваемым всякое дело, до которого они прикасаются.
Но вы говорите, что я употребил слово «нигилисты» в смысле оскорбительном для целого молодого поколения, – нет, это положительная ложь. Признаюсь вам, я даже плохо понимаю это слово и всегда думал, что оно заключает в себе совершеннейшую бессмыслицу и столь же мало может характеризовать какое бы то ни было поколение, как и блаженной памяти слово «фармазоны». По мнению моему, если оно и начинает приобретать в нашем обществе некоторое право гражданственности, то в этом виноваты именно те «вислоухие», которые, по-видимому, очень жадно ухватились за него и сделали из него какое-то для себя знамя. Можете после этого представить себе, как должны быть противны для меня эти люди, которые добровольно откликаются на бессмыслицу. Но, может быть, вы возразите, что, в первоначальном своем употреблении, это слово имело смысл обширный и злостный, но разве это доказывает что-нибудь? Если бы, например, г. Тургенев или кто другой известную часть русского общества обозвал «дураками», неужели же нашлись бы люди, которые ухватились бы за это выражение и начали бы говорить: «вот мы, «дураки», «вот у нас, «дураков» и т. д.? Я думал и думаю, что слово «нигилисты» совершенно столько же бессмысленно в настоящем случае, как и слово «дураки»; и те, которые с гордостью повествуют о себе: «мы нигилисты», или не понимают сами, что говорят, или сознательно говорят чепуху. И если вы дадите себе труд подумать об этом, то, конечно, согласитесь, что в моих настоящих словах нет ни малейшего намерения остроумничать или извернуться.
Затем, прощайте. Желаю вам больше способности понимать то, что вы читаете, и больше думать о том, что вы болтаете. Поверьте, что пошлые ругательства, которыми вы наполнили ваше письмо, отнюдь его не украсили и что я, с своей стороны, тоже знаю очень много ругательных слов, но никогда к ним не прибегаю, потому что не нахожу в них не только доказательной силы, но даже смысла.
Литературные мелочи *
При определении достоинства людей и вещей очень часто приходится выслушивать такого рода разговоры:
– Послушайте, ведь это дрянь!
– Ну… все не такая же дрянь…
– Но сообразите хорошенько!
– Нет; все-таки это совсем не такая дрянь!
Последнее произносится даже с некоторою строгостью, словно и невесть какая неопровержимая премудрость заключается в словах «не такая дрянь».
Если мы вникнем ближе в смысл подобных словопрений, то увидим, во-первых, что спор возникает преимущественно оттого, что обе стороны не умеют отчетливо формулировать то значение, которое в их умах сопрягается с словом «дрянь»; во-вторых, что то свойство, которое обеим сторонам известно под именем «дряни», оставляется спорящими неприкосновенным, и что протеста на то, что такого-то человека или такую-то вещь следует назвать «дрянью», никем не предъявляется, и в-третьих, что, следовательно, тут речь идет совсем не о том, дрянь или не дрянь у нас перед глазами, а о том, «такая» это дрянь или «не такая».
Посмотрим, в какой степени все это основательно.
Что такое дрянь? * В просторечии слово это прилагается преимущественно и даже исключительно к явлениям мира вещественного. Всякое вещество, вследствие разложения или принятия в себя чуждых примесей потерявшее свой естественный, здоровый вид, называется «дрянью». «Не тронь, батюшка, это «дрянь»!» – говорит заботливая няня своему питомцу, когда он, движимый любознательностью, хочет прикоснуться к какой-нибудь слякоти или к чему-нибудь гниющему. Но как ни права няня в своем определении, она все-таки не исчерпывает сущности предмета, о котором говорит. Понятие, заключающееся в слове «дрянь», чрезвычайно обширно и из мира вещественного очень удобно переносится в мир нравственный и умственный. Если б няня знала, что известный ей какой-нибудь Петр Иваныч или Иван Петрович совершенно такая же «дрянь», как и то гниющее вещество, на которое она сейчас указывала, то она точно так же предостерегла бы своего питомца: «Не тронь, батюшка, Петра Иваныча: это дрянь!»…
Умение делать подобные применения уже свидетельствует о некоторой степени умственного развития и о привычке обращаться с явлениями более сложными. Возникает потребность прилагать слово «дрянь» к людям и их делам; образуются соответствующие выражения, как, например: «вот человек дрянь!» или: «дело просто дрянь выходит!» Тем не менее если мы хорошенько разберем, о чем тут идет речь, то увидим, что в этом случае слово «дрянь» прилагается уже чересчур разнообразно, а потому не всегда определенно и основательно. Тут безразлично разумеется: и злонамеренное скотство, и бессознательная глупость, и «дрянь» действительная. Поэтому необходимо опознаться в этом разнообразии и критически очистить слово «дрянь» от всех ненужных примесей.
Начнем с людей. Слово «дрянь» обыкновенно прилагается безразлично ко всем «нехорошим» людям, то есть злонамеренным, глупым или таким, от которых, что называется, ни шерсти, ни молока. По-моему, однако ж, тут есть значительная ошибка, которая может показаться обидною даже для тех лиц, которые непосредственно в этом деле заинтересованы. Злонамеренный человек, которого назовут дрянью, скажет: «Нет, ты врешь, я не дрянь, а я скотина!», глупец, в свою очередь, возразит: «Да помилуйте, какая же я дрянь – я просто дурак!»; один тот, от которого «ни шерсти, ни молока», смолчит, ибо почувствует, что в глазах его при слове «дрянь» действительно как будто бы что просветлело. Таким практическим указанием пренебречь невозможно.
В самом деле, и у злонамеренного и у дурака имеются свои определенные убеждения и свои определенные обязанности. Злонамеренный человек всегда обладает миросозерцанием, хотя и ограниченным, но в то же время совершенно ясным. Это эгоист в самом мизерном значении этого слова, эгоист недальновидный, ставящий свои личные выгоды выше всего на свете и не понимающий, что выгоды эти находятся в теснейшей зависимости от выгод других подобных ему людей. Поэтому он прежде всего старается о своих личных интересах и об интересах тех людей, которые до того близко к нему прикасаются, что он не может ступить без них ни шагу; по своей неразвитости или по недостатку знаний, он не понимает, что в таком сложном механизме, каким представляется жизнь, нет и не может быть людей далеких; он не понимает, что, придавая значение своим личным интересам насчет интересов других, он не приобретает этим никакой положительной выгоды для себя, а только устраивает для себя и для своих присных непрерывную и утомительную борьбу, в которой, конечно, когда-нибудь да погибнет. Тем не менее человек этот, вследствие уродливого своего взгляда на жизнь, действительно поставлен в необходимость приносить сколь возможно большую сумму вреда другим, а потому его совершенно справедливо называют скотиною, ибо это служит стигматом его недальновидности. Но дрянью его назвать никак нельзя, потому что, при совершенной определенности его убеждений и занятий, подобное название может только спутать.
Точно то же самое следует сказать и относительно дурака. У него тоже есть свое миросозерцание, сущность которого заключается в том, что вселенная представляется ему собранием разнокалиберных предметов, существующих без всякой между собой связи. Предметами этими мыслительная его сила поражается отрывочно, а потому он всякую минуту подавляется разнообразием впечатлений, и ни одного из них не удерживает прочно. Для него всякая штука представляет, так сказать, новизну, и с этой стороны он, конечно, может назваться счастливцем, ибо никогда не чувствует ни ипохондрии, ни утомления. Но, с другой стороны, глупость может иметь и неприятные последствия, из которых самое горшее заключается в невозможности пользоваться указаниями опыта и в этом смысле постоянно находиться в положении новорожденного. Таким образом, даже в совершенно безопасном месте люди эти не имеют права считать себя вполне безопасными, ибо могут принять воду за сушь и наоборот. Пользу, конечно, они приносить не в состоянии (напротив того, сами требуют пристального за собой ухода), но тем не менее и у них имеются свои обязанности, прямо вытекающие из их миросозерцания. Обязанности эти заключаются в том, чтобы всему безразлично удивляться, все прославлять и относительно всего ощущать панический страх. Обязанности, как видится, не головоломные, но и они имеют в жизни свое место и свое значение, в особенности же когда с этим вместе сопрягается вдохновение. Поэтому-то такого сорта людей «хорошими» никто не называет, а совершенно справедливо называют дураками(простыми или вдохновенными, смотря по роду глупости); но и «дрянью» их именовать нельзя, опять-таки потому, что если есть для предмета ясное и вполне удовлетворительное название, то всякая прибавка к нему может произвести только путаницу.
Все это значительно облегчает нашу задачу и помогает нам приступить к безошибочному определению слова «дрянь» в применении к человеку. И если слово это должно непременно относиться к одному из видов обширного семейства «нехороших людей», и к тому же не может быть приложено ни к так называемому «скотине», ни к «дураку», то очевидно, что имеется в природе еще особый вид «нехороших людей», которому оно должно быть совершенно к лицу. И действительно, таких людей мы встречаем.
Есть люди, совершенно подобные тому козлу, о котором сложилась древняя русская поговорка: ни шерсти, ни молока. Это какие-то унылые недоноски, одинаково не способные ни на добро, ни на зло, постоянно колеблющиеся между «да» и «нет», постоянно стремящиеся нечто выразить и никогда ничего не выражающие. Нет в них ничего яркого, выдающегося, ничего такого, за что можно было бы ухватиться и сказать: ну вот, наконец-то я тебя поймал! Самое яркое из их качеств – это непрерывная чепуха, которую они из себя источают; но тут яркость уже до того велика, что ослепляет и отшибает. Вы можете целую жизнь прожить обок с таким человеком и быть уверенным, что ни одна минута не выдаст вам секрета его мысли, его желаний и ожиданий. Его нельзя употребить ни на какое дело, не потому, что он его искоренит, а потому, что он ничего не сделает; его нельзя даже послать в лавочку за квасом, потому что он непременно зазевается и квасу не принесет. Если такие люди соберутся и начнут по душе толковать, то разговор их может довести до мысли о самоубийстве, но если они (чего боже сохрани!) к тому же пожелают еще иметь свой литературный орган и начнут посредством его производить над публикой опыты фильтрации чепухи, то такое действие может угрожать даже государственной безопасности. Государство начнет зевать, постепенно прекратит всякую производительность и предастся размышлениям о суете и бренности сего мира. Таких людей невозможно назвать злыми, потому что в действиях их ничего положительно злого не усматривается; их нельзя назвать глупцами, потому что и в действиях и в речах их примечается только бесцветность, безвкусица и белиберда, а не глупость. Подобно дрянным ублюдкам, на первый взгляд обманывающим неопытного ценителя то красотою хвоста, то породистостью ушей, эти люди тоже обманывают его то взятою напрокат и на веру мыслью, то заимствованным выраженьицем; но, само собою разумеется, как только этот человек повернется к вам всею своею физиономией (а это он сделает, по необходимости, в самом непродолжительном времени), то обаяние хвоста исчезнет немедленно, и слово «дрянь» само собой слетит с языка. Да, это «дрянь», это та действительная, настоящая «дрянь», которую просторечие так часто и так неосновательно смешивает с понятиями хотя и родственными, но, во всяком случае, существенно от нее отличающимися.
Точно то же следует сказать о вещах. Есть положения злые, есть положения глупые, и есть положения просто дрянные. Злые и глупые положения всегда имеют сзади себя некоторую систему, которая их объясняет и в то же время делает возможным противодействие. Напротив того, дрянные положения отличаются совершенным отсутствием системы, поэтому-то они живучее и злых и глупых положений, это те самые положения, которыми никто не доволен, но которые терпеливо выносят из опасения попасть или в глупое, или в злое положение. И тут имеется своего рода хвост и уши, которые на первый взгляд пленяют, но разумеется, что здесь обаяние имеет смысл еще более вредный. Если мы временно обольщаемся дрянным человеком, то это не налагает на нас никаких обязательств, кроме одного: отвернуться от такого человека, как только мы убедимся, что он дрянь; но когда мы обольщаемся дрянным положением, то хотя бы это обольщение было и временное, но последствия его будут гораздо ощутительнее, потому что связь с положением захватывает человека гораздо глубже и разностороннее и, следовательно, действует на него несравненно растлительнее, нежели связь с изолированною дрянною личностью.
Итак, «дрянным» следует называть такого человека или такое положение, которого свойства ясно представить себе невозможно, на которых нельзя ни в каком случае рассчитывать, в которых совестно видеть что-либо враждебное, но в то же время немыслимо находить что-нибудь и симпатичное. Затем, определив таким образом значение слова «дрянь», мы естественно приходим к вопросу: может ли быть дрянь «такая» и дрянь «не такая»?
Нет, «дрянь» всегда одинакова и всегда равна самой себе, и единственно возможный относительно ее образ действия заключается в том, чтобы показать, что тот породистый хвост, которым она иногда обладает, служит не к украшению, а к вящему ее обезображению. Даже возможность такого выражения, как: «ну, все-таки это не такая дрянь», показывает, что человек, от которого оно исходит, сам носит на себе все признаки «дряни», что он потому только и изобрел выражение «не такая», что сердце его неудержимо тянется к «дряни» и ищет оправдать ее насчет злобы и глупости.
Есть много на свете людей, злобных, глупых и дрянных, первых следует усмирять, за вторыми иметь наблюдение, дабы они не повредили себе, с третьими не следует связываться. Но во всяком случае, не различать их нельзя…
Давно ли я заявлял опасения (и даже, к стыду моему, совсем не серьезно), что в скором времени нельзя будет купить фунта балыка, чтобы вслед за тем не последовало обвинения в сепаратизме в пользу Земли Войска Донского, как уже «Московские ведомости» поспешили оправдать мои опасения. В 89-м № этой газеты появилась статья «Донской сепаратизм», в которой, со слов некоего г. Краснова * , изображаются злокозненные стремления к обособлению Земли Войска Донского от империи…
Конечно, г. Краснов, первоначально напечатавший свою невинную статью в «С.-Петербургских ведомостях», говорит в ней совсем не о сепаратизме, а об устарелости и бесполезности некоторых исключительных привилегий, которыми пользуется Земля Войска Донского, и только по неловкости, свойственной всем вообще литераторам-обывателям, объясняет эту привязанность донца к привилегиям каким-то «местным патриотизмом». Но г. Краснов человек простой и потому и смотрит на дело просто, то есть, описавшись словом «патриотизм», все-таки продолжает говорить о привилегиях; «Московские же ведомости» на все дела сего мира имеют взгляд сугубый * , а потому и в упражненьице г. Краснова усмотрели нечто сугубое. А так как достоверно известно, что прозорливость «Московских ведомостей» почерпается из чистых источников, то «Донской сепаратизм», пройдя сквозь горнило ее, уже приобретает силу факта, которому нельзя не верить под опасением лишения некоторых литературных прав.
Донцы-молодцы! куда же вы стремитесь? И где тот Кулиш, который будет сочинять для вас буквари? где тот Костомаров, который будет издавать их? И на каком языке будут сочиняться эти буквари? Кому известен язык Земли Войска Донского? Есть ли в нем слова «хиба», «вже» и проч., совершенно необходимые для образования сильного и самостоятельного языка? Обладает ли донская литература песенкой подобной той, которую некогда сочинил И. С. Тургенев для малороссиян:
Грае, грае, воропае! *
Гоп! Гоп! *
Все это покрыто мраком неизвестности. Известно только, что в 1814 году донцы-молодцы были в Париже и, быть может, действительно позаимствовались там несколькими выражениями, вроде записанных тем же г. Тургеневым: «пардон, севуплей!» и «нет тебе севуплею!». Следовательно, вопрос заключается в том, могут ли эти немногие выражения послужить основанием для сепаратизма, и возможно ли с помощью их одних сочинять буквари? «Московские ведомости» опасаются, что да, и я не смею не верить этой вдохновенной газете, ибо опять-таки знаю, что она черпает свое вдохновение из чистых источников.
Страшно… Что-то будет! что-то будет! спрашиваю я себя: все-то мы врознь! все-то мы разлезаемся! Судя по корреспонденциям «Волынца» * , помещаемым в тех же «Московских ведомостях», следует заключить, что «сепаратизм» до того овладел г. Костомаровым, что он собственную свою квартиру принимает за особое государство и там собственно для себя и на собственном своем языке сочиняет собственные свои буквари. И если примеру его последует г. Кулиш, то неизвестно даже, что может произойти! Самое малое, что может из этого выйти, – это то, что гг. Костомаров и Кулиш не поймут друг друга.
Но, по моему мнению, «Московские ведомости» все-таки недостаточно еще прозорливы; я прозорливее их, ибо усматриваю в русской жизни гораздо более «сепаратизмов». Назову некоторые из них.
Мещане имеют право производить известные промыслы и торговать в розницу шнурочками, на что крестьяне прав не имеют, – сепаратизм.
Купцы первой гильдии имеют право посылать за море свои собственные корабли (чем они, впрочем, пользуются с похвальною умеренностью), на что купцы второй гильдии и мещане прав не имеют, – сепаратизм.
Чиновники имеют право состоять на службе, на что огромное большинство населения Российской империи прав не имеет, – сепаратизм.
«Московские ведомости» имеют право прозревать, прорицать, догадываться и недоумевать, на что другие, менее прозорливые органы русского слова прав не имеют, – сепаратизм.
«Московские ведомости» собираются воспользоваться факультативной цензурой * , тогда как прочие русские журналы и газеты правом этим ни под каким видом воспользоваться не могут, – сепаратизм.
«Московские ведомости» ставят «День» «под защиту Российской империи», а себя из-под этой защиты тщательно выгораживают, – сепаратизм.
«Московские ведомости» постоянно доказывают, что в Петербурге царствует «растленная атмосфера» и что только в Москве, и именно на Страстном бульваре * , можно воистину насладиться «благорастворением воздухов». Ясно, что этим они стремятся отделить от Петербурга Москву вообще, и Страстной бульвар в особенности, – сепаратизм! Сепаратизм даже горший донского и костомаровского.
Если все эти сепаратизмы заговорят своим собственным языком и начнут сочинять свои собственные буквари – что может из этого выйти?
«Позволительно думать», что из этого не выйдет ничего.
А я пересчитал еще только миллионную часть российских «сепаратизмов»! Сколько есть таких людей, которые охотно стали бы употреблять в пищу говядину, но, вследствие стремлений к сепаратизму, питаются одним толокном? сколько есть таких литераторов, которые, подобно г. Феоктистову (см. письмо г. Касьянова в 16 № «Дня»), желали бы участвовать на первом рауте * , бывшем прошлой зимой у какого-то «князя, истинного мецената», и между тем, вследствие стремлений к сепаратизму, на этом рауте не участвовали?
Впрочем, относительно г. Феоктистова я еще колеблюсь, кто тут сепаратист: он ли, бывший на «первом рауте у князя, истинного мецената», или прочие русские литераторы, на этом рауте не бывшие. По крайней мере, до сих пор (кроме славянофилов) я знал только одного литератора, которому рауты были не недоступны, – это именно фельетониста «Московских ведомостей» г. Пановского, который и разумелся за самого злого сепаратиста. Теперь к этой единице еще прибавляется цифра – боюсь, как бы из этого чего-нибудь не вышло!
Истинно сожалею, что г. Касьянов слишком мало распространился в своем письме об этом знаменитом обстоятельстве. Он позаимствовал сведения о нем из газеты «Весть», в которой, по всей вероятности, происшествие это рассмаковано во всей подробности, но о существовании которой, к прискорбию, никто в Петербурге не знает, а потому и справки навести негде. Господин же Касьянов рассказал это дело кратко: просто, был г. Феоктистов на рауте – и все тут.
Разумеется, меня это не удовлетворяет. Я желал бы знать, в чем был одет г. Феоктистов, какие были у него воротнички, на каком диалекте он объяснялся, как держал в руках шляпу и в какой мере походил на г. Пановского (это последнее сведение необходимо для определения силы «сепаратизма»). Одним словом, я хотел бы иметь портрет г. Феоктистова не в виде публициста, редактирующего «Русский инвалид», а в виде любезного человека, произносящего комплимент.
Тем не менее даже и это краткое известие весьма меня обрадовало, потому что в нем заключается зерно сближения между русской публицистикой и так называемым обществом. Это, конечно, все-таки сепаратизм, но уже сепаратизм полезный, имеющий в виду благотворную объединительную централизацию. Сначала оно, разумеется, как будто совестно; все кажется, что вокруг тебя говорят: вот человек! посмотрите, он в выростковых сапогах, он в замасленных перчатках, он в фуражке, он сморкается в фуляровый платок – и между тем это публицист, в руках которого участь миллионов людей ему подобных! но когда поосмотришься и попривыкнешь, то дело очень скоро войдет в свою обычную колею. Во-первых, тотчас же все убедятся, что на публицисте сапоги не выростковые, а лаковые, что в руках у него не фуражка, а шляпа, которою он очень ловко пользуется для изъяснения своих чувств, и т. д.; во-вторых, окажется, что ничьих судеб он в руках своих никогда не держал и не держит и что сам он просто чудеснейший малый – и больше ничего.
Да, надо, надо знакомить общество с русскими публицистами, и если бы я был человеком денежным, то каждый день приглашал бы к себе публицистов кушать: вы, дескать, меня будете просвещать, а от меня станете заимствоваться благовоспитанными манерами! И пошло бы у нас это дело колесом.
Во всяком случае, я решительно не постигаю, что может в этом обстоятельстве возмущать добродетельного, но непрозорливого г. Касьянова? Повторяю: я очень хорошо понимаю, тут есть сепаратизм, но если представить себе, что примеру г. Феоктистова последует сперва г. Краевский, а потом, быть может, и сам г. Касьянов (если же он славянофил, то я уверен, что он еще прежде г. Феоктистова посещал рауты и что у г. Пановского можно даже найти подробные об этом сведения), то мало-помалу литература до того объединится с обществом, что скоро мудрено будет даже отличить литератора от прохвоста…
Итак, это знак добрый, и хвала г. Феоктистову, положившему начало сближению русской публицистики с русским обществом. И я уверен, что он поступил в этом случае целесообразно и осмотрительно, то есть был одет как следует и был достаточно мил, чтобы обворожить всех дам своим истинно публицистским обхождением…
Самозванство всегда было одною из самых характерных черт собственно русской национальности. Если припомнить всех лже-Дмитриев и лже-Петров, которые некогда свирепствовали на Руси, и всю кутерьму, которую они наделали, то можно дойти даже до восторженности: вот до какой степени русский человек способен. Но так как гг. Семевский, Есипов и другие собиратели русских исторических анекдотов свидетельствуют, что эта способность все-таки пагубная и никогда своих обладателей к добру не вела, то из этого следует заключить, что пора нам одуматься и решиться называться каждому своим собственным именем.
Тем не менее способность эта осталась за нами и по настоящее время, и в особенности прижилась в русской литературе. Стоит появиться г. Костомарову (Н. И.), известному историку, обвиняемому «Московскими ведомостями» в сочинении своих собственных букварей, как рядом с ним возникает лже-Костомаров (Всеволод), известный своими трудами не столько по части истории, сколько по части политической токсикологии * . Одним словом, ни один писатель не может безнаказанно выступить на литературное поприще, чтобы не подвергнуться опасности встретить себе созию * .
Есть настоящий Крестовский (к сожалению, псевдоним) и есть псевдо-Крестовский (Всеволод, к сожалению, не псевдоним); есть Григорьев настоящий (П. П., актер и автор «Героев преферанса») и есть псевдо-Григорьев (А. А., автор различных «веяний»); был настоящий Катков, переведший «Юлию и Ромео», и есть псевдо-Катков, издающий теперь «Московские ведомости»; был настоящий Георгиевский (П. П., сочинитель «Краткого руководства к изучению российской словесности»), и есть псевдо-Георгиевский, который не знает, где у него начало, в Каткове или Леонтьеве, и где у него конец, в Феоктистове или Романовском; был настоящий Краевский, автор «Бориса Годунова» и «Письма из-за границы», и есть псевдо-Краевский, который ничего не пишет, а только внушает г. Альбертини; есть настоящий Достоевский (Ф. М., автор «Мертвого дома» и «Бедных людей»), и есть псевдо-Достоевский (М. М., автор «Старшей и Меньшой» и предприниматель журнала «Эпоха»); есть настоящий Зайцев, который ничего не пишет * , есть псевдо-Зайцев, который, вместе с Кузьмой Прутковым * , собирается написать драму под названием: «Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове» * …
Нужен ли закон против этих злоупотреблений? Это такой темный вопрос, которого я, не будучи ни Страховым, ни Косицей * , разрешить не в состоянии.
Точно так же, как между гг. Страховым и Косицей я никак не могу различить: кто из них лже-Страхов и кто лже-Косица… Грустно.
Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволновался: экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мятутся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец * , поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» – вот вопрос, который, словно пожаром, охватил головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.
С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренно увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков – уже на что, кажется, человеконенавистник! – и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» – воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы пасть в русановские объятия! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему – и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!
Итак, весь Петербург взволнован – взволнован чем? – будущими судьбами девицы Инны Горобец! Разве это не любопытно?..
Давно уже «День» не занимал моих досугов. Все это время он как-то либеральничал; то объяснял, что Россия не в Москве, а в России * , то уверял, что ничего из этого не будет, потому что слуг настоящих нет, то убеждал всех соединиться и стать кругом. Все это было, конечно, очень резонно, но как-то до того уже распущенно, до того утопало в море тропов и фигур, что только, бывало, рукой махнешь и за дальнейшими разъяснениями обращаешься уже к «Московским ведомостям». И действительно, только там можно получить истинное понятие о том, что в «Дне» представляется в виде отрывочном, беспорядочном и, так сказать, эмбрионическом; только там является настоящая популяризация тех пожеланий, которыми «День» хочет наэлектризовать свою публику, но которых он сам еще хорошо не сознает. И хотя оба эти почтенные органа очень часто между собою препираются, но распрю эту я отношу исключительно к недоразумению и нахожу, что вина в этом случае всею своею тяжестью падает на редакцию «Дня», которая, по какому-то непонятному капризу, никак не хочет признать солидарность, существующую между ею и старейшею московскою газетой.








