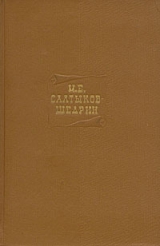
Текст книги "Том 6. Статьи 1863-1864"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 57 страниц)
Самоотвержение – глупость, самоотвержение – бессмыслица: положим, что вы, купидоны, и сумеете все это доказать; но не для вас тут глупость и бессмыслица, не для вас! Вы обязаны и жертвовать собой, и самоотвергаться, потому что в этом заключается ваше ремесло. Оставьте сеять сеятелям, вы же утучняйте и разрыхляйте землю и охраняйте посеянное от червей и гусениц, потому что, если вы насильственно присвоите себе роль сеятелей, то, наверное, насеете такой чепухи, которой впоследствии не переработает никакой плуг. Помните, что в вас только и есть одно драгоценное качество: благонамеренность – ну, и удовлетворяйте этому свойству, сколько сил ваших станет, а о прочем забудьте, потому что это «прочее» может только спутать вас. Правда, что и севастопольские твердыни пали, несмотря на геройское самоотвержение русского солдата, но разве это самоотвержение прошло бесследно? Нет, оно имело последствием возможность заключить непостыдный мир.
Итак, и старинные руководящие признаки не убеждают нас; да если бы мы и держались еще предрассудков настолько, чтобы убеждаться знамениями, то это не привело бы нас ни к какому существенному результату. С помощью анализа мы пришли к признанию слишком большого количества глупостей, чтобы это не оказало очень сильного влияния на наше собственное одурение. А потому, предоставимте, возлюбленные, всё сие воле божией и будемте на прохладе беседовать о том, какие радости ждут впереди наших счастливых потомков.
Вот, например, что повествует в 16 № «Дня» г. Касьянов (тот самый г. Касьянов * , который в прошлом году повествовал о подвигах русских барынь за границей и который ныне витает уже в пределах обширного нашего отечества, и чуть ли даже не на лоне Спиридоновки * ):
Знаете ли, что, по рассказам, случилось недавно в одном из уголков нашего пространного царства? Некоторые мальчики в одном из общественных заведений (казенных или частных – не знаю), приглашенные своим училищным начальством говеть, – объявили священнику, что они нигилисты и говеют только по приказанию, – вследствие чего, конечно, священник и не допустил их до таинства. Скандал был великий, благочестивые души местечка N были смущены, а местное начальство пришло в негодование. Мне первый поведал это мой приятель г. Оглы, городничий, – лихой малый из некрещеных татар, служивший гусаром в С. полку. Так вот этот г. Оглыпервый возвестил мне это событие, которое вслед за тем подтвердил мне и Пуффендорф, его помощник, немец и лютеранин. Я было не поверил рассказу, но ужас, написанный на лицах гг. Оглыи Пуффендорфа, как официальных ревнителей «порядка», говорил убедительнее всех доказательств. Но отчего так возмутились и вознегодовали мои добрые приятели-чиновники? Оскорбились ли они за веру, за православную церковь, взволновало ли их такое явное неуважение к ее обрядам и таинствам? «Да вы за что сердитесь?» – спросил я. «Помилуйте – ведь это нарушение
дисциплины, ведь это…» и пр. пр.: вот что было ответом Оглыи Пуффендорфа; «ведь их свободу совести никто не стесняет, может, отцы их и не крепче были в вере, да все же ведь говели и свидетельства о говении получали и штрафу не подвергались…» – прибавляли еще мои друзья, татарин и немец.
Затем почтенный г. Касьянов, возмущаясь «благоразумным лицемерием» гг. Оглы и Пуффендорфа и тут же, кстати, припоминая себе стихи знаменитого поэта-славянофила:
И ты, когда на битву с ложью *
Восстанет Правда дум святых,
Не налагай на правду божью
Гнилую тягость лат земных.
Доспех Саула – ей окова,
Ей царский тягостен шелом,
Ее оружье – божье слово,
А божье слово – божий гром! —
предлагает своим читателям, а в том числе, конечно, и упомянутым выше достославным Оглы и Пуффендорфу, убеждать «некоторых мальчиков» посредством этого не им изобретенного оружия.
Прежде всего, я нахожу педагогический прием г. Касьянова в высшей степени изнурительным и даже истязательным. Никакие «действительные меры» не пилят так нестерпимо, как пиление словесное; ничто не ожесточает человека так сильно, как неумеренное казнение посредством восторженной ерунды, вроде сейчас выписанных стихов. Настоятельнейшее и притом совершенно законное право всякого истязуемого лица заключается в том, чтобы, по крайней мере, понимать цель прилагаемых к нему истязаний. Телесное наказание причиняет боль физическую и возмущает душу; конечно, Пуффендорф и Оглы не имеют ничего привлекательного, но их можно понять, их можно сносить, как временное иго (отзвонил, да и с колокольни долой), наконец, против них можно найти известные средства обороны. Но что можно сделать против наказания стиховного, против того наказания, которое стремится высосать не тело, но самую бессмертную человеческую душу? Представьте себе такую картину: сидит педагог и декламирует:
И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых…
– Понимаешь? – ласково спрашивает педагог.
– Не-нет… не понимаю! – отвечает ученик, которого ласковость педагога вовсе не ободряет, а, напротив, заставляет подозревать нечто сугубое.
– А! не понимаешь! ну, повторим сначала!
И ты, ког-да на би-тву с ло-жью
Вос-ста-нет Прав-да дум свя-тых… —
понимаешь?
И так до бесконечности. Что будет, если ученик этот, наконец, не догадается и не скажет: понимаю? Что будет, если сам педагог, наконец, не выйдет из терпения и не закричит не своим голосом: а ну-те, подавайте-ка нам сюда розог? Поистине я недоумеваю, какой может быть выход из этого трагического положения! ведь это все равно что обнять необъятное, что изрекать неизреченное, что стараться уловить свой собственный кукиш…
Но даже если ученик и догадается сказать: «понимаю», то и тут он обязан употребить известную сноровку, то есть уметь сказать это весело, твердо, без колебаний в голосе, ибо педагоги такого рода, как г. Касьянов, очень прозорливы: сейчас усмотрят малейшее колебание в голосе, и тогда опять пошла песня в ход:
И ты, когда на битву с ложью
Восстанет Правда дум святых…
Но даже и тогда, если педагог достаточно раздражителен, чтобы выйти из себя при виде отчаянной непонятливости ученика, он обязывается высказать эту раздражительность как можно поспешнее, потому что при малейшем с его стороны замедлении ученик может дойти до конечного озлобления и сделать над собой что ни на есть скверное. Ибо ничто так упорно не отстаивает свои права на неприкосновенность и на невоспитываемость, как бессмертная человеческая душа.
Мы, русские, вообще довольно равнодушны к телесным исправлениям, в какой бы форме они до нас ни доходили, но душевных испытаний положительно выносить не можем. Мудрая Екатерина понимала это и наказывала своих придворных тем, что заставляла их, по мере вины, выучивать по нескольку стихов из «Телемахиды» * . Г-н Касьянов хочет применить эту методу в обширных размерах, но ведь надобно, чтоб он предварительно объявил вину, за которую россияне должны понести столь тяжкое наказание. Быть может, исправления этой вины предостаточно для гг. Оглы и Пуффендорфа.
Но дело не в педагогических приемах г. Касьянова, а в том факте, который он приводит. Говоря по совести, я ничего тут не понимаю. Что померещилось этим «некоторым мальчикам»? о чем они мечтали? зачем они говорили? зачем говорили?.. Скорблю.
Но если такой образ действия прискорбен со стороны «мальчиков», то в какой же мере должен он огорчать, когда исходит из среды людей взрослых? Относительно этих последних, действительно, уже ни Оглы, ни Пуффендорф не могут быть признаны целесообразными; тут надобны средства более крутые и радикальные, а именно: всякий раз, как такие люди замыслятся, следует говорить им: «А вот погодите, ужо отдам я вас г. Касьянову!» Присмиреют, наверное.
«Московские ведомости» решительно намереваются устроить из своих столбцов палладиум российского либерализма. Это не то что какой-нибудь «Голос», который скрипит, скрипит о ложбине, образуемой на Невском проспекте железно-конною дорогой, или о действиях Литературного фонда * , и до тех пор не сойдет с своей нотки, покуда, что называется, всю душу не вымотает. Нет, «Московские ведомости» берут всё вопросы крупные и при разрешении их высказывают ту развязную любезность, которая возможна только при полной уверенности в сочувствии даже со стороны такого строго-серьезного органа, как «Северная почта» * (мысль эта, впрочем, не моя, а заимствована мной из статьи г. Самарина * , распубликованной в 15 № «Дня»). Сегодня они будут рассматривать вопрос о раскольниках, завтра – вопрос о свободе слова, послезавтра – вопрос о русской общине, и везде убедят читателя, что для них нет ничего недоступного. Правда, что г. Самарин докажет им, что в суждениях их усматривается больше развязности, нежели основательности, но они сумеют вывернуться и из этого трудного обстоятельства и ответят г. Самарину, что ему оттого так кажется, что он «поставил мудрость своего кружка под гарантию российской империи», а они, «Московские ведомости», действовали всегда свободно и самостоятельно. Словом, либерализм стоит, так сказать, коромыслом – в столбцах этой старейшей русской газеты, и если не выедает глаз, то оттого только, что люди нынче вообще как-то изверились и всё подозревают, не скрывается ли даже в самых лучших человеческих намерениях и действиях что-нибудь злокозненное или человекоубийственное.
Меня, как присяжного литератора, всего более, разумеется, занимал вопрос о книгопечатании. Целую зиму «Московские ведомости» препирались об этом предмете с Финляндией * , итак это выходило у них приятно и сладко, что мне ничего не оставалось больше, как предвкушать. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в 85-м № я, наконец, прочитал давно ожидаемое разрешение этого трудного вопроса, – и как бы вы думали, в чем заключается это разрешение? – в установлении цензуры факультативной! Правда, что газета, предлагая эту меру, прибавляет, что это не мешает правительству предпринять, буде признает нужным, и более существенную реформу; правда, что она указывает при этом, например, Турцию, в которой факультативная цензура действует с успехом; правда, что мера эта предлагается ею в тех видах, чтобы русская печать получила возможность действовать с большею пользой, «успешнее бороться со злом»… – все это правда: но и за всем тем делается как-то неловко при чтении этого «умеренного и непритязательного проекта», как выражаются «Московские ведомости». Все думается: да и в самом деле, нет ли уж в нем чего-нибудь злокозненного и человекоубийственного, если он представляется таким умеренным и непритязательным?
Чтобы уразуметь отчетливо, каким оцтом вознамерились опоить «Московские ведомости» русскую литературу под видом факультативной цензуры, необходимо, во-первых, иметь достоверное известие о положении, в котором находится эта последняя, и, во-вторых, объяснить себе истинное значение выражения «факультативная цензура».
Всем известно, что русская литература издревле имеет свою специальную цель, и именно ту, которую почтенная наша газета формулирует словами: бороться со злом. Все литературные наши органы только и занимаются тем, что борются, а добра не делают. Правда, что «Московские ведомости» прибавляют к этому небольшое словечко «успешно», но, как я докажу в своем месте, понятие об успешности или неуспешности борьбы есть понятие чисто фаталистическое: одним написано на роду бороться успешно, другим – тоже на роду написано бороться неуспешно. Дело в том, что, несмотря на то что, по словам г. Касьянова (все в том же 16 № «Дня»), в нашей литературе «все слажено и такая согласная музыка труб и литавр * , что за этими звуками других почти и не слышно», несмотря на это, говорю я, понятие о зле, как о предмете борьбы, далеко не так сложно, как это может показаться с первого взгляда. Во-первых, самая степень ясности в определении характера и содержания зла весьма различна; одни литературные органы до того уже пластично выясняют это понятие * , что от этой пластичности даже воняет, что этою пластичностью они могут действовать, как обухом. При такой разухабистой простоте отношений к злу не может быть и речи о неуспешности борьбы противу него; тут чем сильнее и энергичнее производится лупка, тем лучше и приятнее; тут не только никто не станет препятствовать, но иной, видя человека до такой уже степени убежденного, даже на водку дает. Напротив того, другие литературные органы относятся к этому предмету с меньшею ясностию, робко и несколько даже спутанно. И это происходит совсем не оттого, чтобы в самом деле эти органы не понимали того, о чем говорят или с чем борются, а просто оттого, что в природе существует закон благовременности и неблаговременности, а еще и оттого, что самое «зло» некоторым не вполне развязным умам представляется в формах далеко не столь решительных, чтобы можно было взять на себя ответственность устраивать на него ежедневные и всегда безопасные облавы.
Во-вторых, кроме различной степени ясности в формулировании зла, имеется еще весьма значительная разница в самых взглядах на зло, в самых понятиях об нем. Разумеется, есть такого рода злодейства, на которых литературные органы, от «Голоса» до «Московских ведомостей» (кто эту бездну наполнит?), сходятся одинаково; таковы, например: социализм, демократизм, материализм и т. д., но сколько же есть и таких злодейств, о которых и «Голос» и «Московские ведомости» совершенно различных мнений? Относительно первых борьба, при всевозможных обстоятельствах печати, непременно должна сопровождаться успехом, ибо таково уже свойство самых предметов, что достаточно наименовать их, чтобы видеть себя триумфатором; что же касается до вторых, то здесь, очевидно, весь успех зависит от большей или меньшей прозорливости литературного органа и от того, с тактом или без такта выбирает он сюжеты для борьбы. Литературные наши деятели почерпают сведения о зле из разных источников; говоря языком астрологов, одни борются под влиянием планеты Нептуна, другие – под влиянием Марса, третьи – под влиянием Меркурия и т. д., но понятно, что зла, указываемые этими планетами, могут быть весьма разнообразны, а следовательно, таковым же разнообразием в своих приемах должна сопровождаться и борьба с ними. Главную роль в настоящем случае, разумеется, играет понятие о большей или меньшей терпимости зла, а следовательно, и о большей или меньшей благовременности борьбы с ним. При настоящих условиях русской печати это последнее понятие установляется цензурой, но, установляя его, цензура все-таки отнюдь не подрывает другого понятия: понятия о самой благонамеренности борьбы со злом. Они говорят: вы все, действующие под влиянием Нептуна, Марса и Меркурия, все вы люди благонамеренные, но благонамеренною я могу признать только ту борьбу, которая производится под влиянием, например, Меркурия. Коротко и ясно. Слыша это, что делают сторонники Нептуна и Марса? Они, конечно, примиряются с своим положением, но в то же время дают тонко почувствовать: не будь у нас цензуры, так и невесть что наделаем! Вот это-то их хвастовство и нужно иметь в виду, если уже признается необходимым изменить условия, в которых находится русское книгопечатание. А для того чтобы достигнуть этого, необходимо до известной степени ограничить понятие о благовременности; одним словом, необходимо, чтобы, например, «Голос» имел право высказывать свою неблаговременную благонамеренность с тою же свободой, с какою «Московские ведомости» высказывают свою благонамеренность благовременную.
Может ли удовлетворить этому требованию цензура факультативная? Нимало. Что такое факультативная цензура? Это такого рода административная мера, которая, не изменяя ни в чем коренных условий печатного слова, ограничивается только дарованием авторам или издателям номинального права освобождать или не освобождать себя от действия предварительной цензуры. Почему я называю это право номинальным? А потому просто, что здесь возбуждается начало ответственности, но в то же время ни признаки, ни последствия этой ответственности ничем не определяются, и главным решителем вопросов остается все то же понятие о благовременности, понятие, подвергающееся беспрерывным изменениям, которые уловить не только трудно, но даже невозможно. Следовательно, в окончательных своих результатах дело сводится здесь или к интриге, или к такой сверхъестественной прозорливости, которая ни в каком случае не может быть обязательною для всех литераторов без различия.
А потому: люди прозорливые или люди характера совещательного непременно поспешат освободиться от стеснений предварительной цензуры. Не потому, чтобы эта свобода в самом деле доставила им большую возможность «успешно бороться со злом», – этою-то возможностью они, и состоя под цензурой, пользуются преестественно, – но потому, что свобода эта присовокупляет еще новую роскошь к той массе роскоши, которой они до того пользовались. С нею они приобретают не только право излагать все, что истекает из свойств того наития, под которым они действуют (этим правом они обладали и прежде), но и множество разных других материальных удобств, как, например: избавляются от сношений с цензурой и от всех формальностей, которые с этим сопряжены. Формальности эти сами по себе совсем не тяжелы, но самая необходимость подчиняться им должна возмущать человека, черпающего вдохновение из чистого источника и доведшего свою мысль до полного соответствия. Но люди непрозорливые или же хотя обладающие элементами совещательности, но совещательности неблаговременной, положительно вынуждены будут уклониться от факультативной цензуры в пользу чистой предварительной, ибо, видя перед собой только темный принцип «ответственности», они, как пловцы без кормила и весла, легко могут остаться в мучительной неизвестности насчет того, что лежит на дне этого принципа: прожорливый ли Левиафан или просто глубь водная. Будучи в существе своем чисты сердцем и непорочны душою, они увидят себя вынужденными невольно, но постоянно грешить против благовременности, которой признаки с добровольным отказом от предварительной цензуры скроются от них безвозвратно.
И таким образом, литературные органы, стоящие на равной высоте благонамеренности, очутятся в положении далеко не равном. «Голос» будет томиться в узах, а «Московские ведомости» будут разглагольствовать. Мало того, они будут еще поддразнивать:
Друг! отчего печален голос твой?
Ответствуй, друг! реши мое сомненье!
Иль он твоей судьбы изображенье?
Иль счастие простилося с тобой?
И чего доброго, под влиянием этих подстрекательств, «Голос» вооружится храбростью и воскликнет: не надо и мне цензуры, хочу и я, в свою очередь, пороскошествовать!.. Ну, и погибнет.
Но может выйти из этого обстоятельства и еще горшее. Прозорливые люди возмнят себя уже совершенно развязанными относительно людей непрозорливых и скоро потеряют последний признак стыдливости, окончательно заменив ее одною ясностью. И когда непрозорливые люди будут отвечать им вяло или неясно, то прозорливые скажут: «Сами вы виноваты! зачем же не стали в то самое положение, в какое стали мы! ведь вас не потчевали!» Вот и судитесь тогда с ними!
Так вот каким оцтом вознамерились опоить русскую литературу благовременно-благонамеренные «Московские ведомости». Ужели ли же чаша сия и в самом деле не пройдет мимо нас?
Еще одно слово. Весь петербургский чиновничий мир взволновался, экзекуторы в страхе, провинциальные секретари и сенатские регистраторы мятутся, как домашние животные перед землетрясением. «Исправится ли девица Инна Горобец * , поймет ли она, где ее истинные доброжелатели?» – вот вопрос, который, словно пожаром, охватил убеленные сединами головы этих невинных людей. В ожидании разрешения его дела остаются в запустении и в бумагах допускаются бесчисленные орфографические ошибки. Пользуясь этим административным смятением, молодые и вольнодумные чиновники даже вовсе перестали ходить на службу и с утра до вечера сибаритствуют себе в музыкальном кафе-ресторане купца Наумова.
С другой стороны, петербургские прогрессисты тоже взволнованы, но уже с некоторым оттенком уныния. До сих пор они носились с Инною, как некогда носились с Базаровым; они искренно увлекались ею и говорили: ну да, вот это наши люди, ибо на них почивает наша печать! Даже философ Кроличков – уже на что, кажется, человеконенавистник! – и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» – воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры, которые могут сообщать подобному положению надлежащий интерес. И вдруг все эти прогрессисты теперь увидели, что Инна всегда только на волосок стояла от того, чтобы перейти в русановскую веру! Какое разочарование! Только что было приискали Базарову подругу жизни, и вдруг эта подруга изменяет ему – и для кого изменяет? для тихо курлыкающего каплуна Русанова!
Итак, весь Петербург взволнован – взволнован чем? – будущими судьбами девицы Инны Горобец! Как хотите, а это явление любопытное…








