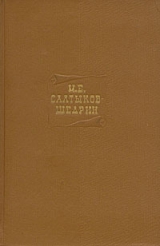
Текст книги "Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
– Ах, Крамольников! – произнес Тебеньков с явным оттенком нетерпения.
– Знаю я, что я Крамольников, но не в этом дело. Скажите, почему еще так недавно обыватель самого несомненно-заскорузлого пошиба, развивая тезис о пользе ежовых рукавиц, всегда оговаривался: «Знаю, мол, я, что ежовые рукавицы не составляют последнего слова науки, но что же делать, если без них нельзя обойтись? Погодите! потерпите! Придет время, когда нецелесообразность этого средства обнаружится сама собою; но при настоящих условиях оно представляет очень существеннее подспорье. Временное, коли хотите, и даже… не вполне нравственное, но тем не менее несомненное и необходимое!» Вот сколько было нужно оговорок, чтоб объяснить – не защитить, а только объяснить – ежовые рукавицы! Почему, спрашиваю я вас, этот заскорузлый человек не отстаивал ежовых рукавиц по существу, а только объяснял их, как явление временное, допускаемое, так сказать, с стесненным сердцем? И почему он ныне объявляет прямо: «Ежовые рукавицы – и средство и цель! кроме ежовых рукавиц, ничего нет и не будет!» Почему-с? А потому, государи мои, что когда-то у этого обывателя Стыд в глазах был, а теперь – и следа его нет! Вот.
Крамольников все больше и больше возвышал голос, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонам, испытывая сквозь открытые двери пространство, наполненное пестрыми кучками завсегдатаев. Некоторые из слушателей даже заносили ноги с намерением, при первом случае, улепетнуть.
– Почему вы сами, господа, – не унимался Крамольников, – еще так недавно с охотой вступали в собеседование по поводу самых горячих вопросов жизни, а теперь вы не только уклоняетесь от подобных вопросов, но прямо стараетесь заглушить в себе эту потребность разговорами, человеческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали в сердцах ваших движение совести, а теперь – чувствуете только постыдные порывы самосохранения? Затем позвольте еще один нескромный вопрос…
– Оставьте, Крамольников! – раздалось несколько голосов, – положительно вы делаетесь невозможны!
– Кто? я невозможен? – уже полным голосом возопил Крамольников, – я, который довел свои требования до минимума? я, который, ввиду суровой действительности, добровольно отказался от заветнейших мечтаний жизни и подчинил их представлениям возможного, доступного и благовременного? я, который, подобно алчущему еленю, искал чистых струй для утоления угнетавшей меня жажды и вместо того удовлетворял ее словами: «Подождите! потерпите!?», я, который, в надежде славы и добра, * с восхищением повторял: «Наше время не время широких задач?!?», я, который целым рядом передовиц доказывал, что на первый раз мы обязываемся довольствоваться щелкой… с тем, разумеется, чтоб щелка, расширяясь в строгой постепенности, образовала со временем соответствующее отверстие?! Я невозможен? я?!?!
Он кричал так громко, что в дверях уже показалось несколько ябеднических голов. В рядах либрпансёров обнаружилось серьезное беспокойство, чуть не смятение, и ноги их решительнее прежнего начали заноситься по направлению к выходу. Заметив это движение, Крамольников простер руки, как бы удерживая беглецов. В этой позе он напоминал собой капельмейстера, который начал назначенный в программе Concertstück [17]17
концертный номер.
[Закрыть]и уже не может не довести его до конца. Всецело поглощенный горькими впечатлениями дня, он утратил всякое представление о времени и месте. Вперив глаза в пространство, он, казалось, отыскал в нем какое-то лучезарное мелькание, которое заставило его позабыть и о слушателях, и об инстинктах самосохранения, заставлявших этих слушателей смотреть на всякое «проявление» или «оказательство», как на скандал, который сам по себе, помимо злостных комментариев, может запутать и обвиноватить целую массу совсем неприкосновенных людей.
– Я каюсь! – бичевал он сам себя, – я был малодушен! Мало того: я был… постыден! Я изменил большим убеждениям и примирился с малыми… это нечестно! Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку… как раб! Я думал, что это знаменует мудрость, а на поверку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! В одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безо всего! Я наказан жестоко, но заслуженно! Ибо я был не только постыден, но и глуп. Глуп – вот что больнее всего! Постыдность сама по себе может служить даже залогом успеха; глупость – может служить залогом только бессрочного оплевания! Постыдному человеку только при очень благоприятных условиях могут сказать в глаза: «Ты постыден!» Глупому человеку при всяких условиях, благовременно и безвременно, говорят: «Дурак! дурак! дурак!» Вот именно таким дураком я сознаю себя…
Он остановился, отыскал чей-то до половины наполненный стакан пива, залпом его выпил и продолжал, по-прежнему вперяя глаза в пространство:
– Тем не менее мне сдается, что как ни обидна глупость, по при известной обстановке она может служить смягчающим обстоятельством. «Постыден, но без разумения» – такой вердикт еще можно вынести! Но ежели вердикт гласит кратко: «Постыден!» – и только по неизреченному милосердию судей не прибавляет: «с предварительно обдуманным намерением» – такого страшного вердикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо не называю, к кому мог бы быть применен подобный жестокий вердикт, но все-таки приглашаю вас обдумать мои слова, господа! К сожалению, многие из вас думают, что можно до такой степени умалиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая действительность не выдержит и поступится хоть забвением… Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвения свойственны явлениям нарождающимся, неокрепшим и не уверенным в своем будущем, а не действительности, имеющей за собой многовековую историю. Действительность есть действительность, и, в силу своей общепризнанности, в силу своего исконного торжества, она никогда и ничем не поступается и никогда ничего не забывает. Она вполне последовательно выполняет свою задачу, то есть подчиняет себе все, находящееся в районе ее кругозора, фасонирует * все, что поддается ее действию, а неподдающееся – выбрасывает за борт. Вот будущность, которая предстоит. И вы не минуете ее, хотя и надеетесь, что норы, в которых вы спрятались, в ожидании лучших дней,не выдадут вас. Выдадут, господа! Да вы и сами, наконец, не вытерпите насильственного заключения и выйдете! И вот, когда это случится, перед вами немедленно встанет все ваше робкое, скудное прошлое, и встанет не в виде укора в скудости, как вы постыдно надеетесь, а в виде улики в стремлении к потрясению основ! Все ваши подходы припомнятся вам, все недомолвки будут сочтены. Тебеньков был несомненно прав, говоря, что одного-двух ябедников совершенно достаточно, чтоб держать в осаде целую массу людей, но он позабыл прибавить, что если действительно сила ябеды так велика, то всякая попытка укрыться от нее является по малой мере бесплодною. Я не говорю уже о тех архиябедниках, которые, при посредстве печатного станка, всю Россию опутали своею подкупною кляузою * и на могилу которых потомство вместо монумента уготовает осиновый кол; но сколько есть ябедников третьестепенных, захудалых, которые, собственно говоря, не имеют никакого ябеднического авторитета, а только похваляются тем, что они ябедники!.. А вы и перед ними стушевываетесь, и в них признаете какую-то силу, которая в одну минуту может вас скомкать и поглотить! Стыдитесь, господа! Вспомните, что вы люди и что не напрасно предание отличает человеческий образ от звериного! Вспомните, что в известных случаях отсутствие мужества равняется предательству! Вспомните, наконец…
Но тут Крамольников круто оборвал. Случайно оторвав глаза от лучезарного пространства, к которому они были прикованы, он опустил их до̀лу… Перед ним стоял пустой стол, загаженный пивными пятнами. Собеседники, четверть часа тому назад сидевшие тут, исчезли все до единого.
Взамен их в дверях стояли Скорпионов и Тарантулов.
– Ах, господин Крамольников, как вы хорошо говорите! – в умилении воскликнул Скорпионов, – то есть та̀к вы говорите. Та̀к говорите!.. век бы вас слушал и не наслушался бы!!
Вечер четвертый *
Пошехонские реформаторы
I
Андрей Курзанов
В начале сороковых годов в семье пошехонского мещанина Тихона Гордеева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на себя общее внимание. Это был сын старого Тихона, Андрей, молодой человек 20–22 лет.
Семья Курзановых была бедная, смирная и богобоязненная. Старый Тихон происходил из крепостных и состоял в дворне помещика Беленицына в качестве «живописца». Все, что носило на себе следы масляной краски в селе Верховом, начиная от полов «под паркет» в барской усадьбе и кончая портретной галереей бар, барчат и барышень, а также иконостасом сельской церкви, – все это было делом рук Тихона Курзанова. В тогдашнее время помещики любили украшать свои жилища произведениями искусств, так что почти во всяком господском доме можно было встретить и «Иродиаду», держащую на блюде голову Иоанна Крестителя, в которую Ирод тыкал вилкою, и «Сусанну», лежащую в обнаженном виде, с двумя старцами по бокам, и «Девушку с тазиком и графином воды», и «Обедающих дураков», и т. д. Тихон и такие картины умел писать. Человек он был смирный и покорный, а в своей специальности положительно неутомимый. С утра до вечера он готов был «писать», но зато ко всякой другой работе выказывал решительную неспособность. Ни на сенокос его в горячее время послать было нельзя, ни даже в лес за ягодами или за грибами – все равно ничего не принесет. Да и господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принуждение может только изнурить Тихона, а делу не поможет. Поэтому, когда по дому не требовалось никакой масляной или живописной работы, то Тихона отпускали по оброку, который он и платил всегда аккуратно. Когда ему было уже лет около тридцати пяти, его женили на сенной девушке Аннушке, которую тогда же обложили умеренными тальками * , а лет через пять после того барин Беленицын скончался и, умирая, почему-то вспомнил о Тихоне и заказал барыне Анне Семеновне дать ему вольную.
Вышедши на волю, Курзанов поселился в Пошехонье и жил, как говорится, с хлеба на квас. Большой нужды не было, но не было и настоящей сытости. На недостаток заказов он не жаловался, но заказы были исключительно церковные, которые, как известно, всегда оканчиваются словами: «Для бога-то, чай, можно и уступить?» И Тихон уступал до самой крайней степени, потому что и сам понимал, что для бога не уступить нельзя. Аннушку Тихон любил, но, по странной особенности всего своего душевного строя, как будто считал свое сожитие с нею делом греховным, на которое он не решился бы, если б не тяготела над ним всевластная рука крепостного права. С своей стороны и Аннушка любила его, однако ж к материальным лишениям относилась не совсем равнодушно и нередко-таки поговаривала: «Только слава, что золотые у Тихона руки, а круглый год мы с ним по мытарствам ходим».
Андрей рос тихо и одиноко. Это был мальчик впечатлительный, с очень нежным, почти болезненным организмом. С раннего детства окруженный образа́ми и книгами церковного обихода, он легко пристрастился к божественному. Не пропускал ни одной церковной службы и в особенности любил ходить на богомолья по соседним пу́стыням и монастырям, где старый Тихон имел почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенные общежития, умиляла его и растворяла его детское сердце любовью. Тою тихою, ровною, не сознаваемою, но разлитою во всем организме любовью ко всему,которая согревает не только самого любящего, но и весь окружающий его мир. Не трепетом наполняли его вековые сосновые боры, служащие как бы преддверием к обителям, а сладко волновали все его существо смешанным чувством радости и жаления. Ноги его утопали в зыбучем песке, а он чувствовал, что за плечами у него вырастают крылья, которые несут его, несут… И сердце ширится и рвется, и глаза куда ни обратятся, везде им навстречу: свет, свет, свет… Потребность пасть на землю появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, целовать ноги странных и убогих, плакать, страдать, умереть…
Грамота далась ему легко, но ни к какому другому ремеслу он охоты не проявил. Даже к живописи отнесся равнодушно, потому что существо его было переполнено каким-то неизъяснимым просиянием, которое не имело ни формы, ни очертаний и, следовательно, не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочем, отец и не нудил его; он сам имел природу, тождественную с сыном, и ежели «писал», то лишь по привычке и ради нужды. Мать тоже не огорчалась внешним бездействием сына, потому что провидела в нем будущего «богомола», который не только себя, но и их, стариков, со временем прокормит.
«Богомолы» в старые годы составляли особую касту, которой жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавшие себя странствованиям и молитвенным подвигам. Были между ними искренние, подвижничавшие ради подвижничества, но были и такие, которые смотрели на свои скитания, как на выгодное ремесло. Последняя категория выделялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они обыкновенно в полумонашеской одежде, состоявшей из длинного черного полукафтанья, подпоясанного широким расшитым поясом, застегнутым на крючки. Волосы подстригали редко, на голове носили высокие шапочки на манер камилавок * и ходили, опираясь правой рукой на высокую трость, вроде поповской. Старозаветные помещики (а преимущественно их жены и вообще женский пол), редко выезжавшие из своих гнезд, охотно их принимали и сажали за господский стол, успокоивали на гостиных перинах и любили с ними беседовать. Предметом бесед обыкновенно служили разные апокрифические * сказания: о хождении души по мытарствам; о том, как некто, быв по ошибке отозван от мира сего и потом вновь возвращен к жизни, передавал сокровенные подробности загробного существования, коих был очевидцем; о том, что будет на Страшном суде и какая кого и за что ожидает кара. Но в область непосредственных обличений не пускались, и кары, по-видимому, сулили не весьма строгие, потому что домашний помещичий обиход от этих собеседований не изменялся. Помещицы вздыхали, плакали, но вслед за тем слезы высыхали и жизнь продолжала течь своей обычной колеей. Вели себя «богомолы» по большей части скромно: сплетен не переносили, вещей плохо лежащих не утаивали и только изредка запутывались в девичьих, как бы во свидетельство, что и у них, как у прочих смертных, плоть немощна * . Но это им извиняли, потому что как же с этим быть? Но главное, что в них восхищало и умиляло, – это то, что большинство их круглый год не вкушало скоромной пищи. Иные даже в Светлый праздник ограничивались тем, что поцелуют яичко, да и опять за рыбку да за грибки. От этого постоянного воздержания некоторые из них входили в экстаз и прорицали. Предвещали вещи простые, всем близкие и понятные: неурожай или изобилие плодов земных, ненастье или вёдро, войну или мирное житье, угадывали пол ребенка в утробе матери и проч. Такие прорицатели особенно чествовались.
Вот на такое-то привольное житье и рассчитывала Аннушка для своего сына. Однако ж ожидания ее сбылись только отчасти. Из Андрея действительно выработался богомольный и набожный юноша, но в то же время умственный склад его сформировался с такими своеобразными особенностями, которые решительно не допускали его оставаться на почве простого богомола-ремесленника. Не мир апокрифических сказаний пленял его мысль, но мир человеческих злоключений, начиная от материальной неурядицы и кончая страданиями высшего разряда. Люди, не получившие никакой воспитательной подготовки, но в то же время влекомые неудержимою силою к свету, встречаются нередко в низменных слоях общества * , но в большинстве случаев эти личности впадают в экзальтацию и становятся чуть не душевнобольными. К счастью, Андрей Курзанов избежал этого. Он не сделался ни юродивым, ни бесноватым, ни прорицателем, а остался обыкновенным человеком, который наивно и без раздражения развивал мысли, не имевшие никаких точек прикосновения с сложившимся типом жизни. Из всего вычитанного, слышанного и виденного он извлек особый нравственный кодекс, который коротко выражал словами: «Жить по-божески».
Выражения такого рода настолько общи, что не дают повода для каких-либо непосредственных выводов, да вряд ли и сам Андрей подозревал, что такие выводы возможны. По крайней мере, он не настаивал на них. Поэтому в большинстве случаев выражения эти остаются незамеченными (не переведенными на культурно-чиновничий язык) или же сопричисляются к массе тех мнимо бессодержательных афоризмов, которые от времени до времени изрекает «непросвещенная чернь» * . В сущности, однако ж, они далеко не бессодержательны, и простые сердца отлично угадывают их таинственный смысл «Жить по-божески» значит жить по справедливости, никого не утесняя, всех любя и взаимно друг друга прощая. Коли хотите, непосредственных применений и в этой расчлененной программе не видится, но для чуткого сердца простеца * она несомненно исчерпывает всю сложность и все разнообразие человеческих отношений.
Тем не менее в то время простые сердца были слишком задавлены, чтобы вслушиваться и вдумываться в какие бы то ни было досужие речи, и Андрею поневоле приходилось отыскивать для себя аудиторию исключительно среди представителей и представительниц тогдашней пошехонской интеллигенции, то есть в помещичьей и чиновничьей среде.
И тут наибольшая часть внимания шла со стороны женщин. В пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкий, ласкающий голос, и задумчивые большие глаза, и даже меланхолическое телосложение. Он не говорил ни о пламени неугасимом, ни о черве неусыпающем, ни о раскаленных щипцах и сковородах, а сладко волновал сердце «справедливыми» словами. К словам этим по временам прислушивался и мужской пол, и хотя не умилялся по их поводу, но с формальной стороны тоже не мог не находить «справедливыми». Так что за Андреем Курзановым в скором времени во всех захолустьях пошехонской интеллигенции утвердилась репутация «справедливого» человека.
Да иначе * оно и не могло быть. Делать какие-нибудь посылки из общих, и притом совершенно туманных, положений в то время никому и на мысль не приходило, а что «справедливость» есть термин вполне почтенный и непререкаемый – в этом никто сомневаться не дерзал. Об этом и помимо Андрея слыхали и в церкви, и на школьной скамье – какой же наставник позволил бы себе не отдать дани похвалы самоотверженности, любви к ближнему и прочим элементам, из которых составляется «божеское» житие? – и в тех не частых, но все-таки по временам прорывавшихся собеседованиях, когда даже в среду́, со всех сторон наглухо запертую, вдруг неведомо откуда и каким образом налетало свежее чувство, просветлявшее умы и умилявшее сердца.
Только вот в глаза этой «справедливости» не видали, так это, пожалуй, придавало еще больше цены устным беседам о ней.
– Что значит жить по-божески? – спрашивала Андрея добрая помещица Марья Ивановна, до которой пал слух, что в Пошехонье объявился «блаженный», изрекающий «справедливые» слова.
– А вот что: тебе кусок, и ему кусок, и всем прочим по куску! – объяснял Андрей в наивной уверенности, что в его объяснении не только нет ничего угрожающего, но что воистину иного угодного богу житья не может существовать.
Марья Ивановна выслушивала это объяснение и тоже никаких угроз в нем не находила. Напротив того, думала: «Вот кабы бог привел!»
– А мы-то, жадные! – печаловалась она, – все норовим, как бы заграбастать да оттянуть. Все бы себе! все себе!
– Жадность, сударыня, тоже разная бывает. Иной от болезни жаден, другой от комплекции. У нас в Пошехонье купец есть, так он сколько ни ест, никак наесться не может. И в Москву от своей болезни лечиться ездил, и в Киев, по обещанью пешком ходил – не дает бог облегченья. Такую жадность нельзя вменить в грех. А вот ежели кто «от себя» жаден, того ограничить должно.
– Ах, Андрюша, Андрюша! как же ты его ограничишь, коль скоро и граница, и мера – все в его собственных руках состоит? Ты ему: «Довольно, сударь!» а он тебе: «Давай еще!» Как ты меняограничишь, коли все кругом куски – все мои? один я от папеньки получила, другой – с аукциона купила, собственные денежки за него выложила? Какой хочу – тот возьму да и съем!
– И кушайте, сударыня! Я не к тому… Вы, сударыня, по законукушаете, а я говорю, как по-божески. По законувсякий около своего куска ходит, а по-божескивот как: тебе кусок, и мне кусок, и прочим по куску. Все чтобы сыты были.
– Хоть бы часок этак-то пожить! – восклицала Марья Ивановна и сладко задумывалась.
Сердце ее переполнялось благоволением, а мысли разбегались во все стороны. От Аришки перебегали к Ипатке, от Ипатки к Антипке… Все сыты! Даже Максимка-пастух – и тот сыт! А она смотрит на них и радуется…
Конечно, вспоминалось ей не раз – и даже очень подробно вспоминалось, – как однажды у них на усадьбе, об масленице, «бунт был»… Уже онили в ту пору не ели! И блинов-то им!и судачины-то им!и толокна-то! и творогу! И что ж, однако, под конец мерзавцы сделали! В самый прощеный день дали им молочка похлебать… так чуть-чуть с кислецой… а они взяли, всем кагалом привалили к господскому крыльцу да молоко-то в снег и вылили… Вот ведь неблагодарность какая!
– А может, это и от болезни или от комплекции, как у того купца… Сколько в него ни вали – всё как в прорву! Ну и Христос с вами, коли так… кушайте, батюшки, кушайте! Лучше пускай уж я… много ли мне нужно? – супцу, да жарковца, да слатенького… У меня ведь «комплекции-то» нет – вот я и сыта! А прочее – пусть уж все им! И картофелю, и капусты, и хлеба… всего! Пускай будут сыты… дармоеды ненасытные! Вон Порфишка-то и сейчас поперек себя толще ходит! И все-то ему мало! всем-то он жалуется, что с толокна у него живот подвело… Вот так «комплекция»!
Как бы то ни было, но первая подробность «божеского жития» выяснилась достаточно: тебе кусок, и мне кусок, и прочим всем по куску. Так следует жить «по справедливости». Но ежели «все куски – мои», то «кушайте, сударыня»! Хоть это и не «по-божески», но ничего с этим не поделаешь. Тем-то и дорог был Андрюша, что хоть «справедливые слова» у него из уст потоком текли, а никому от них обидно не было…
Затем постепенно выяснилась и другая подробность «божеского жития».
– Коли кто хочет «по справедливости» жить, – говорил Андрей, – тот должен кичливость оставить. Чтобы ни рабов, ни данников, ни кабальных людей – ничего такого чтоб не было. Все в равной друг с другом любви должны жить. Я – тебе послужу, ты – мне. У всех один бог, и всех он одною любовью любит, и всех одним судом судить будет.
– А мы-то! а мы-то! грехи наши, грехи!
– Коли мы все друг друга в равной любви содержать будем, то и огорчения наши прекратятся сами собой. И ненависть, и свара, и ропот – все исчезнет, потому что все это от нелюбви, от неравенства. Одним честь, а другим – поношение; одним веселие, а другим – скорбь. Как тут огорченью не быть?
– Что говорить! уж мы, дворяне, на что богом и царем взысканы, а и то, друг на дружку глядя, нет-нет да и позавидуешь!
– Все мы по естеству равны; все Адамовым грехом * в ад ввержены были, и все Христом-спасом истинным из ада освобождены. А ежели все равны – стало быть, и одинаковая часть всем от бога положена.
– Откуда же они взялись… рабы? – робко спрашивала Марья Ивановна, – бог не повелел, а их видимо-невидимо.
В господских домах – господа, в людских да на скотных – рабы… Господа приказывают, а рабы повинуются, тяготы носят…
– В старину, сударыня, это сделалось. Не все люди равной комплекции рождаются: один покрепче, другой послабее, а третий и вовсе расслабленный. Сильный-то слабого и покорил. Да покоривши, взял да узлом завязал. Теперь ни конца, ни начала этому узлу и не отыщешь!
– Ишь ведь что сделал!
Марье Ивановне становилось жалко. «Как это так? – думалось ей, – Христос-спас истинный всех из ада освободил, а «он» – ишь что сделал! «Он»-то свое дело сделал, да и ушел – ищи его да свищи! – а она, между прочим, с аукциона купила, собственными денежками все до копейки заплатила… как теперь рассудить? Ежели поступить «по-божески», так неужто же денежки моитак-таки пропасть должны?.. Ежели же не по-божески поступить…»
– Барыня! головку причесать пожалуйте! – прерывала ее мечтания горничная Анютка.
Перерыв этот являлся очень кстати, ибо давал ее мыслям новое направление.
– Вот, Андрюша, я какова! – жаловалась она сама на себя, – и голову-то себе причесать сама не могу, все Анютка да Анютка! Анютка, прими! Анютка, подай! – а я сижу как царевна да руки-ноги протягиваю! И знаю, что все мы одной природы, а не могу… Ни я одеться сама, ни я умыться… словом сказать, без Анютки, как без рук!
– Что ж такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится… это ей и по закону вменяется! Я ведь не против закона иду, а говорю, как по-божески…
Марья Ивановна удалялась успокоенная и отдавала свою голову в распоряжение Анютки. Но в это же время она уносила новую подробность «божеского жития»: все мы Христом-спасом истинным из ада освобождены, а «он» – ишь ты, что сделал! А она между тем с аукциона купила… по закону!
Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась к прерванной беседе.
– Как же нам душу-то * спасти? – вот ты мне что скажи! – беспокоилась она.
– За други своя полагать ее надо * – вот и спасешь! – отвечал он, нимало не затрудняясь.
Однако ж Марью Ивановну ответ этот заставал неприготовленною.
– Как это… душу? – сомневалась она, – словно бы уж… Хоть бы руку-ногу, а то… душу! Слыхала я, что в пустынях живали люди, которые… А чтобы в миру это было… не знаю!
– В пустыне молитва спасает, а в миру – жертва душевная. Коли мы все в разнобойку по углам будем сидеть да за шкуру свою дрожать – откуда же добро-то в мир придет?
– Уж и не знаю, как тебе сказать… Конечно, мало ли какие у людей «свои дела» бывают… иной на службе служит, другой по коммерческой части… но чтобы у кого такое «занятие» было, чтобы «душу» полагать… не знаю! И не слыхала, и не видала… не знаю!
– Обиду ежели видите – заступитесь; нищету видите – помогите; муку душевную видите – утешьте. Вот это и значит душу за други своя полагать…
– И заступитесь, и утешьте, и помогите! – уже дразнилась Марья Ивановна. – И помогите! и помогите! А коли помогалки-то, помогальщик, у меня нет?
– На нет, сударыня, и суда нет.
– Ну, хорошо. Пускай по-твоему. Стало быть, как встала с утра, так я и беги, вытараща глаза? За одного – заступись, другому – помоги, третьего – утешь! А за меня-то кто беспокоиться будет?
– Друг по дружке, сударыня. Вы за всех, все за вас. * Христос-спас истинный крестное страдание за нас принял, а мы и побеспокоить себя не хотим!
– А ежели я… не могу! ежели я… ну, нет во мне этого, нет?!
– А не можете, так и не нудьте себя, сударыня! Я ведь не то, чтобы что…
– И вот я тебе еще что скажу. Ну, положим! Положим, что я прытка. Туда – побегу, сюда – нос суну, в третьем месте – пыль столбом подыму… ай да Марья Ивановна! вот так Марья Ивановна! А ну, как мне самой за это нос утрут? «Откуда, скажут, помогальщица непрошеная выискалась? Какой такой, скажут, закон есть, чтобы в чужое дело свой нос совать?» А ну-тко, сказывай, какой я на эти слова ответ дам?!
– По закону это действительно так… По закону каждый сам по себе – это лучше всего. Ведь и я против закона не иду, а только объясняю, что коли ежели по-божески…
– Знаю я, что «по-божески» хорошо… Ты вот по-божьему да по-справедливому, а мы – по-грешному да по-человечьему! Ты слабость-то человечью ни во что не ставишь, а мы об ней на всяк час помним! Куда ты ее, слабость-то нашу, денешь?
Таким образом, выяснялась и еще подробность «божеского жития»: душу за ближнего полагать. Правда, что Марья Ивановна так и осталась при своем мнении насчет практического применения этого правила, но благодаря взаимным уступкам и разъяснениям дело все-таки слаживалось легко. Собственно говоря, Андрюша ведь никого не нудил, а только говорил: «Коли можете жить по-божески, то и душу по-божески спасайте, а коли не можете по-божески жить – спасайте душу «по закону»». Так она именно и поступает: «божеское житие» имеет «в предмете», а душу спасает… «по закону»!
Тем-то и дорог был Андрюша Марье Ивановне, что он нудить не нудил, а между тем «справедливые слова» говорил, И говорил их в такое время, когда у всех и на уме, и на языке только жестокие слова были. Сколько лет она за Кондратьем Кондратьичем в замужестве живет, и ни одного-то «справедливого» слова от него не слыхала! Все или водку пьет, или табачище курит, или сквернословит, или на конюшне арапником щелкает! А ночью придет пьяный и дрыхнет. В этом вся ее жизнь прошла. Только от Андрюши она и увидела свет. Поговоришь с ним – словно как и очнешься. И об душе вспомнишь, и о боге… чувствуешь, по крайности, что не до конца окоченела!
И не с одною Марьей Ивановной беседовал таким образом Андрей, а вообще любил по душе поговорить и, разговаривая, нередко касался таких предметов, о которых тогда никто и в помышлении не имел. Таким образом, он уже в сороковых годах провидел и новые суды, и земство, и даже свободу книгопечатания. *
О судах он так выражался:
– Нынче судья-то забьется в мурью да и пишет, что ему хочется. Хочет – завинит, хочет – белее снега сделает. А как на миру-то его судить заставят, так правда-то сама из него выскочит!
О земстве:
– Как возможно сравнить: чиновник ли по уезду распоряжается, или сам обыватель своим делом заправляет? Чиновнику – что? он приехал, взглянул, плюнул и уехал! А у обывателя каждая копеечка на счету, и об каждой у него сердце болит!
И, наконец, кратко, о свободе книгопечатания:
– Помяните мое слово, ежели в самой скорости волю книгопечатанью не объявят!
И действительно, так, по его, впоследствии все и сделалось.
Но что всего замечательнее, ни пошехонский судья, ни пошехонские чиновники, ни цензурное ведомство – никто на Андрея не претендовал. Потому что все понимали, что он никого не нудит, а только «по-божески» разговаривает.
Словом сказать, в самое короткое время молодой Курзанов сделался гордостью и украшением всего Пошехонского уезда. Сам городничий, и тот любил послушать его. Призовет, бывало, и велит «справедливые слова» говорить. Скажет Андрей: «Мне кусок!» – а городничий подтвердит: «Правильно!» Скажет Андрей: «И всем прочим по куску!» – а городничий опять подтвердит: «Правильно!» Да и нельзя было не подтвердить, потому что такие же приблизительно слова городничий в церкви по воскресеньям слыхал.








