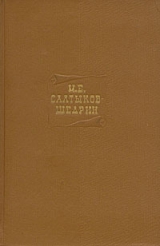
Текст книги "Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
К сожалению, избранники обыкновенно упоминают при этом о каком-то дворянском принципе. Тогда, дескать, дворянский принцип господствовал – оттого и было всем хорошо. Восстановимте опять этот принцип – и опять будет всем хорошо.
Но это не так. Во времена, о которых идет речь, никаких принципов не было – вот отчего было всем хорошо. Это-то именно и называлось порядком вещей.Существовала, как я уже сказал выше, смесь, до того непроницаемая, что ни расчленить составные ее элементы, ни анализировать их было невозможно. Или нечто вроде запертой пагоды, без окон и дверей, в которой хранились никому не известные и недоступные письмена.
Повторяю: желание возвратить утерянный рай заслуживает полного сочувствия, ибо нельзя себе представить ничего более блаженного, нежели райское житие. Но для того, чтобы достигнуть этой цели, прежде всего необходимо воздержаться от некоторых проявлений пытливости, которые сами по себе составляют новшество, несовместимое с порядком вещей.Мы ищем освободиться от новшеств, замутивших нашу жизнь, и в то же время сами прибегаем к наиболее пагубному из этих новшеств: к пытливости – разве это логично?
Не надо пытаться проникнуть в запертую пагоду, ибо проникновение предполагает отпертую или даже – чего боже сохрани! – взломанную дверь. Раз что дверь отперта, или – чего боже сохрани! – взломана, кто может поручиться, что в нее не войдут такие «сторонние люди», которые сразу разгадают смысл хранящихся в пагоде письмен и переведут их на язык, не имеющий ничего загадочного? Равным образом не следует заводить разговора и о принципах, потому что принцип никогда не является в одиночку, а всегда в сопровождении целой свиты. Мы будем хлопотать о возрождении и укреплении принципа дворянского, а рядом с ним возникнет принцип антидворянский, о котором тоже будут хлопотать. А за этим принципом появятся и другие принципы, о которых тоже будут хлопотать. И выйдет в результате нечто совсем неожиданное, а именно: преследуя идеалы тишины и благоустройства, мы вместо них получим борьбу, свару, междоусобие…
Итак, «вперед без страха и сомнения!» * Но осторожно. Ни пытливости, ни принципов. И, главное, чтобы без шума; чтобы никто ни о чем никому ни гугу. Чтобы как яичко в Христов день: «На, кушай!» Великие предприятия, как и великие мысли, в тишине зреют. Пререкания же, а тем паче остервенелая полемика, насквозь пронизанная озлоблением и ненавистью, только погубляют их.
Но будет ли успех? – на это я вполне достоверного ответа дать не могу. Я могу только гореть восторгом и признательностью, но от компетентности, в смысле разгадывания загадок, уклоняюсь.
Одно меня смущает: как поступить с теми новыми явлениями и требованиями, которые народились уже после упразднения «порядка вещей» и в рамки последнего, судя по всем видимостям, втиснуты быть не могут?
Что делать с новыми судами, с земскими учреждениями, с железными дорогами, банками и т. п.?
Впрочем, с судами уладиться еще легко. Судебный персонал разместить, причислить и отчислить. Адвокатов – распихать. А земство так даже очень радо будет. Опять свой персик, свой арбуз, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, доезжачие… умирать не надо!
Но железные дороги? но банки? как с ними поступить?
Совсем не следовало бы железные дороги строить, да и банки не надо бы дозволять. Вот тогда был бы настоящий палладиум. Но так как дороги уж выстроены, а банки учреждены, то ничего с этим не поделаешь.
Сколько сутолоки из-за одних железных дорог на Руси развелось! сколько кукуевских катастроф! * Спешат, бегут, давят друг друга, кричат караул, изрыгают ругательства… поехали! И вдруг… паровоз на дыбы! Навстречу другой… прямо в лоб! Батюшки! да, никак, смерть!
Или банки: объявления печатают, заманивают, балансы подводят: «К нам пожалуйте, к нам!» Со всех концов рубли так и плывут! рубли потные, захватанные, вымученные! Попы несут свои сбережения… попы!! И вдруг… трах!! Украли и убежали! деньги-то где же, деньги-то? Украли и убежали! Господи! да, никак, смерть!
Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?
А между тем какой запас распорядительности, ума и мышечной силы нужно иметь, чтоб все это направить, за всем усмотреть? И все-таки ничего не направить и ни за чем не усмотреть… Сколько му́ки нужно принять, чтоб только по вагонам-то всех рассадить, а потом кого следует, за невежество, из вагонов высадить, да в участок, да к мировому?
Но этого мало. Во всех странах железные дороги для передвижений служат, а у нас, сверх того, и для воровства. Во всех странах банки для оплодотворения основываются, а у нас, сверх того, и для воровства.
Однако воровать ведь не дозволяется – это хоть у кого угодно спросите. Стало быть, и за этим надобно присмотреть. Запустил еврей Мошка лапу – надобно его изловить и в полицию с поличным представить. Заиграл Губошлепов мозгами – надо эти вредные мозги из него вынуть и тоже куда следует представить.
Мог ли «порядок вещей» удовлетворить этим требованиям? Увы! как это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвечаю: «Не мог!»
«Порядок вещей» исходил из тишины и беспрекословия. Всякая сутолока, всякое движение были противны самой природе его. Я думаю, что он даже «публику» не был бы в состоянии чередом по вагонам рассадить. Всякий из этой «публики» чего-то своегоищет, всякий резоны предъявляет, а «порядок вещей» ни исков, ни резонов не допускал. Что же касается до воровства, то об нем и говорить нечего. «Порядок вещей» ведал воров простых, смирных и беспрекословных, а попробуйте-ка изловить Мошку и Губошлепова! Первый скажет: «Я не воровал, а только лапу запустил!»; второй: «Я не воровал, а мозгами играл!» А неподалечку и адвокаты стоят, кассационные решения под мышкой держат. Попытайтесь доказать им, что «играть мозгами» – это-то и есть оно самое: «воровать»…
Я не скажу, конечно, чтобы все это мог предотвратить и «беспорядок вещей», но и «порядок»… Нет, для того чтоб железные дороги были железными дорогами, а банки – банками, что-то совсем особливое нужно, А что именно – ей-богу, не знаю.
На днях случилось мне об этом предмете беседовать с одним опытным инженером.
– Как вы думаете, Филарет Михайлыч, – спросил я его, – отчего у нас, в особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?
– Голубчик! да как же не воровать? – отвечал он, – во-первых, плохо лежит, во-вторых, всякому сладенько пожить хочется, а в-третьих – вообще…
– Однако ж прежде о таких неистовых воровствах не слыхать было?
– Прежде, мой друг, вообще было тише. Дела были маленькие и воровства маленькие. А нынче дела большие – и воровства пошли большие. Suum cuique [4]4
Всякому свое.
[Закрыть].
– Воля ваша, а это безобразно!
– Нельзя иначе: сама жизнь пошла вширь. Прежде и на три рубля можно было себе удовольствие доставить, а нынче, ежели у кого нет сию минуту в кармане пятисот, тысячи рублей, того все кокотки несчастливцем почитают. Жиды, мой друг, в гору пошли, а около них уж и наши привередничают. А сверх того, и монетная единица. Ассигнации ведь, мой друг, у нас – ну, а что такое ассигнации! *
– Ну, что вы! ведь это тоже своего рода меновой знак!
– Много их уж очень. Так много, так много, что пригоршнями их во все стороны швыряют, а все им конца-краю нет. Как ассигнацию-то «он» зажал в руку, ему и кажется, что никакого тут воровства нет, а просто «ничьи деньги» проявились.
– Но ведь нужно же когда-нибудь положить предел этой больной фантазии!
– А как вам сказать? В старину, бывало, мы этого предела от смягчения нравов ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится.
– Ну-с?
– Ну, и ждали. Годы ждали – нет смягчения нравов! стали еще годы ждать – опять нет смягчения нравов!.. Да так иные и посейчас ждут.
– Но почему же его нет, этого смягчения нравов?
– Да форм, должно быть, таких еще не народилось, при помощи которых смягчение нравов совершиться может, – только и всего.
– Допустим. Но разве, независимо от форм, нельзя какие-нибудь меры придумать?
– Придумать, конечно, можно. Кары, например, и притом самые суровые. Только вот насчет действия, которое эти меры возыметь могут, – сомнительно…
– Помилуйте! да ведь это гнусность, это, наконец, предательство! Ведь они Россию, отечество свое, эти негодяи, продают! * Не крадут они, а кровь сосут, жилы тянут! Виселицы мало за это!
– Виселица – это действительно средство радикальное. Но вопрос, когда «его» вешать: доили по?Ежели, например, инженера мост строить послать и предварительно повесить – некому будет мост строить. Ежели дозволить ему спервамост построить, а потомповесить – какой же ему будет расчет стараться? Ах, голубчик! коли начать вешать, так ведь до Москвы, пожалуй, не перевешаешь!
. . . . . . . . . .
– Ну, а вы сами, Филарет Михайлыч… повинны? – полюбопытствовал я.
– Я? никогда! Копейкой казенной я не попользовался! Я вот как: копейку истратил – сейчас же ее на бумажку записал, а к вечеру уж и отчет отдал: смотри! Сохрани меня бог!
– Однако ж и вы… нечего сказать, чистенько живете! И обстановочка, и домик, и именьице, и все такое… А ведь у вас, помнится, как на первую-то канавку вы вышли…
– Знаю: одни штаны были… – ответил он скромно, – но мне бог посылал! Выроешь, бывало, канавку, воротишься домой, а жена говорит: «Друг мой! нам бог пять тысяч послал!» Или мосток выстроишь, а жена опять навстречу бежит: «Друг мой! нам бог десять тысяч послал!» Помаленьку да потихоньку – глядишь, и обставился…
Но обратимся к прерванному рассказу.
Первое место в уездной чиновной иерархии и прежде занимали, и теперь занимают предводители дворянства. Но нынче завелись какие-то «независимые» * , которые к предводителям относятся довольно равнодушно, а в прежнее время никакой независимости и в заводе не было, так что предводитель дворянства в своем уезде был подлинно козырный туз. Он распоряжался земскою полицией, он влиял на решения суда, он аттестовал уездных чинов, он кормил губернатора во время ревизий. Нередко, однако ж, между губернатором и предводителем зарождались «контры»; губернатор говорил: «Я здесь хозяин!», а предводитель говорил: «Я сам моего государя слуга!» – и расходились врагами. Тогда предводитель начинал мутить уезд, и душевное равновесие губернатора на время нарушалось. В подобных случаях на сцену обыкновенно выступал губернский предводитель, объявлял губернатору, что «так нельзя», что дворянство – «опора», и губернатор смирялся.
Как я уже объяснил выше, в дореформенное время всего более ценилась тишина. * О так называемом развитии народных сил и народного гения только в литературе говорили, да и то шепотком, а об тишине – везде и вслух. Но тишина могла быть достигнута только под условием духовного единения властей. Такого единения, при котором все власти в одну точку смотрят и ни о чем, кроме тишины, не думают. Отвечали за эту тишину губернаторы, предводители же ни за что не отвечали, а только носили белые штаны. * И за всем тем, ввиду тишины, первые даже не вполне естественным требованиям последних вынуждены были уступать.
Тип дореформенного предводителя был довольно запутанный, и нельзя сказать, чтоб русская литература выяснила его. В общем, литература относилась к нему не столько враждебно, сколько с юмористической точки зрения. Предводитель изображался неизбежно тучным, с ожирелым кадыком и с обширным брюхом, в котором без вести пропадало всякое произведение природы, которое можно было ложкой или вилкой зацепить. Предполагалось, что предводитель беспрерывно ест, так что и на портретах он писался с завязанною вокруг шеи салфеткою, а не с книжкой в руках. Равным образом выдавалось за достоверное, что он не имеет никакого понятия о борьбе христиносов с карлистами, * а из географии знает только имена тех городов, в которых что-нибудь закусывал («А! Крестцы! это где мы поросенка холодного с Семен Иванычем ели! знаю!»). Что он упорен, глух к убеждениям и вместе простодушен. Что он не умеет отличить правую руку от левой, хотя крестное знамение творит правильно, правой рукой. Что он ругатель и на то, что из уст выходит, не обращает никакого внимания. Что он способен проесть бесчисленное количество наследств, а кроме того, жену и своячениц. Что вообще это явление апокалипсическое, от веков уготованное, неизбежное и неотвратимое. Вроде египетской тьмы. *
Вот в каком виде дореформенный предводительский тип возведен в перл создания даже такими несомненно благосклонными к дворянству беллетристами, как Загоскин и Бегичев * (автор «Семейства Холмских»).
Несмотря, однако ж, на всю талантливость и кажущуюся верность подобных художественных воспроизведений, я с ними согласиться не могу. Я и сам немало виноват в такого рода юмористических изображениях, но теперьвполне сознаю свою ошибку. Были, конечно, «такие» предводители, но не все.Audiatur et altera pars.
Я знал одного предводителя, * который имел такие обаятельные манеры и такой просвещенный ум, что когда просил взаймы денег, то никто не в силах был ему отказать. Таким образом, он чуть не всей губернии задолжал, и хотя не подавал ни малейшей надежды на уплату, но обаяния своего до конца не утратил.
Однажды приезжает он к известному во всей губернии скряге-помещику, к которому он и сам дотоле обращаться считал бесполезным. Скупец как увидел из окошка предводительский экипаж, так сейчас же понял. Хотел зарезаться, но бритвы не нашел. Побежал приказать, чтоб не принимали гостя, – а он уж в зале стоит! Сели, начали говорить. Пяти-шести фраз друг другу не сказали – и вдруг:
– Денег, Иван Петрович! до зарезу денег нужно!
– Какие, вашество, у меня деньги! – заметался Иван Петрович, – на хлеб да на квас…
А он ему вместо ответа – процент!
Процент да процент – так ошеломил скрягу, что он сначала закуску велел подать, а немного погодя и в шкатулку полез.
Словом сказать, от кремня, который нищему никогда корки не подал, целый кус увез!
Но этого мало. Совершив этот подвиг и понабрав еще кой-где изрядную сумму денег, обаятельный предводитель… вдруг исчез!
Туда-сюда. Сначала прошел слух, что его в Баден-Бадене за рулеткой видели, потом будто бы в Париже, в Ницце, в Монте-Карло… И наконец что ж оказалось? что он последние денежки спустил и где-то во Франции, на границе Швейцарии, гарсоном в ресторан поступил.
Разумеется, русские путешественники валом повалили к нему.
– Мемнон Захарыч! ты?
– Он самый; садитесь-ка поближе, вот за этот стол. Я вам такого пуле-о-крессон * подам, что век будете Мемношку помнить!
И точно: подаст на славу и скажет:
– Если всего не одолеете, так не плюйте в тарелку, а мне отдайте. Я крылышко съем.
Скажите по совести: ну как «своему брату» лишнего франка на водку не дать!
И давали ему, так что он во время «сезона» по 30–40 франков в день получал. Но он был благороден, и деньги у него не держались.
И я его прошлым летом видел в Уши́ * . Стоит на пристани с салфеткой в руках и парохода поджидает.
– Мемнон Захарыч! какими судьбами! – воскликнул я.
– Политический… – пробормотал он, слегка смутившись. Однако ж я на эту удочку не поддался.
– Стыдитесь, сударь, – сказал я ему строго, – что затея ли! Да, по моему мнению, лучше тысячу раз чужие деньги из кармана украсть, нежели один раз в политическое недоразумение впасть! *
Так он и отошел, не солоно хлебавши. Дал я ему на водку франк – и баста.
Но что всего примечательнее: всю ясность ума сохранил. Как только начнут его кредиторы в Уши́ ловить – он на пароходе в Евиан * , на французский берег переплывет и там пурбуары * получает. Как только кредиторы в Евиан квартиру перенесут – он шмыг в Уши́, и был таков!
А говорят еще, что предводители правую руку от левой отличить не умели! Да дай бог всякому!
Один предводитель был так умен, что сам своему аппетиту предел полагал. Поставят, бывало, перед ним окорок, он половину съест и скажет:
– Баста, Сашка! остальное до завтрева!
И больше уж не ест.
Благодаря этому он дожил до преклонных лет и умер своею смертью, а не напрасною.
И детям своим завещал: лучше продолжительное время каждый день по пол-окорока съедать, нежели зараз целый окорок истребить и за это поплатиться жизнью.
Один предводитель твердостью души отличался. Когда объявили эмансипацию, он у всех спрашивал:
– А как же наши права?
Насилу его убедили.
Один предводитель видел во сне, что он на сосну влез, и что покуда он лез, у подошвы сосны целое стадо волков собралось. Словом сказать, влезть влез, а слезть не смеет.
Проснувшись наутро, он хотел отгадать, что означает этот сон, но не отгадал.
Посторонние же, видя его усилия, говорили: «Вот он хоть и предводитель, а какая в нем пытливость ума!»
Не стану далее множить примеры, потому что я пишу не статистику предводительских добродетелей, а только делаю небольшие из нее извлечения, доказывающие, как я до сих пор был легкомыслен и несправедлив. Что же касается до взяток, то в этом отношении предводители пользовались вполне заслуженною репутацией бескорыстия. Исключение составляли лишь те, которые во время ополчения допускали замену в ратническом сапоге подошвы картоном, а равным образом те, кои довольствовали ратников гнилыми сухарями. * Были и такие, но не все.
О дореформенных уездных судьях могу сказать лишь немногое, ибо это были наименее блестящие чины того времени.
В уездные судьи * большею частью выбирались небогатые и смирные помещики из отставных военных. Или француз под Бородиным изувечил, или турок часть тела повредил – милости просим! Лишь бы рассудок не подлежал освидетельствованию, да и это соблюдалось только потому, что уездный стряпчий (ежели он кляузник) может донести. Вообще на присутствия уездных судов того времени даже серьезные люди смотрели вроде как на богадельни, но канцелярии судов называли «зверинцами». О секретарях говорили: «Мерзавцы!», а о писцах: «Разбойники с большой дороги!» И боялись их. Да, впрочем, и можно ли было не опасаться людей, которые получали полтинник в месяц жалованья.
Полтинник в месяц! ведь в самом деле тут было что-то волшебное…
Такой взгляд на уездные суды обусловливался главным образом тем, что для большинства дел они представляли лишь первую инстанцию. Думали: ежели уездный суд напутает, то уголовная или гражданская палаты опять напутают, но затем дело поступит в сенат, где уж и воздадут suum cuique. Стало быть, наплевать. Но для чего при таких условиях существовали суды и палаты? – этим вопросом никто не задавался, или, лучше сказать, махали на это дело рукою и говорили: «Христос с ними!»
Несмотря на глухоту и другие увечья, уездные судьи в большинстве случаев были люди добрые и сострадательные, а среди звериной обстановки, которая их окружала, они просто казались чистыми голубями. Взяток им почти совсем не давали – секретари по дороге всё перехватывали, – да убогому человеку, по правде сказать, немного и нужно. Разве что-нибудь из живности или из бакалеи, да и то не первого сорта. Поэтому к судьям редко и в гости ходили, да и их в гости редко приглашали, так как в карты они играли по такой «маленькой», что и счет свести трудно было.
Я помню, одному судье кто-то из тяжущихся, по неопытности, воз мерзлой рыбы прислал, так не только все этому дивились, но и сам он оробел. Выбрал для себя пару подлещиков, «а остальное, говорит, должно быть, секретарю следует». И представьте, секретарь, несмотря на то, что уже свой воз получил, и этот воз не посовестился, взял.
Некоторые судьи * прямо говорили тяжущимся: «Зачем вы на нас тратитесь! ведь все равно наше решение уважено не будет! так лучше уж вы поберегите себя для гражданской палаты!» И что же! вместо того чтоб умилиться над такой чертой самоотверженности, вместо того чтоб сказать: «Ну, бог с тобой! будь сыт и ты!» – большинство тяжущихся буквально следовало поданному совету и даже приготовленным уже подаркам давало другое назначение.
Положение уездных судей было поистине трагическое. Читает, бывало, секретарь проект решения, а судья не понимает. Такие проекты тогда писались, что и в здравом уме человеку понять невозможно, а ежели кто ранен, так где уж! Вот судья слушает, слушает, да и перекрестится. Думает, что его леший обошел.
– Подписывать-то, Семен Семеныч, можно ли? – взмолится он к секретарю.
– С богом, Сергей Христофорыч! – подписывайте без сомнения!
– Ну, будем подписывать. Господи благослови!
Возьмет перо в правую руку, а левою локоть придерживает, чтобы перо не расскакалось. Выведет: «Уезнай судя Вислаухав» – и скажет: «Слава богу!»
Но в особенности с уголовными приговорами маялись, потому что там не только подписывать, но и прописыватьнужно было. И прописывать-то всё плети, да всё треххвостные, с малою долею розгачей.
– Девяносто, что ли, Семен Семеныч?
– Девяносто, Сергей Христофорыч.
– А поменьше нельзя? пятьдесят, например?
– По мне хоть награду дайте. Все равно уголовная палата сполна пропишет.
– Ну-ну, что уж! Господи благослови!
Или:
– А этому, Семен Семеныч, ничего?
– Ничего, Сергей Христофорыч.
– Ну, слава богу. Господи благослови!
Пропишет, что следует, придет домой и жене расскажет:
– Вот, Ксеша, я в нынешнее утро, в общей сложности, восемьсот пятьдесят штук прописал!
– А что же такое! – ответит Ксеша, – это ведь ты не от себя! сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство им добра хочет, а они – на-тко!
– Плетей ведь восемьсот-то пятьдесят, а не пряников. А плети-то нынче ременные, да об трех хвостах. Вот как подумаешь: «Трижды восемьсот – две тысячи четыреста, да трижды пятьдесят – полтораста», так оно…
– Ну-ну, жалельщик! ступай-ко водку пить, а то щи на столе простынут!
И шел добрый судья водку пить и щи хлебать, пока не простыли. А по праздникам, кроме того, в церковь ходил и пирогом лакомился.
В большинстве случаев уездные судьи были люди семейные. Жены у них были старые-престарые и тоже добрые. В сущности, ведь и Ксеша огорчалась, что ее Сергей Христофорыч «прописывает», но утешала себя тем, что это он не от себя.«Сами виноваты, начальства не слушают, а Сергей Христофорыч разве может?»
Секретарей судейши терпеть не могли и всегда предостерегали мужей:
– Вот помяни мое слово, ежели он тебя не подведет!
– Ах, матушка!
Детей у судей бывало много, но дома они не заживались. С ранних лет их рассовывали на казенный счет по кадетским корпусам и по сиротским институтам, а по пришествии в возраст они уже сами о себе промышляли.
Дома оставалось лишь какое-нибудь беспомощное существо: или глухонемая девица, или сын-дурачок.
Вообще тип дореформенного судьи был одним из наиболее симпатичных того времени, а необыкновенно малое содержание (даже по сравнению с необыкновенно малыми содержаниями чинов других ведомств), которое получали уездные судьи, делало их положение в высшей степени трогательным. И за всем тем они не роптали и не завидовали.
Можно ли возвратиться к этому типу отправления правосудия и вновь водворить его в нашу жизнь? – полагаю, что ежели приняться за дело чистенько и без шума, то можно. Во всяком случае, попытаться недурно. Но будет ли от этого польза? – ей-богу, не знаю.
Относительно исправников и вообще чинов земской полиции можно сказать то же самое, что и о городничих. Те же общие положения и те же «истинные происшествия». Предметы их деятельности были одинаковые, а стало быть, и поводы для «истинных происшествий» тоже одинаковые; только район, в пределах которого распоряжались исправники, был обширнее.
Нареканий на земскую полицию дореформенного времени существовало немало, но возникали они большею частью по поводу становых приставов. Последние были действительно не весьма доброкачественны, хотя тоже не все. Расквартированные по захолустьям, преимущественно в селениях экономических крестьян * , вдали от образованного общества и хороших примеров, эти люди нередко утрачивали человеческий образ, а вместе с ним и веру в провидение и в загробную жизнь. Не имея в виду воздаяния, не понимая, что не только действия, но и мысли человеческие не могут оставаться сокрытыми, они страшились лишь одного: чтобы о противозаконных их действиях не было доведено до сведения губернского начальства. Но и в этом отношении они, ежели и не были вполне обеспечены, то стояли весьма благоприятно. Будучи определяемы непосредственно центральною губернскою властью и олицетворяя собой единственный ее орган в уезде, они обыкновенно имели «руку» в губернских правлениях и пользовались этой защитой не для благих и похвальных целей, но для удовлетворения необузданности страстей. Нередко случалось, что сами губернаторы втайне им сочувствовали и называли их излюбленными чадами, а судей, исправников и городничих (последние определялись комитетом о раненых * ) – пасынками. Казалось бы, столь лестное доверие начальства должно было обязывать; но – увы! – оно давало пищу только гордости и самомнению. Под влиянием сих чувств становые пристава вскорости становились вместилищами всевозможных нравственных изъянов. Правосудие и трезвость были чужды их душам. С утра наполненные винными парами, они перекочевывали с места на место, от одной границы уезда до другой, ни о чем не помышляя, кроме вымогательства. Исправники же, видя безобразия становых, хотя и понимали, как это нехорошо, но были бессильны искоренить зло.
В старину зло искоренялось определениями и увольнениями, да, кажется, и до сих пор теми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на место определить такого-то пьяницу – вот и весь секрет. А так как становые пристава определялись и увольнялись губернскою властью, и притом нередко в пику власти, облеченной доверием дворянства, то понятно, какой источник недоразумений возникал от столкновения этих двух противоположных доверий. Но этого-то именно и не понимали становые пристава, то есть не понимали, как это прискорбно и вредит делу. Большинство их положительно не стояло на высоте своей задачи. Вместо того чтоб оправдывать доверие начальства, оно компрометировало его; вместо того чтобы подавать управляемым пример воздержания, трудолюбия и охоты к просвещению, оно наполняло окрестность легендами, содержанием для которых служила необузданность страстей, непреоборимая праздность и невежественность. А губернаторы, взирая на них, как на излюбленных, и увлекаясь теоретическими построениями, думали, что коль скоро у центральной власти имеются в уезде свои собственные органы, то все обстоит благополучно. То есть благополучнее, чем тогда, когда вместо становых приставов при земских судах состояли дворянские заседатели.
Пишу я эти строки, а воспоминания так и плывут мне навстречу. Смотришь, бывало, в окошко – вот она, гать-то, на две версты растянулась! – и вдруг на этой самой гати показывается крестьянская тележонка парой, а в тележонке чье-то тело врастяжку лежит. Это еговезут, куроцапа. Имя такое емубыло, для всех вразумительное. Давно ли это было? давно ли «порядок вещей» с такою ясностью об себе заявлял? И неужели мы так-таки и не воротимся к нему?
Грустно.
Таковы были дореформенные становые пристава. Но, как я уже сказал выше, не все.
Я знал одного станового пристава, который, мучимый раскаянием, удалился в лес. Долгое время он питался там злаками, не имея пристанища и не зная иного прикрытия, кроме старенького вицмундира, украшенного пряжкою за тридцать пять лет. * Но по времени он выстроил в самой чаще хижину, в которой предположил спасти свою душу. Скоро об этом проведали окрестные раскольники и начали стекаться к нему. Разнесся слух, что в лесу поселился «муж свят», что от него распространяется благоухание и что над хижиной его (которую уже называли «келией») по ночам виден свет. Мало-помалу в лесу образовался раскольничий скит, в котором бывший становой был много лет настоятелем под именем блаженно-мздоимца Арсения. Затем обитатели скита образовали особенный раскольничий толк, под названием «мздоимцевского», а себя стали называть «мздоимцами», в отличие от перемазанцев * и перекувырканцев * . Но в эпоху гонения полиция узнала о существовании скита и нагрянула. Арсения заковали в кандалы и заточили в дальний монастырь, а «мздоимцев» расселили по разным местам. Там они всяко размножились: и с помощью пропаганды, и естественным путем сожития. Так что теперь, куда ни обернись – везде «мздоимцы». То есть последователи лже-блаженно-мздоимца Арсения.
Я знал другого станового пристава, который долгое время пил без просыпа, но потом вдруг перестал и до конца жизни пил только квас.
Впрочем, признаюсь откровенно: только эти два примера я и знал. Но несомненно, что найдутся люди, которые подобного рода «истинных происшествий» немало знают. Распубликованием таковых они премного меня одолжат.
Обращаюсь к исправникам.
Общее положение.Исправники, как облеченные доверием господ дворян, вообще вели себя благородно.
– Нам не с кого брать, – говорил мне один исправник, – у нас в уезде всё помещики: как с своего брата возьмешь! Вот ежели выйдет случай, да с временным отделением * в экономическом селе задержишься – ну, там действительно…
Так что ежели б не было экономических крестьян, да раздарили бы их всех в воздаяние, то исправники были бы совсем невинны.
В исправники избирались лица мужеского пола в цвете лет и сил, от подпоручичьего до майорского чина включительно. Из них штабс-ротмистры и ротмистры представляли самую желательную исправницкую среднюю величину. Молодость и присутствие физической силы говорили об отваге, отвага же служила ручательством, что доверие господ дворян будет оправдано. При таких исправниках злые трепетали, а добрые предавались мирным занятиям.
Один исправник хвалился, что у него в уезде совсем воров нет.
– У меня нет воров и не будет, – говорил он, – потому что вор знает, что он не под суд, а ко мне в руки попадет.
– Что же вы с ними делаете, Никон Гаврилыч?
– Да уж…
Он не договаривал, а только простирал руки. И все без слов понимали.
Другой исправник, допрашивая воров, надевал на них так называемый «стул» (железный ошейник с прикрепленной к нему железной цепью, которая, в свою очередь, прикреплялась к тяжелому обрубку бревна), и когда ему замечали, что подобные допросы называются допросами с пристрастием и законами воспрещаются, то он отвечал:
– Так, по-вашему, по головке надобно гладить? «Иван Иваныч! вы, мой друг, лошадь у Пантелея Егорова украли?» – «Нет, не я-с». – «Не вы-с? ах, извините, пожалуйста, что вас понапрасну задержали. Милости просим на все на четыре стороны! воруйте сколько вашей душе угодно!..» Ну, нет-с, слуга покорный! Пускай филантропы в уездном суде с ними валандаются, а я… не могу-с! По-моему: попался и… говори! Говорри, каналья… расшибу! Всю подноготную, курицын сын, говори! Иначе какой же бы я был исправник!








