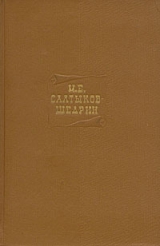
Текст книги "Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Прямыми антагонистами Павлинских, Крамольнковых, Курзановых выступают в «Пошехонских рассказах» «пошехонцы» Беркутов и Клубков. «Реформатор» Беркутов выступает проповедником «человеконенавистнической» практики доносов, входящей в созданную реакцией систему «содействия общества», систему искоренения «крамолы» силою самих пошехонцев, которая блистательно показана писателем в «Письмах к тетеньке» и в «Современной идиллии». Артемий Клубков из «Вечера пятого» – идеолог и практик одной из разновидностей «пошехонского дела». Это «новое дело» – занятие сельским хозяйством в условиях свободного крестьянского труда – всецело основано, однако, на принципах своекорыстия и хищничества и мало чем по существу отличается от «пошехонской старины» – крепостничества. Не удивительно, что, казалось бы, безвозвратно канувшие в прошлое пошехонские «несокрушимость» и «изобилие» (иронические синонимы самодержавно-крепостнической системы) находят именно в «реформаторах» Беркутове и Клубкове самых ревностных, готовых на все защитников, с радостью ухватившихся за выдвинутую в 80-е годы реакцией «формулу»: «Прочь мечтания! прочь волшебные сны! прочь фразы! пора, наконец, за дело взяться!» Искание «дела»,лишенное устремленности к общественным идеалам, к будущему, было неприемлемо для Салтыкова. Оно неизбежно обращалось к изжитому прошлому и принимало, по выражению К. Арсеньева, «кладбищенский характер» [115]115
К. К. Арсеньев. Салтыков-Щедрин. СПб., 1906, с. 204.
[Закрыть].
Иронически изображенные писателем в первых двух «вечерах» «прелести» прежней жизни становятся осознанным общественно-политическим идеалом поборников возрождаемого «Пошехонья», ополчившихся на «бредни». И тем более трагичной выглядит поддержка этих и родственных им «героев» безликою пошехонскою «массой» в последнем, шестом «вечере», отразившем подлинное отчаяние писателя перед глуповски-пошехонской податливостью «толпы». Но, верный своим просветительским взглядам, Салтыков оставляет просвет в, казалось бы, безысходной тьме финала «фантастического отрезвления». «Я верю, – предваряет он этот трагический финал декларацией исторического оптимизма, – что не только в Пошехонье, но и в целом мире благоволение преобладает над злопыхательством и что в конце концов последнее, всеконечно, измором изноет».
2
Сатирическая дерзость зачина цикла – первого «пошехонского рассказа» – не была понята не только многими читателями, но и критикой. «Рассказы майора Горбылёва» были восприняты отчасти как переход Салтыкова к новому роду литературы [116]116
Русская литература. «Отечественные записки», № 8. – «Сын отечества», 1883, 26 августа, № 192.
[Закрыть], отчасти как беспредметное зубоскальство, сверх всякой меры сдобренное «клубничным элементом» [117]117
Сатирические «Андроны». – «Новое время», 1883, 19 августа, № 2684, под рубрикой «Маленький фельетон».
[Закрыть], отчасти как вынужденная цензурными обстоятельствами сознательная игра в «балагурство» [118]118
П. Боборыкин. Балагурство и порнография. – «Новости и бирж. газета», 1883, 27 августа, № 146.
[Закрыть]. Лишь немногие правильно поняли действительно необыкновенное выступление Салтыкова как исполненный силы гнева и презрения удар «ювеналова бича» сатиры, направленный «против всего общества», как вызов, беспощадно брошенный «в лицо всем читателям» [119]119
«Современная идиллия», М. Е. Салтыкова (Щедрина). – «Русская мысль», 1883, № 11, Библиография, с. 42.
[Закрыть].
Полнее и глубже всего замысел «Вечера первого» был раскрыт Михайловским, наиболее проницательным критиком-современником Салтыкова (для периода 70-80-х годов) и его ближайшим журнальным соратником, чьи знания и толкования произведений писателя восходили во многом к личным беседам с ним.
«В 1883 году появились в «Отечественных записках» «Пошехонские рассказы», – писал Михайловский, – их «первый вечер» огорчил многих искреннейших почитателей сатирика. Нельзя было не хохотать над этим сборником частью скабрезных, частью просто смехотворных анекдотов, но разве это дело Щедрина, учителя, вождя, от которого привыкли ждать веского и вещего слова?! Уже самое это огорчение свидетельствует, что беспредметный смех был столь же чужой Салтыкову, как и беспредметный трагизм. Пуская в обращение «Пошехонские рассказы», он очень хорошо знал, что он делает. Он снабдил их двумя презрительными эпиграфами: «По Сеньке шапка» и «Андроны едут», а во «втором вечере» пояснил: Пишу «для того, чтобы исправить мою репутацию. Сначала эту задачу выполню, а потом и совсем брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но ведь глупые дела бывают вроде поветрия. Глупые фасоны вышли, вот и все. Но ежели глупые фасоны застрянут на неопределенное время, тогда, разумеется, придется совсем бросить и бежать куда глаза глядят». Дело ясное. Разгневанный и оскорбленный тогдашним состоянием русского общества, сатирик бросил ему шапку по Сеньке: серьезное слово убеждения и призыва отскакивает от вас, как от стены горох, вам вздору нужно, – нате, получайте! Но уже во «втором вечере» сатирик сам не выдержал этой программы беспредметного смеха [120]120
Из контекста высказывания Михайловского видно, что он, как и Елисеев, видел в этой «программе» начала цикла «особого рода стратегический прием». – «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину». М., 1935, с. 160.
[Закрыть], а оканчиваются «Пошехонские рассказы» глубоко прочувствованной картиной похорон Ивана Рыжего, убитого одурелою толпой по подстрекательству Мазилки и Скоморохова…» [121]121
Н. К. Михайловский. Критические опыты. II. Щедрин. М., 1890 с. 158–159.
[Закрыть]
Последующие «пошехонские рассказы», переведенные писателем на «серьезную почву», хотя и были встречены рядом сочувственных критических отзывов, не получили обстоятельной характеристики, что следует отчасти объяснить цензурными обстоятельствами. По той же причине не вызвали содержательного разбора два последних рассказа, однако затронутые в них темы позволили критике мимоходом отметить обнаженную публицистичность и «холод, какое-то отчаяние» трагизма этих рассказов, вызванного раздумьями писателя над судьбами «всего Пошехонья» [122]122
Ал. Казанский. Журналистика. – «Эхо», 1884, 23 марта, № 1135.
[Закрыть].
Предельно лаконично, но несколько менее поверхностно было оценено критикой первое отдельное издание «Пошехонских рассказов», заставившее ее, наконец, увидеть, что произведения нового сатирического цикла «связаны между собою не одним общим заглавием, а и общею мыслью – указать, как одна и та же «пошехонская» черта проходит по всем самым разнообразным явлениям нашей общественной жизни и в самые противоположные эпохи ее развития…» [123]123
«Пошехонские рассказы», Соч. М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). – «Вестник Европы», 1885, № 1, Библ. листок, обложка, с. 3.
[Закрыть]Однако это справедливое наблюдение анонимного рецензента «Вестника Европы» не было развернуто последующей критикой, в той или иной мере обращавшейся к осмыслению «Пошехонских рассказов» (О. Миллер, К. К. Арсеньев, Вл. Кранихфельд, К. Ф. Головин и др.).
Вечер первый. По сеньке и шапка *
Впервые – ОЗ,1883, № 8 (время вып. в свет неизв.), стр. 543–566. Заглавие в тексте: «Пошехонские рассказы». Название в оглавлении журнала: «1. Рассказы майора Горбылёва».
Текст наборной рукописи отличается от журнального незначительно. При подготовке рассказа для Изд. 1885Салтыков сделал несколько сокращений.
Приводим два варианта рукописи, совпадающие с вариантами ОЗ.
К стр. 27. В конце абзаца: «Разумеется…», после слова «брали» – было: «…чтобы впоследствии подтянуть».
К стр. 28. Абзац: «С этим и отпустил…» – заканчивался словами: «…не мог! Вот время какое было!»
Кроме того, в Изд. 1885появилось авторское примечание к словам: «…время-то и пройдет», заканчивающим вводную часть рассказа (см. стр. 9 наст. кн.).
Первый «вечер» – наиболее «пошехонская» часть нового цикла Салтыкова. В нем, собственно, и воплощен сатирически дерзкий замысел выразить презрение к небывалому до того времени падению идейно-нравственного уровня общества созданием соответствующей этому уровню «литературы» – имитации «гарнизонных рассказов» и анекдотов «клубничного» содержания.
…о сухих туманах… от каковых<…> и до превратных толкований<…> недалеко. – Сухой туман – временное помутнение атмосферы от пыли, дыма и т. п. Возможно, что Салтыков вспомнил здесь о журнальной полемике конца 50-х годов в связи с появлением в «Атенее» (1858, № 5) статьи Я. И. Вейнберга «Сухой туман». Этот псевдонаучный спор был сатирически упомянут Добролюбовым в № 4 «Свистка» – в статье «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» («Современник», 1860, № 3).
…последствия этого увлечения были весьма для меня неприятные. – Этим примечанием, появившимся в Изд. 1885,Салтыков намекает на постигшую его цензурную катастрофу: закрытие «Отеч. записок» правительством весной 1884 г.
«И шуме, и гуде…»– украинская народная песня «І шумить, і гуде…».
Наталка-полтавка– пьеса И. П. Котляревского (1849), традиционно исполнявшаяся со многими музыкальными номерами – народными песнями, вследствие чего получила в обиходе название «украинской оперы».
Царь Давид<…> согрешил. А царь Соломон даже и очень. – По библейскому преданию, легендарный царь Израиля Давид «совершил зло в очах господа», сделав своей наложницей Вирсавию, жену Урии Хеттеянина, и послав его самого на верную смерть (Вторая кн. царств, XI, 12–27). Сын Давида и Вирсавии Соломон имел семьсот жен и триста наложниц, которые «во время старости <…> склонили сердце его к иным богам», и «разгневался господь на Соломона» (Третья кн. царств, XI, 1–9).
Знал я одного общественного быка… – Автореминисцепция незавершенной сатиры 1875 г. «Благонамеренная повесть. Мои любовные радости и страдания. Из записок солощего Быка» (см. т. 11 наст, изд.) Замысел ее возник в связи с отрицательным восприятием Салтыковым первых глав «Анны Карениной» Толстого. «Один талантливый писатель… – пишет об отношении Салтыкова к роману Толстого Гончаров 6 июня 1877 г., – лично говорил мне, что он начал было читать «Анну Каренину», но на второй части бросил: «Все половые отношения да половые отношения, – говорил он, – далась им эта любовь. Потчуют ею во всех соусах: ужели в созревшем обществе жизнь только в этом и состоит и нет другого движения, других интересов и страстей»… Писатель этот разумел отсутствие у нас общественности, которая так централизована, что лишена яркой и разнообразной подвижности…» («И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву. 1877–1882». СПб., 1906, стр. 14–15). Об отражении этого разговора в творчестве самого Гончарова см. статью Л. С. Гейро «И. А. Гончаров и М. Е. Салтыков-Щедрин (о «Литературном вечере» Гончарова)» – Вестник ЛГУ, 1967, № 14.
Солощий– сластена, охочий, жадный до чего-либо (В. Даль. Толковый словарь…).
…либо Арапов, либо Сабуров<…> на каждой версте по Загоскину да по Бекетову. – Называют имена пензенских дворян – помещиков и чиновников, которых Салтыков знал в период своей службы в Пензе.
…два губернатора съехались: один потемкинский, а другой – мамоновский. – То есть ставленники Потемкинаи Мамонова, соперничавших фаворитов Екатерины II.
…привезли в Петербург да Кокореву и препоручили<…> Привезет, бывало, в Павловск и водит по музыке: герои! А публика смотрит… – В 1857–1858 гг. Кокорев, «царь откупщиков», по выражению Салтыкова, организовал несколько «чествований» участников севастопольской обороны и даже посвятил им статью «Путь севастопольцев» («Рус. беседа», 1858, № 1). Павловск был одним из популярнейших дачных мест состоятельных петербуржцев, в здании тамошнего «вокзала» все лето выступал оркест под управлением знаменитых русских и иностранных дирижеров и композиторов.
Приди в чертог ко мне златой… – Из оперы «Леста, днепровская русалка», музыка С. И. Давыдова и Ф. Кауэра, либретто – переделка Н. Краснопольским либретто оперы немецкого композитора К. Генслера «Дунайская русалка». Премьера – петербургский Большой театр, 1805 и 1807 (ставились разные действия).
Бант в петлице– специальное добавление к офицерским орденам за воинскую доблесть: кресту Владимира 4-й степени или Анны 3-й степени (см.: И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, стр. 121).
Остроленка– уездный город Ломжинской губернии, под которым в 1831 г. произошло крупное сражение между царскими войсками и польскими повстанцами.
Ментик– короткая гусарская куртка с затейливой отделкой, носилась внакидку на левом плече.
Колет– белый мундир из лосины кирасирских (кавалерийских) полков.
…весь полк волшебный! Аммуниция налицо, а воинов нет! – «Император Николай I, – писал о причинах этих «чудес» современник, – …посвящая значительную часть своего времени занятиям об устройстве армии <…> придал ей блестящий наружный вид <…> С падением Севастополя пало военное обаяние России, ослабла ее внешняя сила, прикрывавшая внутреннюю слабость» (Г. Д. Щербачев. Идеалы моей жизни. Воспоминания из времен царствований императоров Николая I и Александра II. М., 1895, стр. 194).
Много нынче через это самое молодых людей пропадает. Сначала в одно не верят, потом – в другое… – Намек на «нигилизм», ставший синонимом революционного движения в России. «Прежде всего, – писал о зарождении нигилизма Кропоткин, – нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам – и требовал, чтобы то же сделали другие, – от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авгоритет – разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован» (П. А. Кропоткин. Записки революционера. М. – Л., 1933, стр. 183).
Ну, мальчонко долбит-долбит, да и закричит: «Не верю!»– Возможно, здесь отражен случай со Слепцовым в той версии, которая была распространена среди современников и которую Салтыков, конечно, знал по службе в Пензе. (Подобные слова произнес в 1853 г. перед алтарем Слепцов – воспитанник Пензенского дворянского института. См. статью К. И. Чуковского «В. А. Слепцов, его жизнь и творчество» в кн.: В. А. Слепцов. Сочинения в двух томах. Т. I, М., 1957, стр. 6.)
Был и под венгерцем, и в Севастополе, и на поляка ходил… – то есть участвовал в подавлении Венгерской революции 1848–1849 гг., Польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг. и в севастопольской обороне 1854–1855 гг.
…с туркой за ключи воевали… – за «ключи» от храма «гроба господня» в Иерусалиме (см. стр. 616–617 в т. 11 наст. изд.).
…дошли мы до Святополка Окаянного… – о вероломном убийстве княчем Святополкомбратьев Бориса, Глеба и Святослава и «небесном гневе» против него рассказывается в гл. 1 тома II «Истории Государства Российского» Карамзина.
Абвахта– гауптвахта (устар.).
Курить на улицах было дозволено, усы, бороды носить. – «Курение сигар и папирос на улицах и в публичных местах почиталось в России величайшим преступлением, – вспоминает Дельвиг. – В 1865 г. это курение высочайше утвержденным мнением государственного совета было разрешено с некоторыми исключениями…» (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания, т. 2. М. – Л., 1930, стр. 319). Согласно различным правительственным указам, ношение усов и бород в России было строго регламентировано. «Господа, – записывает, например, в своем дневнике 29 сентября 1870 г. Никитенко обращенную к подчиненным речь начальника Главного управления по делам печати генерала М. Р. Шидловского, – я очень жалею, что при самом начале моего знакомства с вами я должен сделать вам замечание: во-первых, вы явились ко мне в вицмундирах, а не в мундирах – это противно законам службы. Вы должны были одеться в мундиры. Во-вторых, я вижу здесь некоторых с бородами – бород не надо, я их не потерплю. У некоторых я замечаю усы – и их не надо; усы подобает носить военным» (А. В. Никитенко. Дневник в трех томах. Т. III. М.—Л., 1956, стр. 183). Лишь 25 апреля 1881 г., как пишет военный министр того времени Д. А. Милютин, он «получил от государя собственноручную записку с приказанием объявить, что дозволение носить бороды распространяется на всех военных без всяких изъятий» (Милютин,стр. 60).
Вот однажды<…> в Ушанах и налакались-таки до пределов. И начал<…> хозяин объяснять: «Для чего рабочие<…> об колеса и шины постукивают?<…> чтобы знать, все ли исправно<…> подобно сему<…> и в государственных делах поступать… – Эта речь салтыковского Кокорева (как и подобное ей рассуждение Мурова в «Тихом пристанище» – см. стр. 290 в т. 4 наст. изд.) восходит к двум эпизодам статьи реального Кокорева «Путь севастопольцев» – осмотр поезда на станции Бологое и пирушка в имении откупщика Ушаки: «– А что же не спросим, зачем прежде подмазки все стучат? <…> при ударе молотком оказываются ослабевшие винты и такие гайки, на которых вся резьба стерлась <…> Поехали, да как поехали после того <…> как постучали молотком по всем колесам и переменили все истертое, просто поехали на славу! <…> Подъезжаем к Ушакам <…> явилась охота вымолвить что-нибудь при расставанье: «<…> Да ознаменуется новый период русской жизни, период Севастопольский, проявлением смиренномудрия, создающего истинную, непризрачную силу! Да воссияет свет русского смысла в начальствующих и начальствуемых, везде и во всем, и да избавит он нас от всякого спотыкания, неизбежного во тьме бессознательного чужелюбия!» (В. Кокорев. Путь севастопольцев. М., 1858, стр. 53, 54, 59,60).
Одна говорят: «На первый раз достаточно чарки доброго вина»; другие говорят: «Этого мало, нужно конституцию…»– Комический эффект в данном случае усиливается тем, что слово «конституция» употреблялось тогда в быту как синоним обильной выпивки (см.: П. и А. Кропоткины. Переписка. М.—Л., 1933, т. II, стр. 151, и стр. 23 в т. 8 наст. изд.).
Вечер второй. Audiatur Et Altera Pars *
Впервые – ОЗ,1883, № 9 (вып. в свет после 16 сентября), стр. 273–296, под заглавием «Пошехонские рассказы. Вечер второй».
При подготовке рассказа для Изд. 1885Салтыков произвел в тексте несколько изменений. Приводим пять вариантов ОЗ.
К стр. 29 Эпиграф:
Андроны едут… (Поговорка)
Audiatur et altéra pars. (Та же поговорка в латинском переводе)
К стр. 31. В начале абзаца: «– Когда меня…», после «…а я в ответ: «Покажи закон…», – отсутствовали слова: «…коим дозволяется взятки брать!»
К стр. 35. В середине абзаца: «В дореформенное время…», после слов «…оканчивались отдачею в солдаты, ссылкой в Сибирь, каторгой и т. п.» – было: «Без шума, тихо, благородно».
К стр. 44. В конце абзаца: «В уездные судьи…», после фразы «О секретарях говорили: «Мерзавцы!», а о писцах: «Разбойники с большой дороги!» – отсутствовало предложение: «И боялись их».
К стр. 45. В середине абзаца: «Некоторые судьи…», после слов «…умилиться над такой чертой самоотверженности…» – отсутствовало: «…вместо того, чтоб сказать: «Ну, бог с тобой! будь сыт и ты!»
Восьмого марта 1881 года военный министр Д. А. Милютин записал в дневнике, что на одном из первых правительственных совещаний после убийства Александра II Победоносцев «осмелился назвать великие реформы императора Александра II преступною ошибкой!» [124]124
Милютин,стр. 35.
[Закрыть]. Победоносцев выразил довольно устойчивые настроения определенной – консервативно-реакционной – части русского общества в 80-е годы. После 1 марта 1881 года, вспоминал, например, Г. К. Градовский, «новые веяния» получили тяжелый удар, и притихшая было на несколько месяцев реакция воспрянула с удвоенной силой. – Довольно реформ, пора назад и домой. – В этой формуле выразилось восторжествовавшее направление» [125]125
Г. К. Градовский. Итоги (1862–1907). Киев, 1908, с. 78–79.
[Закрыть]. «Есть еще люди, которые и теперь думают, что можно возвратиться к порядкам дореформенным и действовать так, как действовали Николая I и исполнители его воли…» – отмечал в 1882 году Кошелев [126]126
А. Кошелев. Что же теперь? Август 1882. Berlin, 1882, с. 36.
[Закрыть].
Пошехонско-крепостнический характер настояний хотя бы частично возродить в России былой «порядок вещей» писатель показывает в «Вечере втором» на примерах из прошлого, ясно раскрывающих подготовляемое стране будущее. Сатирическая острота обличений в этом рассказе особенно обнаженно выступала в журнальной публикации благодаря соседству двух эпиграфов (см. вариант ОЗк стр. 29). Один из них – «Андроны едут»(то есть глупость, чепуха) – имел в виду историческую несостоятельность упований реакционеров на попятное движение истории. Другой – «Пусть будет выслушана и другая сторона»– указывал на противостоящую этим упованиям позицию автора. Вместе с тем этот второй эпиграф – ключ к пониманию вводной части рассказа о роли «отрицания зла» в деле последовательного утверждения подлинных положительных идеалов.
Не раз случалось мне слышать<…> Зачем<…> изнанку изображаете? – От «Рус. вестника» и «Моск. ведомостей» Каткова, особенно часто и озлобленно упрекавших писателя-сатирика в отсутствии у него «доброго отношения к своим героям».
Ведь мы давно бы изгибли все до единого, если б это было так! – «В доброе старое время обитатели Ноева ковчега, – писал в январе 1883 г. Михайловский, разумея под «Ноевым ковчегом» катковский «Рус. вестник» и словно предваряя содержание «Вечера второго», – не ограничивались простым карканьем, ревом, писком и лаем об исчезновении всего доброго в волнах всемирного потопа. По мере своих скромных сил <…> они противопоставляли мрачностям потопа идиллии и пасторали, героические и светлые портреты и картины из русской действительности. Все это было очень аляповато, фальшиво, деревянно и более на кукольную комедию походило, чем на настоящую литературу» («Письма постороннего в редакцию «Отечественных записок». – Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 5. СПб., 1908, стлб. 707–708).
Фейер, Дерунов, Разуваев, Прыщ, Угрюм-Бурчеев– персонажи «Губернских очерков», «Благонамеренных речей», «Убежища Монрепо», «Истории одного города» и некоторых других произведений сатирика.
Правдины, Добросердовы, Здравомысловы, Простаковы, Скотинины.Первый и двое последних – персонажи комедии Фонвизина «Недоросль», фамилии Добросердови Здравомысловобразованы по образцу наименования ходульных персонажей-резонеров в классицистической драматургии.
…пробормочут в сторонуноменклатуру<…> гнусностей! – Ремаркой в сторонув классицистической драматургии (в частности, в фонвизинском «Недоросле») сопровождались реплики, выражавшие отношение персонажей к происходящему.
Один городничий охотник был до рыбы. – По предположению Д. М. Молдавского, этот сюжет, как и сюжет о городничем, обнаружившем в рыбе четыре золотых, был подсказан «Анекдотами древних пошехонцев» В. Березайского (см.: «Русская сатирическая сказка». М. – Л., 1955, стр. 245).
Кому до городничего дело есть, тот купит просвирку… – Ср. с рассказом Очищенного в «Современной идиллии» и его попытке замять с помощью «просвирки»неприятное для него дело.
…прорывается стремление восстановить эти времена<..-> упоминают<…> о каком-то дворянском принципе. – О необходимости возрождения «дворянских принципов»особенно часто в 80-е годы писал Катков (МВ,№№ 140, 142, 154 и др. за 1883 г.).
…«вперед без страха и сомнения!»– Пунктуационно измененная первая строка стихотворения Плещеева «Вперед! Без страха и сомненья…».
…сколько кукуевских катастроф! – См. прим. на стр. 354 в кн. 1.
Ассигнации<…> что такое ассигнации! – В начале 80-х годов один металлический рубль по официальному курсу равнялся полутора рублям ассигнациями. Реальная стоимость металлических денег была еще выше.
Ведь они Россию<…> продают! – О масштабах хищений и всякого иного корыстного отношения к государственному и общественному достоянию можно судить по тому, что министр внутренних дел Н. П. Игнатьев, вступая в должность, поставил в своем циркуляре губернаторам от 6 мая 1881 г. вопрос о «снисходительном отношении общества к незаконным способам наживы», ссылаясь на манифест Александра III от 29 апреля (П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. М. 1964, стр. 385).
…нынче завелись какие-то «независимые»… – Реформа 1864 г. установила независимостьсуда от администрации и несменяемость судей.
…в дореформенное время всего более ценилась тишина. – «Мы во все время царствования императора Николая I привыкли думать, что «все обстоит благополучно», – вспоминал Дельвиг. – Печать о внутренней и внешней политике молчала или изредка только расхваливала отечественную политику; живое слово также молчало; общество было так воспитано и направлено, что оно предоставляло все распоряжения правительству» (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания, 1820–1870, т. 2. М.—Л., 1930, стр. 24).
…носили белые штаны. – Белые брюкибыли принадлежностью и парадного дворянского мундира, и парадной формы высших гражданских чинов.
…не имеет никакого понятия о борьбе христиносов с карлистами… – Борьба между этими политическими течениями в Испании привлекала пристальное внимание общественной мысли в России 30-70-х годов. (См. стр. 489 и 632 в т. 3 наст, изд.)
Египетская тьма– библейский образ ( Исход, X, 21–23).
…дореформенный предводительский тип возведен в перл создания даже такими<…> беллетристами, как Загоскин и Бегичев… – Очевидно, имеются в виду губернский предводитель Двинский из романа М. Н. Загоскина«Искуситель» – «человек справедливый, исполненный чести и готовый всегда и во всяком случае стать грудью за последнего дворянина своей губернии», сделавшийся во время восстания под предводительством Пугачева «грозою мятежников» (ч. I, гл. 2), и уездный предводитель Сундуков из хроники Д. Н. Бегичева«Семейство Холмских» – богатый помещик, хлебосол, владелец крепостного оркестра, хора и театра.
Я знал одного предводителя… – Ср. с рассказом о Федоре Васильевиче Струнникове в цикле «Пошехонская старина» («Предводитель Струнников»). О развитии в «Пошехонской старине» некоторых мотивов и образов «Пошехонских рассказов» см.: Н. В. Яковлев, «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Из наблюдений над работой писателя), М., 1958.
Пуле-о-крессон– цыпленок с салатом (франц.poulet aux cresson).
Уши́– курортный городок на швейцарской стороне Женевского озера (Салтыков побывал там в августе 1881 г.).
…лучше тысячу раз чужие деньги из кармана украсть, нежели один раз в политическое недоразумение впасть! – Тема уголовного преступления как гарантии политической благонадежности развита в «Современной идиллии».
Евиан(Эвиан) – курортный городок на французской стороне Женевского озера.
Пурбуары– чаевые (франц.pourboire).
…допускали замену в ратническом сапоге подошвы картоном<…> довольствовали ратников гнилыми сухарями. – Специально о казнокрадстве в связи со снаряжением ополчения в Крымскую войну Салтыковым написан очерк «Тяжелый год» (см. т. 11 наст. изд.).
Экономические крестьяне– иначе государственные, то есть не барские, не крепостные, переведенные в казну. Считались лично свободными, как и другие разряды государственных крестьян.
Комитет о раненых– был учрежден в 1814 г. для оказания вспомоществования лицам, получившим раны и увечья как во время военных действий, так и в мирное время при исполнении служебных обязанностей.
Пряжка за тридцать пять лет– знак отличия «беспорочной службы» в гражданских чинах, дублировавший орден Владимира 4-й степени, с той же цифрой (И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, стр. 117).
Перемазанцы– название раскольников-старообрядцев поповского толка.
Перекувырканцы(перекувырдыши) – бранное прозвище сектантов-перекрещенцев (анабаптистов).
Временное отделение. – Подразумевается временное отделениеземского суда. Образовывалось в составе земского исправника, местного станового пристава и уездного стряпчего и выезжало из уездного города (местопребывание земского суда) для расследования на местах важных дел.
…к празднику ленту дадут. – То есть орден Владимира, Станислава или Анны, которые носились на лентах (И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963, табл. XXXV, XXXVI, XXXVII).
Вечер третий. В трактире «Грачи» *
Впервые – ОЗ,1883, № 10 (время вып. в свет неизв.), стр. 567–598, под заглавием: «Пошехонские рассказы. Вечер третий. В трактире «Грачи».
При подготовке рассказа для Изд. 1885Салтыков внес в текст несколько дополнений. Приводим три варианта ОЗ.
К стр. 53. В середине абзаца «Разумеется…», после «…горечь обманутых надежд…», отсутствовали слова: «…и ожидание грядущей беды, в форме отставки или упразднения…»
К стр. 57. В абзаце: «– Еще бы вы…» – отсутствовала фраза: «Об том, чтоб у всех один план, одна мысль, одна забота… вот об чем!»
К стр. 59. Вместо абзаца: «– Не я, а власть имеющие» – было: «– Не я, а прочие».
«Вечер третий», в отличии от двух предыдущих, целиком посвящен характеристике новой полосы реакции, начавшейся вскоре после убийства народовольцами Александра II. Наступление реакции показано здесь отраженным в политическом быте и социальной психологии трех общественных групп. Собеседники «комнаты первой»персонифицируют высшую правительственную администрацию; собеседники «комнаты второй»– среду рядовой служилой интеллигенции, «комнаты третьей»– либерально-демократическую интеллигенцию.
Истории либерального бюрократа «Пугачева», сторонника среднего курса «Жюст мильё», и проводника жесткого курса «Вожделенского»(«Комната первая») показывают, как смена правительственной политики сказалась на судьбах влиятельных верхов бюрократии, содействуя падению одних деятелей и возвышению других, более подходящих к взятому курсу.
История чиновника «Павлинского»(«Комната вторая») демонстрирует ужасавшую Салтыкова податливость, с какою широкие круги общества, в данном случае служилой интеллигенции, еще недавно «либеральничавшие», уступают натиску реакции и ее добровольных «содействователей», вроде Скорпионоваи Тарантулова.
Наконец в истории «публициста и либрпансёра» Крамольникова(«Комната третья») Салтыков показывает, что наиболее жестоко и болезненно «новый курс» правительства ударил по «неспособной к предательству» идейной интеллигенции, прежде всего демократической, которая почувствовала себя словно «в тюрьме» и была поставлена перед необходимостью суровой самокритики и поиска новых путей действенной борьбы за передовой общественный идеал.
Прочитав полученную от Салтыкова 10-ю книжку «Отеч. записок» с «Вечером третьим», Белоголовый писал 9 ноября 1883 года из Ментоны в Лондон Лаврову: «Заключительная страница «Пошехонских рассказов» очень смелая и сильная штука, несмотря на то, что, как видно, была в цензурной переделке» [127]127
Центр. гос. архив Октябрьской революции, ф. П. Л. Лаврова, п. 22, лл. 116–117. Сообщено С. A. Maкашиным.
[Закрыть]. Оценка эта относится к речи Крамольникова и к содержащейся в ней страстной самокритике («Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки…» и далее).
Департамент Пересмотров и Преуспеяний, департамент Препон, департамент Оговорок– сатирические образы, обозначающие три курса правительственной политики 60-80-х гг.: либеральный, реакционно-охранительный и «средний» – либерально-консервативный.
…Жюстмильё<…> не требовал ни света, ни ежовых рукавиц<…> надеялся, что со временем все разъяснится. – Фамилия этого персонажа (от франц.juste – справедливый и milieu – середина) равнозначна фразеологизму «золотая середина».
…в последнее время<…> выяснилось, что преуспеяние есть преуспеяние, а препона есть препона. – Намек на манифест Александра III от 29 апреля 1881 г., составленный Победоносцевым и определивший общий курс правительственной политики. «Помимо формальной стороны появления нового манифеста, – писал Д. Милютин, – поразило нас и самое содержание его. Под оболочкою тяжелой риторической фразеологии ясно проглядывает главная цель – провозгласить торжественно, чтобы не ждали от самодержавной власти никаких уступок» (Милютин,стр. 63).








