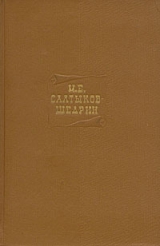
Текст книги "Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
Давненько-таки мы с ним не видались, хотя ни я, ни он не выезжали из Петербурга. Такая уж особенность нынешнего времени: люди исстари ведут дружбу и хлебосольство – и вдруг, словно под каким-то наитием взглянут друг на друга, мысленно молвят: – Эге! – и разом обрежут. В последний раз я виделся с Глумовым месяца три тому назад. Он зашел ко мне, и мы, по обыкновению, дружески беседовали. Тем не менее он как будто был озабочен. Ходил по комнате, напевал и вдруг, в то время когда я только начал излагать какой-то пошехонский анекдот, он совсем неожиданно прервал меня словами:
– Однако согласись, голубчик, что так нельзя!..
– Что такое нельзя?
– Нельзя все одну сторону медали показывать! Нельзя! Не такое нынче время!
Затем еще немного походил, восклицая: нельзя так! нельзя! – сыскал шапку и, сказав: мне, брат, по делу бежать надо! – словно в воду канул.
Впрочем я не оформализовался этою выходкой. Я знал, что Глумов любит на досуге «сцены из народного быта» рассказывать, и подумал, что он вспомнил какого-нибудь бесшабашного советника и изобразил его передо мной в лицах. Однако, дня через четыре, иду я по улице, вижу – Глумов навстречу плывет. Задумался, меня не замечает.
– Здравствуй! Замышляешь что-нибудь, – пошутил я ему в упор.
– Гм… да… здравствуй, брат, здравствуй… нет, я… я вот к сапожнику… извини! – пробормотал он как-то растерянно, словно сейчас проснулся.
И, не входя в дальнейшие разъяснения, юркнул в дверь сапожного магазина.
Заключительный очерк «Недоконченных бесед» – единственный в их составе, не прошедший сначала через страницы «Отеч. записок», запрещенных на апрельском номере 1884 года. Среди всего написанного Салтыковым, пожалуй, именно этот очерк с наибольшей непосредственностью выразил чувства писателя и редактора «Отеч. записок», вызванные крушением журнала. Проникнутый «своеобразным лиризмом» (Н. К. Михайловский) и горечью, очерк передает именно то состояние Салтыкова, которое в письме Н. А. Белоголовому определено так: «Как на полфразе застала меня катастрофа, так и остановилось» (23 июня 1884 г.).
«Одиночество» и «заброшенность», «охватившие» Салтыкова, о чем прямо сказано в очерке, были результатом глубокой гражданской, политической деморализации русского общества в период реакции 80-х годов: «Прежде, бывало, живот у меня заболит – с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам! а нынче вон, с божьей помощью, какой переворот! – и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов – ни один не отозвался <…> Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он – вон какой!» – читаем в письме к П. В. Анненкову от 3 мая 1884 года. Салтыков ожидал выражения не личных сочувствий: он справедливо воспринимал себя как деятеля,«который около сорока лет делал дело по мере разумения, не колеблясь и не предательствуя», как главу «единственного журнала, имевшего физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно», куда «наиболее талантливые люди шли <…> как в свой дом» (П. В. Анненкову, 26 мая). «Не ради удовлетворения пустому тщеславию я ожидал некоторых заявлений, а ради убеждения, что Пошехонье не все сплошь переполнено пошехонцами. К сожалению, это убеждение и теперь не составилось», – писал он 12 мая К. Д. Кавелину.
Но вместе с тем прощальная «беседа» Салтыкова выразила безграничную любовь к читателю, «единственной подстрекающей силе» литературной деятельности, любовь, признаниями в которой полны его письма этих месяцев: «я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее <…> Только и любил одно это полуотвлеченное существо, которое зовется читателем. И вот с ним-то меня разлучили» (А. Л. Боровиковскому, 17 мая).
Звучание авторского голоса, найденное в этом очерке, подготавливает тональность повествования одного из вершинных, этапных произведений Салтыкова в последний период его творчества – цикла «Мелочи жизни».
…ему не подсуден, а подсуден вон тому кавалеру… – агенту тайной политической полиции.
…бесшабашные советники– иронически обозначенные в сатире Салтыкова представители высшей бюрократии царизма. См. т. 14, стр. 559–560.
…в балаганы, где смотрели пьесу «Ермак Тимофеевич, или Покорение Сибири»… – Имеется в виду пьеса Н. А. Полевого «Ермак Тимофеевич, илиВолга и Сибирь. Драматическое представление» (СПб., 1845).
…под манифест бы подвели! – Приуроченные к торжественным датам царские манифестыобъявляли амнистию отдельным категориям преступников.
Слышали они, якобы книгопечатание прекратилось… – Принятые 27 августа 1882 г. «Временные правила о печати» должны были «усилить административное воздействие на печать».
Лучшую пору моей жизни я размыкал по губернским городам… – 1848–1855 гг. Салтыков провел в вятской ссылке-службе, в дальнейшем ему пришлось служить вице-губернатором в Рязани и Твери, управляющим казенной палатой в Пензенской, Тульской и Рязанской губерниях (1858–1861 и 1865–1868).
…читается слово Златоуста… – Имеется виду «Слово» Иоанна Златоуста, читаемое в православной церкви на пасхальной заутрене. Считалось образцом ораторского искусства.
Соломон или Дракон. – Салтыков иронически сблизил имена терпимого и мудрого царя, о котором повествует Библия (Третья кн. Царств), и сурового законодателя древних Афин, в 621 г. до н. э. сформулировавшего жестокие правовые нормы.
<В числе философских учений…> *
При жизни Салтыкова не печаталось. Впервые – ЛН,т. 11–12, М., 1933, стр. 350–351 (публикация Н. В. Яковлева, вступ. статья С. А. Ма-кашина), под заглавием «Пошехонье откликнулось…». В настоящем издании печатается по рукописи.
На принадлежность данного отрывка к «Пошехонским рассказам» указывают начальные строки рукописи, зачеркнутые автором:
Пошехонье откликнулось. На днях я получил от одного из местных аборигенов следующее письмо:
«В качестве обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев, считаю небесполезным отозваться на ваши рассказы, в которых, по правде сказать».
Этот текст, начальная фраза которого была взята для заглавия при его первой публикации, не единственно зачеркнутый в рукописи. Приводим еще два зачеркнутых места.
К стр. 287, после абзаца «Каким образом…»:
Прежде этот роман был ясен только для избранников, однако же справедливость и добро все-таки выполняли свою задачу; ныне, когда сознание добра проникло уже в самые глубины масс, победа его неизбежно должна принять еще более решительный характер.
К стр. 287–288, после абзаца «Но что важнее всего…»:
Пошехонцы всегда были сторонниками торжества добрых начал. Как только запахнет в воздухе «благими начинаниями» – сейчас они тут как тут. Ликуют, плещут руками, земли под собой не слышат. Но едва запахнет откуда-то гарью – они сейчас к сторонке. Стоят и недоумевают: как это так? все было хорошо и вдруг сделалось худо! В этом проходит вся их жизнь. Добро – приветствуют, зла – избегают. И ставят это себе в заслугу, гордятся этим. «Мы, говорят, в худых делах не участвуем, потому знаем, что это стыдно. А стоять и хлопать глазами – не стыдно».
Судя по первым вычеркнутым строкам рукописи, приведенным выше, непосредственным толчком к написанию данного текста явилось, действительно, какое-то читательское письмо, полученное Салтыковым от «обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев». По предположению С. А. Макашина, публикуемый текст следует, возможно, рассматривать как незаконченный набросок еще одного «вечера» из «Пошехонских рассказов», предназначавшегося для включения в отдельное издание цикла, быть может, в качестве своего рода послесловия к книге.
Между делом (Продолжение) *
При жизни Салтыкова напечатано не было. Впервые – ЛН,т. 11–12. М., 1933, стр. 307–312 (публикация Н. В. Яковлева). Печатается по рукописи.
Очерк задуман как продолжение четвертой главы и предназначался, по предположению Н. В. Яковлева, для ноябрьской или декабрьской книжки «Отеч. записок» 1875 года. Кроме черновой рукописи первой редакции, текст которой опубликован Н. В. Яковлевым полностью, начало очерка представлено еще и рукописью второй редакции. Вторая редакция, почти не отличаясь в начальной части от первой, имеет другое продолжение. Приводим вариант рукописи второй редакции.
Стр. 289, после абзаца: «Говорят: литература уклонилась от благородного пути…» – в рукописи следует:
Очевидно, дело заключается в том, что задачи новой литературы сделались яснее и строже. Литература не забавляет, не раздражает плотских вожделений, а напоминает о совести и призывает к самосознанию. Слова эти до такой степени необычны в сферах культурного слоя, что слабым культурным умом невольно овладевают смутные подозрения. Грезится, что культурной праздности готовится какой-то удар и что этот удар придет непременно оттуда, из недр той постылой и ненавистной литературы, которая вместе с неслыханными словами вводит в жизнь и неслыханные понятия. До сих пор литература блуждала в области, в области малой безделицы, изыскивала средства к улучшению ее быта, и только в исключительных случаях брала в руки лиру и восклицала:
О росс! о росс непо<бе>димый!
О твердокаменная грудь! —
и вдруг из высших сфер безделицы она спустилась в какую-то темную яму, и поставила себе задачей воззвать к жизни всех гадов, кишащих на дне ее! Зачем? загадочность этого перехода возбуждает недоумение; ум, развращенный обманами литературного сквернословия, не находит в себе достаточной силы, чтобы выдержать обличения действительности. Книга, которая в былые времена, была любезна культурному человеку, ибо распаляла его чувственность <1 слово нрзб.> становится для него постылою. Оставляя в стороне вопрос об опасностях, об угрозах нашествия новых варваров, он просто не находит в ней ничего подходящего к тому нравственному и умственному уровню, который выработало в нем полуторавековое культурное наслоение. И он бежит на улицу, в рестораны, в клубы, в дома терпимости – и всюду испускает целые потоки сквернословия. Сквернословия бессодержательного, даже бесцеремонного, но имеющего свойство гулко раздаваться по всем углам лесной чащи, которой непрерывные, хотя и не всегда видимые для глаз насаждения простираются «от хладных финских скал до пламенной Колхиды».
Тем не менее как ни бессодержательно это <1 слово нрзб.>, но влияние ее на литературу бесспорно и решительно. Ради ее она утопает в недомолвках и оговорках, ради ее она сохраняет езоповские формы иносказания. Ибо где же найдет она тот противовес, который дал бы ей средство держаться в борьбе с самозванцами культуры? Где тот читатель, настолько сильный, от которого она могла бы ждать для себя защиты и спасения?








